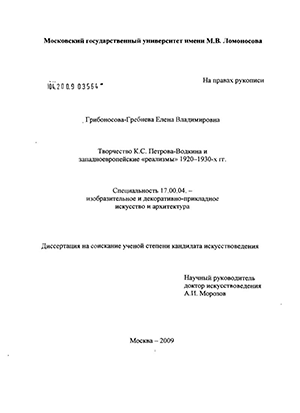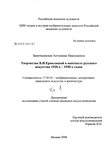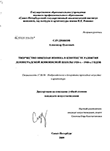Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. К.С. Петров-Водкин и «метафизическая живопись» 29
Примечания 79
Глава 2. К.С. Петров-Водкин в свете неоклассических и экспрессионистских тенденций 82
Примечания 156
Глава 3. К.С. Петров-Водкин и Вольфила: о некоторых эстетических и философских аспектах творчества художника 159
Примечания 174
Заключение. 176
Примечания 186
Список литературы 187
Принятые сокращения 199
- К.С. Петров-Водкин и «метафизическая живопись»
- К.С. Петров-Водкин в свете неоклассических и экспрессионистских тенденций
- К.С. Петров-Водкин и Вольфила: о некоторых эстетических и философских аспектах творчества художника
Введение к работе
Между соцреализмом и соцмодернизмом? К историографии и постановке вопроса В анализе отечественной художественной практики 1920-1930-х гг. существует противопоставление двух параллельно развивающихся, и, что подразумевается, достаточно независимых и отличных друг от друга явлений. Если первое из них в лице соцреализма уже давно нашло свое отражение на страницах различных исследований по истории искусства, то второе пока еще не столь популярно, а во многом даже и спорно, так как, видимо, не может выступать в качестве единственной серьезной альтернативы официальной линии соцреалистического искусства, а лишь привносит в него особые стилевые штрихи в контексте международной тенденции пост авангарда. Размышляя об этом феномене, В. Тупицын в конце 1990-х гг. сказал: «Не угодный ни ревнителям чистого авангарда, ни ценителям сталинского искусства, социалистический модернизм 30-х годов... существовал одновременно с соцреализмом, но, в отличие от него, сумел создать стиль. Архитектура первой линии московского метро, книжный и журнальный дизайн, плакаты, фотография и фотомонтаж, оформление выставочных павильонов и рабочих клубов - вот тот неполный перечень жанров, в которых работали соцмодернисты (такие, как поздний Клуцис, поздний Лисицкий, поздние Родченко и Степанова, Сенькин, Кулагина, Теленгатер, Петрусов, Грюнталь и многие другие»1.
Примечательно, что термин «соцмодернизм», хотя и без какоголибо развернутого комментария, попал и на страницы справочного издания, составленного В. Власовым и Н. Лукиной. Так, в разделе «Социалистический реализм» мы читаем: «В 1920-1930-х гг. в СССР, в отличие от во многом схожего искусства фашистской Германии, складывалось течение, которое иногда именуют соцмодернизмом. В его произведениях - архитектуре Московского метрополитена, Выставки достижений народного хозяйства, в кинофильмах и журнальной графике
• формировался "передовой" псевдостиль» . В отличие от В. Тупицына авторы статьи, видимо, не стремились вынести названное явление за скобки генеральной линии развития сталинского искусства и склонны были скорее отождествить его с этой линией, давая ему негативную оценку.
Однако, не вдаваясь в подробности данной проблематики, хотелось бы все же выяснить или предположить, каким образом в указанный период формировались подлинные стилевые открытия, которые мы обнаруживаем, например, у К.С. Петрова-Водкина, заведомо не принадлежавшего к названному лагерю и с самого начала своего творческого пути сознательно дистанцировавшегося от практики чистого авангардного творчества, во многом влиявшего на искусство соцмодернистов. Поэтому возникает закономерный вопрос: в рамках какого явления, выходящего или не выходящего за пределы развития официального искусства, правомернее всего рассматривать послереволюционную художественную систему Петрова-Водкина? Имеем ли мы, скажем, право полностью соотносить ее с практикой соцреализма, что нередко пытались делать отдельные авторы, или нам следует искать ее место среди многочисленных «реализмов», в том числе и зарубежных, явно или подспудно обогащающих собой напряженное поле взаимодействия соцреализма и соцмодернизма? Пытаясь решить поставленные вопросы, мы вплотную подходим к проблеме реализма и «реализмов» не только в отечественном, но отчасти и в западноевропейском искусстве.
В последние десятилетия в литературе по искусству многие ключевые стилевые категории все чаще рассматриваются с позиции подобной той, что была уже обозначена однажды Э. Панофским в его книге «Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада» . По аналогии с данной концепцией тема «реализм и "реализмы"» на материале европейского искусства 1920-1930-х гг. всесторонне анализировалась, например, в связи с широкомасштабной выставкой под названием «Les Realismes» (Реализмы), проходившей в Центре Помпиду в Париже с декабря 1980 по апрель 1981 г. На ней был широко представлен и серьезно осмыслен богатый спектр западноевропейских фигуративных тенденций в искусстве межвоенного времени, с известной долей условности поименованных «реализмами», учитывая их заметную удаленность как от классического реализма второй половины XIX века, так и от различного рода авангардных художественных практик, что однако не исключает и некоторых точек «касания» в ними. Среди этих «реализмов» следует, прежде всего, выделить итальянскую «метафизическую живопись» во главе с де Кирико, Карра и Моранди, существенно повлиявшую как на последующее движение «новеченто» в Италии, так и на французский сюрреализм. Затем стоит отметить неоклассицистическую тенденцию, ярко прозвучавшую в 1920-е годы в творчестве Пикассо, Дерена, Лота, Северини и других мастеров.
Заслуживают внимания и различного рода проявления немецкой экспрессивной линии в искусстве указанного периода, а также во многом наследовавшего ей, но и отчасти отрицавшего ее движения «новая вещественность».
В известном смысле отталкиваясь от этого события, о сложном взаимодействии «реализмов» старых и новых, наших и зарубежных, особо выделяя в российском искусстве импрессионистическую тенденцию, рассуждает А.И. Морозов сначала в статье 1998 г.
«"Реализмы" в русско-советском искусстве»4, а затем в большом монографическом труде уже 2007 г. «Соцреализм и реализм»5. Близкая к этому постановка вопроса прозвучала в книге А.К. Якимовича «Реализмы двадцатого века» , где заявлена и ярко представлена проблема сопряжения отечественной живописи 1916-1970-го гг. с разнообразными западноевропейскими «реализмами» того же времени.
Наметить весьма убедительный ряд «реализмов» в отечественной практике 1930-х годов удается и B.C. Манину, когда в своей книге «Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917-1941 гг.» он рассматривает основные тенденции искусства 1930-х гг.7 Примечательно также, что даже в структуру отнюдь не бесспорного сочинения Е. Деготь «Русское искусство XX века» включена глава, названная «Новые реализмы» и посвященная советской фигуративной живописи 1920-х гг.
Похожий принцип исследования был использован и B.C.
Турчиным в его докладе «Импрессионизм и импрессионизмы»9, где он, в частности, вполне обоснованно сказал следующее: «Термин "импрессионизм'4 — самый "дребезжащий" в истории искусства, самый уклончивый, самый распространенный в своем необязательном восприятии и употреблении, самый прихотливый и изменчивый, протеистичныи, порой аморфный и порой агрессивный...» .
Хочется заметить, что у термина «импрессионизм» есть поистине достойный конкурент, который, пожалуй, нисколько не уступает, а, быть может, и превосходит его по части уклончивости, распространенности, аморфности и агрессивности. И это, бесспорно, понятие «реализм». Чем полнее и глубже стараемся мы постичь это понятие, тем больше убеждаемся в его странной обращаемости, удивительной способности в одно и то же время описывать подчас диаметрально противоположные явления, быть неисчерпаемо многоликим и представать неизменным фантомом на страницах истории искусства.
В целом, основная проблема в рамках очерченной темы звучит, примерно, так: реализм или «реализмы»? Которая из двух составляющих этой оппозиции должна быть заключена в кавычки, когда мы ведем разговор о творчестве отдельного художника, пытаясь поместить его искусство в определенную стилевую нишу? Различные примеры западноевропейских «реализмов» 1920-1930-х гг., выступавших в роли и приемников классического реализма второй половины XIX в., и одновременно художественной альтернативы никогда не прерывавшейся на Западе в XX столетии линии абстрактного творческого высказывания, убеждают нас в том, что в кавычки попадают именно они, демонстрируя хотя и неоднозначную, но почти всегда высокую степень абстрагирования от действительности и тем самым частично переставая оправдывать свое название.
Что касается отечественной теории и практики, то ситуация здесь несколько иная, так как наши «реализмы», нередко находясь в тесном контакте с соцмодернизмом и формализмом, выявляют подчас более адекватную и тесную связь с реальностью, нежели их главный оппонент
• реализм социалистический, который, как известно, в советский период нередко играл роль таинственного заклинания, безоговорочного аргумента в профессиональном споре и приобретал статус истины в последней инстанции. Для художников же сплошь и рядом тайна этой загадочной магической формулы была одновременно и трудно достижима (ибо мало кому удавалось практически усвоить всю прихотливость и изменчивость этой художественной программы), и весьма притягательна (поскольку случавшиеся «удачи» на пути творческого осмысления соцреализма неизменно означали шумное общественное признание и щедрые материальные блага).
Стремясь сегодня дать объективную оценку социалистическому реализму, мы уже давно вынуждены согласиться с тем, что на самом деле он был прежде всего не вполне социалистический и совсем не реализм. Пытаясь всячески превзойти эстетические и этические ценности западного мира, воинствующий социализм советского толка продемонстрировал вкусы, которые, по точному определению А.К. Якимовича, «оказались ухудшенной версией самого дурного буржуазного вкуса вкупе с отчаянным идеологическим напором»11.
Кроме того, претендуя на статус социалистического, то есть, по сути, общественного, народного, демократического, реализм страны Советов чаще всего представал «в виде академической и самодовольной продукции для партийного высшего света и воспроизведения самых безотрадных свойств всякого придворного искусства — прежде всего соблюдения чиновного этикета и принципа "византийской" роскоши» .
Далее выясняется, что с реализмом как «свойством искусства воспроизводить истину действительности»13 здесь тоже не все было в порядке. Рассматривая названный феномен в широком международном контексте, А.К. Якимович справедливо подмечает следующее: «Магический реализм западных художников 30-х годов или современный ему советский соцреализм — это не такой реализм, который сам собой разумеется. То реализм в условном наклонении»14. А в другом месте, развивая данную мысль, тот же автор пишет: «Идеологический реализм советского типа добивался магической власти над миром и претендовал на умение запечатлевать чаемое и мечтаемое так, как если бы это было на самом деле. То была последовательная симуляция немыслимых истин, небывалых фактов и невозможных переживаний, симуляция жизненности старинного музейного искусства» .
В этой связи несложно заметить, что соцреализм, с начала 1930-х гг. претендующий на универсально всеобъемлющую роль в отечественном искусстве, на звание подлинного Реализма с большой буквы, на самом деле оказался не более, чем одним из примеров типичного во многом реакционного пост авангардного художественного проекта с такой же, как и у авангарда, претензией на тотальность. Проще говоря, в исторической перспективе он тоже оказался одним из «реализмов», каких немало знала история мирового искусства XX в., и какие под маской привычной фигуративности часто скрывали весьма двойственное и опосредованное отношение к реальности.
Однако, придерживаясь логики развития искусства 1920-1930-х гг., необходимо кое-что пояснить. Известно, что история отечественных «реализмов» начинается еще в 1920-е годы, когда искусство в СССР «подверглось «сплошной фигуративизации», инициатива которой исходила и сверху, и снизу»16. В советской науке этот процесс чаще всего описывался как «быстрое развитие реалистических направлений»17 и в целом оценивался положительно, правда только до тех пор, пока он протекал в рамках так называемой «борьбы за новый стиль», подразумевающей обретение искомого Реализма с большой буквы.
Эта борьба время от времени сопровождалась пафосными заявлениями вроде того, что было сделано в 1926 г. А.В. Луначарским: «Больше всего приходится учиться у мастеров реалистических эпох, ибо для выражения того содержания, которое нам присуще, нам нужен именно усиленный, необычайно впечатляющий, художественноидейный, стилизованный, то есть преображающий, волнующий реализм» . Но, на самом деле, большинство художников представителей «реалистических направлений» не столько боролись за подобный «впечатляющий» универсальный реализм, «основанный на мастерстве реалистических эпох», сколько средствами фигуративного искусства увлеченно создавали адекватный образ современности, опираясь в каждом конкретном случае как на внешние ориентиры (в виде, скажем, немецкого экспрессионизма), так и на собственный творческий багаж и индивидуальные художественные пристрастия. Так рождался, например, монтажно-конструктивистский реализм А. Дейнеки, экспрессионистически заостренный реализм Ю. Пименова, магически трагедийная реальность Лучишкина.
Однако, если названные авторы работали скорее в плоскости горизонтального исторического среза, то есть выстраивали свои художественные миры на сопряжении фигуративности с еще отчасти актуальными конструктивизмом и экспрессионизмом, тем самым, как бы, напрямую взаимодействуя с опытом авангарда, то другие художники предлагали различные варианты более сложных реалистических систем, опираясь при этом как на русские и зарубежные старые и новые традиции, так и на современную европейскую художественную практику. В результате, их искусство, отличавшееся исключительной творческой индивидуальностью, продолжало нести в себе всю неоднозначность и парадоксальность противоречивого опыта модернизма, изначально разворачивавшегося в оппозиции как по отношению к традиционному реализму XIX в., так и к осознающему себя в положении неприятия авангарда. Как раз одним из таких художников (наряду с В. Фаворским, Р. Фальком, П. Кузнецовым) синтезировавшим в своем творчестве самые разные, нередко разнонаправленные составляющие, был Кузьма Сергеевич ПетровВодкин.
Диапазон характеристик его живописного наследия широк и противоречив. Здесь можно встретить небезосновательное, на первый взгляд, суждение Д.В. Сарабьянова о том, что «на протяжении всего своего творчества Петров-Водкин» оставался «приверженцем символистского художественного мышления»19. Причем данное высказывание, прозвучавшее в контексте рассмотрения основных произведений мастера 1910-х гг., невольно свидетельствует и о качественном их предпочтении в рамках анализа совокупного творческого пути художника. Безусловно, суждения Сарабьянова точны и убедительны, но все же и они подчас вызывают вопросы.
Прежде всего, справедливо подчеркивая важную роль ПетроваВодкина в русском искусстве 1910-1920-х гг., ученый констатирует, что «его деятельность во многом предопределила длительность существования символизма в русской живописи» . Далее Сарабьянов очень верно характеризует особое место Петрова-Водкина, находящееся между в большей мере сюжетно обоснованным символизмом Врубеля и более «живописным» символизмом голуборозовцев. В книге «Русская живопись. Пробуждение памяти» читаем: «Несмотря на то, что ПетровВодкин прошел в своем формировании этапы, приблизительно схожие с теми, какие проходили голуборозовцы, его символизм имел другую окраску. Художник вновь обращался к литературной основе, к безусловной сюжетности, реализованной в четкой предметной форме.
Разумеется, сам сюжет приобретает чисто символический характер - его восприятие и постижение связаны с восхождением от видимого к трансцендентальному. Тем не менее само присутствие сюжетной основы отделяло Петрова-Водкина от большинства голуборозовцев» . Таким образом, Сарабьянов делает справедливый вывод о том, что мастер в конце-концов вырабатывает «свою систему, свой метод художественного претворения мира» .
Однако в подобной пространной и в общем справедливой оценке есть оттенок некоторой недосказанности, так как в итоге остается неясным, какова же все-таки стилистика этой символистской системы, ибо символизм исконно определяется лишь как направление, течение, представляющее разные стилевые тенденции эпохи конца XIX - начала XX в. (поздний романтизм, академизм, постимпрессионизм, модерн).
Кстати, в книге «Русская живопись среди европейских школ» Д.В. Сарабьянов удачно подмечает, что «образным "насыщением" модерна "занимался" символизм» .
В этой связи к мнению Сарабьянова прямо или косвенно присоединяются и другие исследователи творчества Петрова-Водкина, например Н.Л. Адаскина или отчасти Ю.А. Русаков, также склонные видеть в художнике устойчивого символиста, в советское время лишь оказавшегося в большей или меньшей степени подверженным воздействию неблагоприятных тенденций в культурной политике.
Если вспомнить художественную критику 1930-х гг., то ее авторы, писавшие о Петрове-Водкине, похоже, тоже склонны были относить его к символистам, однако, в отличие от выше упомянутых исследователей, вкладывали в это понятие отрицательное значение. Так, Н. Щекотов о работах Петрова-Водкина писал: «Иконописное разрешение пространственных отношений, нарочитая простота, иногда граничащая с \ манерностью в трактовке человеческой фигуры, наконец крайне условный абрис голов — все это иногда реставрирует художественные традиции средневековья, в то время как обычно умно и правдиво задуманное содержание картины говорит о близкой нам действительности. Художественный образ в таких случаях снижается в своей выразительности, и внешнее в нем начинает заслонять внутреннее»24. А Исаков, положительно оценивая присутствие актуальной для тех лет тематики в картинах Петрова-Водкина, дал в целом отрицательную характеристику стилистике его работ. «ПетроваВодкина, видимо, глубоко захватила проблема отражения глубочайшего переворота, произведенного в психике человека. Однако в самом методе работы художника, при наличии больших сдвигов в сторону жизненности и правдивости, оставалось еще так много неизжитой надуманности, что его прекрасные по замыслу картины остаются мало доходчивыми до зрителя»23.
В очевидном противоречии с таким подходом оказываются мнения тех исследователей, которые, наоборот, все лучшее, созданное Петровым-Водкиным, относят к послереволюционному периоду его творчества, не всегда укладывавшегося в рамки последовательно воплощенной символистской концепции. Например, А.С. Галушкина, автор первой монографии о художнике, поощрительно говорит, что «с первых же лет Великой пролетарской революции в творчестве ПетроваВодкина намечается эволюция в сторону отражения окружающей действительности» . А В.И. Костин, констатируя, что «в последний период жизни Петров-Водкин берется за осуществление наиболее сложных замыслов»27, утверждает затем, что «истинный расцвет творчества художника наступил после победы пролетариата» .
Что же касается творчества Петрова-Водкина 1910-х гг., то здесь доминирующая в наиболее значимых его произведениях стилистика модерна, сплавленная с неоклассикой и иконными реминисценциями, не вызывает сомнений, примером чему может служить картина «Купание красного коня» 1912 г. Если сравнить ее с будто бы похожей по сюжету и иконографии работой «Фантазия», написанной в 1925 г., то стилистическое различие станет очевидным: изменились масштаб, ритм, трактовка пространства, живописный и образный строй. При всей прежней символистской фантазийности образа красного коня изображение предметного мира в картине становится несколько иным.
Но каким? Более реалистическим? Однако с учетом всего сказанного вряд ли такой ответ правомерен, ибо по верному замечанию Д.В. Сарабьянова, «символизм выступал как антипод реализма, что и придавало ему программный характер и особую окраску» .
Подобный вопрос не вполне решается и тогда, когда мы обращаемся к работе Л.С. Балашовой «Эстетические концепции и русское искусство позднего символизма в контексте "нового религиозного сознания » . Так, справедливое выделение в русском искусстве периода позднего символизма, нашедшего последовательное отражение в духовно-эстетической и идейно-теоретической сфере отечественного искусства, оказывается не слишком способно высветить стилистическую природу его конкретных формальных проявлений.
Косвенным подтверждением этому является рассмотрение в одном ряду таких стилистически разных художников, как В. Кандинский, М. Ларионов, В. Чекрыгин, Л. Жегин, К. Петров-Водкин и др.
К решению поставленного вопроса можно подойти как бы с другой стороны. Если не вполне удается включить все творчество Петрова-Водкина в рамки его символистской концепции, окончательно сформировавшейся в 1910-е гг., то почему бы не попробовать обнаружить точки его соприкосновения с методом социалистического реализма, который мастер, как известно, настойчиво пытался осмыслить и претворить в своем искусстве 1930-х гг.. Оправданность подобного эксперимента, казалось бы, подтверждается на документальноисторическом уровне. Так, один из выступавших в мае 1933 г. на творческом вечере, посвященном Петрову-Водкину, сказал следующее: «В Кузьме Сергеевиче мы имеем замечательное явление, когда можно говорить о том, как на русской почве преломлялись всяческие влияния - и итальянское, и французское, - это, во-первых, и во-вторых, что здесь мы имеем борьбу за настоящий, за иллюзорный, за натуралистический реализм, который на сегодня позволяет нам строить и свое мировоззрение для того, чтобы прийти к тому, что мы называем социалистический реализм»31.
Похожим образом высказался и другой из выступавших - БелаУтиц: «...Петров-Водкин несмотря на свой возраст, сумел повести свое творчество рядом с революцией. Рассматривая его в 21 и 27 году, я обнаружил его рост и могу сказать, что это человек вдумчивый, который борется за пролетарское, за советское содержание. Он сумел связать свои взгляды на современную жизнь с нашей советской действительностью»32.
И словно подытоживая эти выступления, сам Петров-Водкин в своем заключительном слове сказал: «Я свой путь знаю, если бы не поганая моя болезнь, я знаю, что я подхожу к новому циклу, к новой фазе. Напитание зрителей с картины тем человеческим органическим содержанием, чтобы это не только веселило, радовало, но и органически действовало на их клетки, на их кровяные шарики»33. Анализируя эти слова художника, можно выделить два принципиальных момента: вопервых, Петров-Водкин, бесспорно, ощущал наступление особого творческого этапа в своем искусстве, и, во-вторых, его творческая энергия по-прежнему была окрашена столь характерной для искусства мастера пророческой страстностью. Учитывая при этом всегдашнюю обособленность его творческой индивидуальности, можно вспомнить слова Н. Бердяева о том, что «соединение одиночества и социальности есть основной признак пророческого призвания»34.
Впрочем, вряд ли этот новый в творчестве Петрова-Водкина этап правомерно рассматривать в контексте социалистического реализма, поскольку искусство этого художника даже в его поздних произведениях не отличалось такими столь необходимыми для эстетики соцреализма качествами, как натуроподобная «правдивость», «партийность», утопическая «перспективность» и неизменный «оптимизм». Кроме того, это пребывание Петрова-Водкина в каком-то странном «стилистическом регистре» (если использовать удачное выражение А. Якимовича) довольно часто озадачивало и настораживало его коллег, приверженцев официальной художественной доктрины. Так, на собрании членов ЛОСХа, посвященном творческому самоотчету Петрова-Водкина в апреле 1938 г., один из выступавших по фамилии Пинчук, анализируя картину «Тревога» 1934 г., заметил: «Что касается фигур, то получается какое-то несоответствие между фигурами и всем окружающим интерьером. Как будто все взято реально, но люди расставлены странно и какие-то они нереальные люди... У меня получилось такое впечатление, что в реальной обстановке нереальные люди» .
Здесь мы вплотную подходим к одному важному моменту.
Несмотря на уверенное заявление Кибрика, сделанное на упомянутом собрании членов ЛОСХа о том, что Петров-Водкин «является громадным мастером реалистического содержания, реалистического образа»36, вполне понятно, что перед нами некий «реализм в условном наклонении», по определению А. Якимовича. Однако, каков же все-таки характер этого «наклонения»? Вновь обращаясь к книге «Реализмы двадцатого века», мы обнаруживаем некоторую путаницу.
С одной стороны, определяя Петрова-Водкина как «мастера позднего символизма, пытавшегося внести в раннюю советскую живопись элементы мистического визионерства, окрашенного как трагическими, так и лирическими тонами»37, автор книги, скорее всего, имея в виду работы художника 1920-х гг. («Петроградская мадонна», «После боя», «Смерть комиссара» и др.), как бы закономерно вводит его искусство в орбиту западного магического и метафизического реализма 1920—1930-х гг., но репродукции соответствующих картин художника помещает в раздел под названием «идеологический реализм», понимая под последним смысловой эквивалент «реализма социалистического».
Причем данный визуальный ряд сопровождается следующим текстом: «Вот картины, в которых нам предлагают поверить в восторженные грезы о приближающемся всеобщем коммунистическом счастье и полной гармонии бытия /.../. Коллективные галлюцинации о великих победах и великих стройках, о неудержимой любви масс к вождям, о светлом упоении и экстатическом растворении советского человека в богатствах и красотах мироздания...»38. И прочее и прочее. В итоге автор делает закономерный вывод о том, что «идеологический реализм добивался магической власти над миром» .
Бесспорно, живописные опусы А. Герасимова, В. Ефанова, П. Котова и других полностью соответствуют такой интерпретации, но что касается картин Петрова-Водкина, то они вовсе не об этом. Напротив, живопись этого художника принципиально чужда утопическому магнетизму рационалистически построенных соцреалистических полотен. Она неизменно, даже в самых компромиссных его вещах несет в себе черты некой иррациональности, метафизичности, имеет оттенки особой странной над-мирности, над-реальности, то есть наделена теми образно-смысловыми качествами, которые в пластическом отношении провоцируют усиление композиционного противопоставления верха и низа, предмета (или фигуры) и пространства, яркого акцента и его сдержанного по цвету окружения.
Как бы мы ни определяли стилистическую картину и эволюцию творчества Петрова-Водкина, в силу неизбежных исторических обстоятельств его искусство в 1920-е и 1930-е гг. оказывается тесно связано с проблематикой отечественных «реализмов», взаимодействующих, в том числе, и с реализмом социалистическим.
Причем, если в 1920-е гг. его творчество вполне органично развивалось в ряду других «реализмов» того времени, то по отношению к 1930-м гг.
ситуация заметно осложняется. В этой связи приведенная выше и данная А.К. Якимовичем характеристика Петрова-Водкина как «мастера позднего символизма»40, довольно убедительная в отношении работ художника 1920-х гг., не выглядит вполне исчерпывающей и адекватной применительно к вещам последнего десятилетия его творческого пути.
Если также иметь в виду верное суждение Г.Ю. Стернина о том, что «художники, именуемые нами символистами — от Врубеля до Петрова-Водкина, — настойчиво занимались мифотворчеством и в этом смысле трансформировали действительность, стараясь выявить в ней универсальные законы и движущие силы бытия»41, то в произведениях Петрова-Водкина 1930-х гг. можно сразу уловить, во-первых, отсутствие в целом «элементов мистического визионерства», заметных ранее по необычному совмещению планов, отражающих мир видимого и переживаемого, использованию аномальной как бы «небесной» точки зрения, сферической перспективы и т.д., а, во-вторых, практически полный отход от прежнего религиозно-христианского мифотворчества и уникального обобщенно символического трансформирования действительности.
Вместо этого в лучших и в основном портретных и натюрмортных работах Петрова-Водкина тех лет, таких, например, как «Портрет писателя Андрея Белого» (1932 г., Ереван, Государственная картинная галерея Армении), «Портрет жены» (1934 г., Новосибирская картинная
галерея), «Дочь рыбака» (1934 г., Дальневосточный художественный
музей), «Девочка в лесу» (1938 г., ГРМ) и др., — мы видим обычный, почти обыденный взгляд на мир, полнейшее отсутствие планетарного размаха, характерного для предыдущих композиций художника, академически внимательную лепку формы, пристальную заботу о передаче объема и психологической характеристики героя картины, а также заметное снижение цветовой насыщенности. А что касается немногих в то время композиций, где еще в какой-то мере мы обнаруживаем обширный пространственный разворот и глубокая символичность замысла («1919 год. Тревога», 1934 г.; «Весна», 1935 г.), то они были сделаны на основе эскизов и набросков 1920-х гг.
Как же следует оценивать данные изменения в художественной системе мастера? Можно ли объяснить все лишь закономерным снижением творческого потенциала уже очень больного в те годы художника? (В 1932 г. из-за прогрессирующего туберкулеза легких он окончательно оставляет преподавание в Академии художеств).
Отдельные произведения этого времени столь искренни, убедительны и высоки по качеству, что не позволяют согласиться с подобным предположением. Тогда нельзя ли поставить вопрос иначе, используя удачное выражение Е. Деготь: может быть, Петров-Водкин, как это нередко бывало в 1930-е гг. со многими художниками, просто «подверг свою манеру натуралистическому самоуничтожению» 1 Однако искусство Петрова-Водкина того времени даже в своих самых спорных по качеству и компромиссных работах таких, как, скажем, «Семья командира» (1936-1937 гг., Тула, Областной художественный музей) или «Новоселье» (1937 г., ГТГ), оказывается все-таки достаточно дистанцировано от насаждаемой официозом эстетики мелочного натуроподобия и гипертрофированной чувственной экзальтации, что выгодно отличает его от окрашенных "живым" бытовизмом и овеянных эффектом непосредственного присутствия зрителя самых выдающихся "шедевров" соцреализма. Более того, избегая подобной интригующе увлекательной, но безнадежно фальшивой иллюзорности, искусство мастера становится в итоге действительно сопричастным и конгениальным своей эпохе, ибо оно основано на подлинной правде переживаний с горечью мудрого и трагичного осмысления действительности.
Трагедия же Петрова-Водкина, как, пожалуй, всякого большого художника, вынужденного работать в советское время, заключалась прежде всего в том страстном стремлении вступить в плодотворный творческий диалог с искусством социалистического реализма, чем были одержимы многие отечественные мастера 1930-х гг. Поначалу ПетровВодкин, всегда очень чуткий к голосу современности, с энтузиазмом откликнулся на поставленные, как он считал, самим временем перед художниками задачи, включающие, в том числе, и поиск особой соцреалистической стилистики.
Так, в типичном для 1930-х гг. печатном выступлении К.Ф. Юона читаем: «К задачам художника нашего времени относится таюке и искание новой эстетики, живой красоты социалистической действительности» . И далее: «Не возрождение бывшего, а рождение нового, рождение искусства нового качества по содержанию и по форме составляет смысл и существо искусства социалистического реализма» .
Отсюда вытекает, что проблема нового стиля всерьез волновала многих больших мастеров.
Но на самом деле, как это ни прискорбно констатировать, никакой внятной и убедительной концепции стилистики социалистического реализма в результате подобных интеллектуальных и творческих усилий не последовало. А вся проблематика становления и развития нового стиля сводилась в то время к очень схематичной и предельно политизированной оппозиции формализма и реализма. Известное' обобщение таких воззрений можно найти, например, в диссертации В.А. Суслова: «Несмотря на серьёзный кризис формализма и успехи реализма к 1927—28 годам, формалистические художественные взгляды продолжали оказывать сильное влияние на многих советских художников. Это выражалось, во-первых, в том, что после 1928 года продолжали существовать формалистические группировки (к одной из них — обществу «4 искусства» — принадлежал и К.С. Петров-Водкин. — Е.В. Г.-Г.), во-вторых, в том, что в ряде живописных произведений этого времени имело место антагонистическое противоречие между советской темой и формалистическими принципами её художественного решения («Смерть комиссара» К. Петрова-Водкина, «Оборона Петрограда» А. Дейнеки, «Октябрь» Герасимова и другие)»45.
В этой связи всегда стремясь доискиваться до последней сути вещей, Петров-Водкин так характеризовал сложившуюся ситуацию: «До предмета современный социалистический реализм полностью не дошел /.../. Что мы сейчас видим. Или срывание кинематографа или банальные типажи /. . ./я сам тоже ищу, но это не приходит /.../»46. И здесь важно иметь в виду, что, соответствуя иногда параметрам этого «реализма» в плане тематическом, искусство Петрова-Водкина явно выпадало из данного контекста в смысле конкретного образно-пластического решения.
Сегодня, объективно и непредвзято оценивая этот все же один из заметных «реализмов» XX в., мы понимаем, что искренние стилистические поиски Петрова-Водкина не могли привести к успеху.
Как выяснилось, искусству соцреализма были совершенно не нужны правда и глубина, то есть именно те качества, которые оказались особенно присущи поздним работам Петрова-Водкина. Это искусство требовало «правдивости» в смысле иллюзорного натуроподобия, «партийности» в смысле «открытого подчеркивания своих классовых целей», «перспективности» как чудесного «умения заглянуть в завтрашний день», а также «народности», «героичности», «оптимизма».
Между тем творчество Петрова-Водкина никогда не было натуралистично, не отличалось партийностью, всегда оставалось очень индивидуально в хорошем смысле этого слова, предельно чуждо плакатного романтического героизма и казенно понятого оптимизма. Не случайно художника так часто критиковали в 1930-е гг. за недостаток жизненной правдивости, «анемичность» персонажей его картин и т.п.
В целом, мы можем предварительно утверждать, что искусство Петрова-Водкина, оказываясь в ситуации неизбежного взаимодействия с программой и практикой социалистического реализма в 1930-е гг., несмотря на все проблемные аспекты этого взаимодействия, выходит на грань нового синтеза, органично совмещая в своих лучших проявлениях всю глубину и символичность его более ранних работ с возобладавшей впоследствии мудрой и мужественной трезвостью взгляда на мир настоящего реалиста.
Однако в поисках более точного определения того стилевого ракурса, в котором раскрывается для нас уникальная синтетичность водкинского реализма, необходимо в следующих двух главах подробнее рассмотреть творчество русского мастера в контексте уже упомянутых вначале наиболее влиятельных западноевропейских «реализмов» 1920- 1930-х годов, каковыми можно считать итальянскую «метафизическую школу» и ряд других неоклассических и реалистических тенденций во французском и немецком фигуративном искусстве в период между двумя мировыми войнами.
Кроме того, решению задачи о выявлении подлинной стилевой основы художественной системы Петрова-Водкина немало поможет и дополнительный анализ его философско-эстетических воззрений, предпринятый в третьей главе.
1 Тупицын В. «Другое» искусства. М., 1997. 8.
2 Власов В., Лукина Н. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический словарь. СПб., 2005. 241.
3 Panofsky Е. Renaissance and Renascences in Western Art. Stockholm, I960. См. издание на русском языке: Панофский Э. Ренессанс и «ренсссансы» в искусстве Запада /Пер. А.Г. Габричевского. М., 4 Морозов А.И. «Рсализмы» в русско-советском искусстве //Личность. Образование. Культура: Сб.
конференции в Институте «Открытое общество». Самара, 1998. 165—176.
5 Морозов А.И. Соцреализм и реализм. М., 2007.
6 См.: Якимович А.К. Рсализмы двадцатого века. М., 2000.
7 См.: Манин B.C. Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917—1941 гг. М., 1999.
8 См.: Дёготь Е. Русское искусство XX века. М., 2000.
9 Доклад B.C. Турчина был зачитан на ежегодной конференции «Випперовские чтения» в январе 2002 г. в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
1 0 Турчин B.C. Импрессионизм и импрсссионизмы. Доклад на ежегодной конференции «Випперовские чтения» в январе 2002 г. в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
11 Якимович А.К. Реализмы двадцатого века. М., 2000. 17.
1 2 Якимович А.К Там же. 15.
13 Словарь терминов изобразительного искусства «Аполлон». М, 1999. 500.
1 4 Якимович А.К. Реализмы XX века. 15.
1 5 Там же. 14.
1 6 Деготь Е. Русское искусство XX века. М., 2000. 120.
1 7 Борьба за реализм в искусстве 20-х годов. М., 1962. 7.
1 8 Луначарский А.В. Об изобразительном искусстве. М., 1967. Т. 2. 191.
1 9 Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX—начала XX века. М., 1993. 153.
2 0 Сарабьянов Д.В. К вопросу о символизме в русской живописи //Сарабьянов Д.В. Русская живопись.
Пробуждение памяти. М., 1998. 222.
2 1 Там же. 222.
2 2 Там же.
2 3 Сарабьянов Д.В. Русская живопись среди европейских школ. М , 1980. 203.
2 4 Щекотов Н. К.С. Петров-Водкин //Творчество. 1936. № 11. 4.
2 5 Исаков Памяти Кузьмы Сергеевича Пегрова-Водкина //Искусство. 1939. № 3. 134.
2 6 Галушкина АС. К.С. Петров-Водкин. М., 1936. 37.
2 7 Костин В.И. К С . Петров-Водкин. М., 1966. 133.
2 8 Костин В.И. Указ. соч. 148.
2 9 Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. 213.
3 0 Балашова Л.С. Эстетические концепции и русское искусство позднего символизма в контексте «нового религиозного сознания». Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2001.
3 1 В стенограмме творческого вечера указана фамилия выступавшего — «Гончаров». (РГАЛИ. Ф. 2010.
Оп. 2. Ед. хр. 44. 18).
3 2 Выступления на своих творческих вечерах в Московском и Ленинградском отделениях Союза советских художников. 1933-1938 //РГАЛИ. Ф. 2010. Оп. 2. Ед. хр. 44. 19.
3 3 Там же. 22.
3 ' Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. 210.
3 5 Собрание членов ЛОСХа, посвященное творческому самоотчету Петрова-Водкина. 5 апреля 1938 г.
//РГАЛИ. Ф. 2010. Оп. 2. Ед. хр. 44. 33-34.
3 6 Там же. 23.
3 7 Якимович А.К. Реализмы двадцатого века. М., 2000. 174.
3 8 Там же. 78.
3 9 Там же.
4 0 Там же. 174.
4 1 Стернин Г.Ю. Символизм в русском изобраз1ггельном искусстве: способы его идентификации и толкования //Искусство XX века: уходящая эпоха? Нгокний Новгород, 1997. Т. I. 33.
4 2 Деготь Е. Указ. соч. 147.
4 3 Юон К.Ф. О социалистическом реализме // К.Ф. Юон об искусстве /Сост. А.С. Галушкина. М., 1959.
Т.1. 163.
4 4 Там же. 166 4 5 Суслов В.А. Борьба за социалистический реализм в советской живописи в 1928—1933 годах.
Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1954. 7.
4 6 Петров-Водкин К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы /Сост. Е.Н. Селизарова. М., 1991.
К.С. Петров-Водкин и «метафизическая живопись»
В ряду европейских «реализмов» первой трети XX столетия «метафизическая живопись» занимает одну из центральных позиций. На этот факт давно и вполне справедливо указывают зарубежные исследователи. Приведём только несколько высказываний. Так, Роберт Мелвил говорит всего о двух великих итальянских школах второго десятилетия XX в., которые оказали значительное влияние на всё последующее итальянское искусство, — о футуризме и школе «Метафизика» (Scuola Metafisica)1. Ему вторит и Франческо Арканжели, замечая, что «пристального внимания в современной итальянской живописи заслуживают только два эпизода: футуризм и "метафизическая живопись"» . Если оставить в стороне увлечённую полемику между французами и итальянцами по поводу национальных корней живописи «метафизики», с чем обстоятельно можно познакомиться, например, в книге Г. Лазаро , то очевидно, что «метафизическая живопись» — порождение в основном итальянской художественной культуры.
В задачи данной главы не входит подробное освещение всего широчайшего спектра проблем и нюансов этого направления, в контексте избранной темы мы сосредоточимся лишь на творчестве важнейших его представителей — Джорджо де Кирико, Карло Карра и Джорджо Моранди. Их имена давно и прочно «закреплены» за «метафизической живописью», что нашло отражение даже в кратких справочных изданиях: скажем, в Оксфордском словаре по искусству можно прочитать, что «"метафизическая живопись" — это живописный стиль, открытый Кирико около 1913 года (часто эту дату, не без оснований, передвигают к 1910-1911 гг. — Е. Г.-Г.) и практиковавшийся им, Карра, Моранди и некоторыми другими итальянскими художниками примерно до 1920 года»4. Иногда верхнюю границу эволюции живописи «метафизиков» относят к концу 1920-х и даже к середине 1930-х, а движение «Новеченто итальяно» (образовалось в 1922 г.) рассматривают как наследника многих ключевых принципов «метафизической школы», что вполне оправданно, поскольку, наряду с ядром этой новой группы (Акилле Фуни, Марио Сирони и др.), на выставках «Новеченто» участвуют и названные выше мастера . Одним словом, в русле общеевропейского поворота от радикальных авангардных экспериментов к традиционной предметности «метафизическая живопись» действительно становится весьма значительным и авторитетным явлением.
Отметим, что феномен «метафизической живописи» интересует нас в данном случае не сам по себе, а в качестве сравнительной параллели творчеству одного из самых крупных и глубоких мастеров XX в. Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Хотя до сих пор такое сопоставление ещё не оказывалось предметом специального исследования, оно не выглядит уникальным. Можно вспомнить пример похожего ракурса в статье Т. Горячевой «Малевич и метафизическая живопись»6, где довольно удачно раскрыты интересные грани живописи Малевича через призму «метафизического» искусства Кирико и Карра. Однако основным стимулом для настоящего исследования стала отнюдь не научная «мода» на подобные сопоставления, а совершенно бесспорное наличие аналогий в творчестве Петрова-Водкина и европейских художников-«метафизиков» де Кирико и Карра, отчасти Моранди и Сирони, причём аналогий подчас более определённых и последовательных, чем в случае сравнения их искусства с творчеством Малевича. Дополнительный импульс для данного анализа придало также очевидное соотнесение итальянских «метафизиков» и Петрова Водкина в книге И. Голомштока «Тоталитарное искусство», который пишет: «...Символические фигуры на фоне аскетических городских пейзажей или в холодных интерьерах у Кузьмы Петрова-Водкина и у Карло Карра обладают сходной степенью стилизации (идущей, правда, у одного от итальянской живописи кватроченто, а у другого от древнерусской иконописи) и живут одной и той же "метафизической жизнью"»7.
Высказывание И. Голомштока не противоречит сути дела, но, бесспорно, нуждается в дополнительных разъяснениях и уточнениях. Удивительно, что при всей очевидности данной аналогии на сегодняшний день это чуть ли не единственный факт такого сравнения, если не считать отдалённой аллюзии в тексте Л. Мочалова, который говорит о «торжестве метафизически духовного в картине Петрова-Водкина "На линии огня"»8. В основном же почти абсолютная неотрефлексированность ситуации, когда даже сам термин «метафизическая живопись» крайне редко встречается в обширнейшей литературе о нашем мастере, объясняется не только давлением прежних идеологических норм, но и тем, что сам он не высказывался напрямую по поводу этого феномена, чем в значительной мере отменял подобный ракурс анализа у исследователей его творчества, часто весьма склонных опираться на пространные литературно-теоретические тексты художника.
Одно из самых удачных определений искусства мастера предложили А. и С. Даниэль: «Если в интернациональном семействе слов искать такое, которое неким целостным образом отразило бы существенные черты творчества Петрова-Водкина, то ближайшим представляется греческое "парадокс"» . В свете данного высказывания получается, что отсутствие у художника прямых суждений о живописи итальянских «метафизиков» тоже парадоксально, поскольку реальных возможностей для непосредственных контактов было вполне достаточно.
К.С. Петров-Водкин являлся постоянным участником многочисленных зарубежных выставок, в том числе Венецианских Биеннале: 14-й (1924 год), 16-й (1928 год), 18-й (1932 год), 19-й (1934 год)10. Благодаря усилиям Б. Терновца эти мероприятия хорошо освещались в советской печати. Так, подробно анализируя 14-ю Биеннале, Терновец, в частности, отмечает, что «многих останавливает строгий и глубокий Петров-Водкин», и далее, как бы намекая на возможные параллели творчества мастера с итальянским искусством, заключает: «При всей опасности быть необъективным приходится констатировать, что за исключением нескольких явлений итальянского павильона — Казорати, Оппи, Спадини, де Кирико, — весь остальной уровень выставки был, безусловно, ниже нашего павильона»11. Ещё" более широкий резонанс получило в итальянской прессе советское искусство на 16-й Биеннале. Во время её экспонирования фигура Петрова-Водкина довольно часто привлекала внимание критиков, а в статье Джузеппо Галасси, на которой подробно останавливается Б. Терновец, художник уже непосредственно сравнивается с итальянскими мастерами.
«Задерживаясь особенно на анализе Петрова-Водкина, Галасси находит, что его искусство, вышедшее из постсезаннистических и кубистических течений, ищет новых путей в стилизационных приёмах восточных икон. Галасси не без удивления констатирует, что созвучание элементов, столь разнородных, не только не вносит разноголосицу, но сообщает творчеству Петрова-Водкина характер поэтически оригинальный, хотя и не лишённый странности. Галасси анализирует колорит, композиционные и технические приёмы Петрова-Водкина, его тематику. Он заканчивает мыслью о близости нашего мастера к молодым художникам "novecento"» .
Петров-Водкин вряд ли мог не быть в курсе подобных отзывов, но в своих выступлениях ограничивается лишь замечанием о том, что «итальянцы очень упрашивали продать им»13 картину «Смерть комиссара», с большим успехом показанную на выставке. Косвенным объяснением такому немногословию может служить дата выступления, на котором прозвучало это замечание. В 1936 г. политическая ситуация в стране уже не располагала к каким-либо пространным дискуссиям по поводу современного зарубежного искусства.
Другая возможность встречи Петрова-Водкина с живописью итальянских «метафизиков» и близких им мастеров «Новеченто» могла неоднократно осуществиться уже непосредственно в России. Первостепенную роль в этом играла столица, где активную работу проводил Государственный музей нового западного искусства (ГМНЗИ). Прежде всего, надо отметить масштабные выставки, организуемые в музее: «Современное французское искусство» (лето 1928 г.), где участвовал де Кирико; выставку современного итальянского искусства (1931—1932 гг.), на которой были представлены в числе прочих работы де Кирико, Карра, Моранди. В 1928 г. в ГМНЗИ состоялось открытие зала итальянского рисунка, где был представлен и де Кирико, а в 1934-м был открыт новый отдел «Современное искусство Италии», где, естественно, показывались картины де Кирико, Моранди и др14.
К.С. Петров-Водкин в свете неоклассических и экспрессионистских тенденций
Существенно затронувшие французское и немецкое искусство и весьма значимые для развития европейского художественного процесса первых десятилетий XX в. тенденции неоклассики и экспрессионизма (а также связанного с ним постэкспрессионизма в лице, например, «новой вещественности») в разной пропорциональной степени нашли отражение в творчестве К.С. Петрова-Водкина. Однако, чтобы наглядно представить себе конкретную меру и профиль этого отражения, необходимо рассмотреть творчество русского мастера на фоне поистине опасного в своей неисчерпаемости водоворота соответствующих зарубежных творческих практик.
Среди исследователей отечественной живописи XX в. уже давно общепризнано, что французское искусство сыграло важную роль в творческом становлении и развитии К.С. Петрова-Водкина. Если общение с современным ему искусством Италии, и в частности, с живописью итальянских «метафизиков», было, по-видимому, заочным и крайне эпизодическим, то в случае с Францией перед нами совершенно иная и, на первый взгляд, предельно ясная и подробная картина. Хорошо известно, что прямые контакты Кузьмы Сергеевича с французским художественным миром начались еще до революции и первой мировой войны, почти сразу после окончания им Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Например, с мая 1906 по ноябрь 1908 г. он живет и работает в Париже, ненадолго выезжая в Северную Африку и на Пиренеи.
Не ослабевает интерес Петрова-Водкина к французской живописи и по возвращении его в Россию в конце 1908 г. Так, тесно соприкасаясь с выделявшимся своими французскими симпатиями объединением «Мир искусства», он продолжает внимательно следить за новейшими тенденциями французской живописной школы и, в частности, пристально знакомится с московским собранием СИ. Щукина. После окончания первой мировой войны уже в советское время Петров-Водкин, будучи вполне зрелым и авторитетным мастером, вновь попадает во французскую художественную среду, когда с августа 1924 по июль 1925 г. живет в Париже и Версале, направленный туда в командировку от Академии Художеств.
Однако в этой связи представляется удивительным то, что очевидные взаимосвязи и параллели в живописи Петрова-Водкина с французским искусством конца XIX—первой половины XX в. до сих пор не получили подробного и всестороннего отражения в отечественной искусствоведческой литературе, и поэтому наша якобы исчерпывающая осведомленность в этом вопросе на самом деле оказывается достаточно беглой и поверхностной. Правда, на сегодняшний день довольно хорошо изучена внешняя фактическая сторона этого процесса, между тем как характер стилистического взаимодействия внутри него прослежен лишь на уровне разрозненных эпизодических наблюдений. И как раз меньше всего проанализирован в этом смысле послереволюционный период творчества Петрова-Водкина, отмеченный как появлением многих его выдающихся работ, так и окончательным сложением его неповторимой авторской стилистики: вопрос только, какой именно?
Из потребности на этот закономерно возникший вопрос ответить, а также учитывая все сказанное выше, и определилась ключевая задача данной главы: более подробно и обстоятельно, чем это имело место до сих пор, рассмотреть искусство русского художника в контексте французских, а затем и немецких «реализмов» 1920-1930-х гг., одновременно пытаясь вскрыть многие не вполне проясненные стороны его творчества и обрисовать стилевые нюансы его живописных и отчасти графических работ. Интересно также понять, до конца ли исчерпывается облик и суть искусства Петрова-Водкина выявленным в предыдущей главе его примерным совпадением с итальянской «метафизической живописью» или в нем присутствуют и какие-то иные стилистические составляющие?
В ходе дальнейшего сравнения не стоит переоценивать некоторые сбивающие с толку петрово-водкинские высказывания, относящиеся, как правило, к последним годам его жизни: «Между прочим, обычно говорят: Петров-Водкин так любит французов и т.д. /.../ Ну какой я француз, с позволения сказать, каким хотят меня изобразить мои враги»1. Такие слова не столько передают реальные симпатии их автора в сфере творчества, сколько свидетельствуют об атмосфере сталинской эпохи, когда слишком явное внимание к западному искусству могло стоить художнику доброго имени, профессионального положения, свободы и даже самой жизни. Напротив, более ранние по времени источники, а также исследования последних лет свидетельствуют, что еще в дореволюционные годы К.С. Петров-Водкин наглядно продемонстрировал свою близость к некоторым принципиальным, интереснейшим явлениям французской живописи конца ХГХ—начала XX в., ставшим истоками многих тенденций во французской школе 1920-1930-х гг.. Например, общеизвестны переклички его искусства с живописью Сезанна, с академизированным романтизмом Пюви де Шаванна, просматриваются определенные параллели с символизмом Одилона Редона, Мориса Дени и отчасти Гогена. Не проходит он и мимо завоеваний фовизма в лице Матисса.
Сезанн преподал Петрову-Водкину, пожалуй, один из первых серьезных уроков живописного обобщения видимой реальности и преображения простой натуры в явление настоящего искусства. Свои сильнейшие впечатления от его натюрмортов, полученные еще в 1901 г. во время посещения французской выставки во дворце мюнхенского «Сецессиона», Петров-Водкин изложил позднее в книге «Пространство Эвклида»: «Цвет в этом натюрморте не являлся только наружным обозначением "кожи" предмета, нет, каким-то фокусом мастера он шел из глубины яблока; низлежащие краски уводили мое внимание вовнутрь предметной массы, одновременно разъясняя и тыловую часть, скрытую от зрителя. Последний эффект заключался в фоне: он замечательно был увязан с предметом»2. И далее русский художник задается вопросами, которые отчетливо характеризуют направление его ранних творческих поисков: «Как избежать при такой школе случайного, физиологического привкуса и легкомысленного эстетства? И почему, несмотря на чрезвычайную оригинальность этой школы, в ней не чувствуется декадентства, навешивающего на природу хлам людских настроений?»3
Интересно, что подобные яркие уроки сезанновского искусства были отнюдь не сразу усвоены молодым художником, и окончательно это произошло лишь после того, как Петров-Водкин в предреволюционные и в ближайшие послереволюционные годы прошел собственную школу натюрморта и научился органически переплавлять емкие живописные формулы Сезанна в универсально значимые и глубоко содержательные картинные образы. Так, в 1921 г. он пишет жене по поводу большой выставки в Третьяковской галерее: «Посещение музея, где я увидел мои картины и сравнил их с Сезанном, придало мне большую уверенность. «Мадонна Петрограда» так кротка, и столько в ней глубины, что ее успех в Москве вполне понятен»4.
С искусством Сезанна в ряду других французских художников мастер продолжал активно знакомиться, оказавшись в Париже в 1906-1908 гг. В одном из его писем того времени читаем: «/.../ Была выставка Сезанна в Салоне и по-моему таких художников, как Дегас, Гоген, Сезанн, чтоб их почувствовать верно и сильно, надо видеть в массе их работы, и тогда это так мощно действует — это единство направления души в их вещах, оно-то и дает общую сумму от религии данного автора»5. Но здесь же однако исподволь намечается и неизбежное расхождение Петрова-Водкина с одной из ключевых тенденций сезанновского искусства, идущей еще от импрессионизма и состоящей в «серийности», «цикличности» художественного выражения. Будучи по складу своего творческого темперамента, наоборот, художником предельно емкого семантически наполненного высказывания, Кузьма Петров-Водкин уже довольно скоро как бы перестает находить откровение в ученой «религии» Сезанна и активно ищет иные пути в искусстве. Но для начала он, охваченный жаждой новых жизненных впечатлений, испытывает острую потребность на время оставить, почти что по примеру Гогена, тесные рамки цивилизации и отправляется в Африку. «Весной ранней, когда зазеленели газоны Люксембургского сада, пришла ко мне неотвязная мысль об оторванности моей от земли. /.../ Допевались усталыми прекрасно начатые песни Гогена и Сезанна. Искали форму потерявшие Истину»6.
К.С. Петров-Водкин и Вольфила: о некоторых эстетических и философских аспектах творчества художника
Безусловная включенность К.С. Петрова-Водкина в общеевропейский контекст развития искусства все же не снимает, а наоборот, обостряет проблему прояснения наиболее принципиальных философско-эстетических аспектов его творчества1, без которых сложно до конца понять его узнаваемую авторскую стилистику. И здесь приходится несколько отвлечься от рассмотрения внешних векторов и аналогий для того, чтобы внимательнее осмыслить внутренне значимые факторы, существенно повлиявшие на сложение его собственной творческой «идеологии», во многом обусловившие определенную независимость мастера от официальной советской художественной линии (но одновременно и придавшие его мировосприятию отчасти европейский «профиль»). Факторы эти связаны с выявлением основных духовно-мировоззренческих составляющих его искусства.
Когда начинаешь внимательно знакомиться с обширнейшим корпусом литературы, посвященной Петрову-Водкину, то не перестает удивлять один странный момент. Дело в том, что неоднократно и единодушно подчеркивая глубину содержания и особую философичность произведений художника, авторы книг и статей о нем крайне редко пытаются внятно прояснить конкретные составляющие его философских взглядов. Даже такие крупные знатоки его творчества, как, например, Ю.А. Русаков или Н.Л. Адаскина, нередко останавливаются в этом вопросе на уровне самых общих формулировок. Так, бесспорно, верное суждение Ю.А. Русакова, высказанное им во вступительной статье к автобиографической прозе Петрова-Водкина, все же вызывает больше вопросов, нежели дает ответов: «Петров-Водкин никогда не сводит содержание своей картины к отображению единичного события, как бы значительно оно само по себе ни было, никогда не переходит на позиции иллюстратора исторических фактов. Он всегда - и в этом подлинная духовная ценность его искусства - остается на высотах больших философских обобщений, всегда дает свое истолкование большой человеческой проблемы»2.
К сожалению, не вполне раскрывает подобные вопросы и Н.Л. Адаскина (здесь необходимо напомнить уже использованное в первой главе ее высказывание), когда в одной из своих статей, посвященной раннему творчеству художника, удачно подмечает следующее: «Мне представляется, что, несмотря на несомненную самобытность Петрова-Водкина, которая на все накладывала неповторимый оттенок, его взгляды и философия в целом были довольно обычны для 1900-1910-х годов. Это была своеобразная смесь символизма и ницшеанства, может быть, полученных не из первых рук» .
В этих и других подобных высказываниях довольно сложно понять, что имеют в виду авторы под «большими философскими обобщениями» или «своеобразной смесью символизма и ницшеанства». На сегодняшний день можно выделить, пожалуй, лишь две работы, в которых предпринята попытка серьезно проанализировать философские воззрения Петрова-Водкина. Одна из них, к сожалению, не опубликованная (хотя отдельные положения работы и были отчасти развиты в более поздней статье ), - это хранящийся в Архиве Академии Художеств в Петербурге и написанный в 1992 г. диплом СИ. Кулаковой под названием: «Религиозно-философские взгляды К.С. Петрова-Водкина и их отражение в самаркандском периоде творчества (июль-октябрь 1921 года)» . Для решения своей задачи автор диплома совершенно верно включает в основной круг источников, прежде всего, рукописи докладов и лекций художника, относящиеся к 1919-1921 гг.
Затем в работе делаются, в общем, верные, хотя и не вполне обоснованные выводы относительно противоречивого совмещения во взглядах Петрова-Водкина христианства и язычества, науки и религии, реального с идеальным, зримого со сверхчувственным, телесного с духовным, человеческого начала с божественным, а также констатируется уникальное и органичное преодоление этих противоречий в его искусстве.
Не лишено оснований и высказанное в дипломе суждение о том, что «взгляд Петрова-Водкина на человека как на космическую форму, еще не закончившую свое развитие, стремящуюся к совершенствованию себя и мира на пути к Истине и Богу, подобен взгляду эволюционных космистов». Во многом оправдано и включение имени художника в ряд таких ученых и философов, как Н.Ф. Федоров, А.В. Сухово-Кобылин, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.К. Рерих6.
Однако, при всех бесспорных достоинствах, данная работа тоже не снимает некоторых проблем. Прежде всего, не достаточно проясняется, почему именно в 1919-1921 гг. появляется большинство теоретических работ Петрова-Водкина. Далее, не вполне найдены пропорции соотнесения таких масштабных философских категорий, как «Истина» и «Абсолют», с мировоззренческими представлениями художника, в результате чего его воззрения все же не достаточно убедительно, несмотря на явные старания автора, сопрягаются с академической философской традицией и не слишком органично раскрываются на примере его искусства.
Но больше всего огорчает, что в работе остается практически не затронутым анализ взаимодействия Петрова-Водкина с исторически конкретной культурно-философской средой, в то время как именно она стала непосредственной точкой отсчета многих принципиальных философских аспектов его теоретического и художественного творчества, особенно применительно к его искусству 1920-1930-х гг.
И здесь можно с уверенностью сказать, что такой средой, ставшей для Петрова-Водкина и источником сложения его ключевых воззрений, и сферой отработки многих его теорий, и настоящей школой в нелегком процессе постижения мира и человека явилась Вольная Философская Ассоциация (сокращенно Вольфила), начавшая свою деятельность в Петрограде в ноябре 1919 г. и окончательно закрытая в 1924 г. Накопленный к тому времени немалый философско-теоретический потенциал Петрова-Водкина подтверждается, кроме всего прочего, еще и тем, что он был одним из членов-учредителей Вольфилы, наряду с А.Белым, А.Блоком, Р.Ивановым-Разумником, Л.Шестовым, В.Мейерхольдом, А.Штейнбергом, К.Эрбергом и др. На открытых воскресных заседаниях Вольфилы изначально предполагалось не только обсуждать и анализировать многие аспекты в истории мировой мысли, но и давать отклик на «все волнующие современность вопросы» в различных областях философии, культуры, политики .
Кстати, на плодотворное взаимодействие вольфильского климата и мировоззренческих поисков Петрова-Водкина указывает А.И. Мазаев, автор другой работы, во многом проливающей свет на закономерности формирования эстетико-философских взглядов художника8. На страницах ее текста убедительно раскрывается влияние древнерусской «расчищенной» иконы в середине 1910-х гг., мистически-религиозных настроений «младосимволистов» (Ал. Блок, Вяч. Иванов, А. Белый), а также аналитического восприятия творчества Врубеля на приобщение Петрова-Водкина к «соловьевской» идее «теургического искусства» и сложение «истинного» символизма в его художественной системе, имевшей к Вольфиле самое прямое отношение. «В Вольфиле, атмосфера которой отличалась необычайно высоким интеллектуальным уровнем, и произошло окончательное оформление художественной системы Петрова-Водкина, а сама эта система, если оценивать ее с эстетико-мировоззренческой точки зрения, предстала своего рода художественным манифестом "революции духа"»9. Тем не менее, вспоминая о Вольфиле, в основном, лишь в связи с необходимостью объяснить восприятие Петровым-Водкиным Октябрьского переворота в духе сформулированной Ивановым-Разумником концепции «духовной революции», Мазаев уделяет явно недостаточное внимание как более полному раскрытию принципов деятельности этой организации, так и преломлению разнообразного спектра ее идей в творческой практике Петрова-Водкина.
Между тем, хотя Вольфила в то время была не единственным свободным философским обществом, ее можно без преувеличения назвать уникальным порождением своей эпохи. О побудительных мотивах ее создания хорошо говорит в 1922 г. Иванов-Разумник: «Дорога печатного слова была закрыта - оставалось обратиться к слову живому. Так зародилась в конце 1918 года идея Вольной Философской Академии, впоследствии переименованной в Ассоциацию»10. А несколько ранее, в ноябре 1920 г., на одном из заседаний Вольфилы, посвященном Платону, тот же Иванов-Разумник так определял задачи и принципы деятельности Вольфилы: «Нашу эпоху нельзя не назвать великой эпохой, во всяком случае, эпохой великих начинаний. Как бы нам ни казались трудны будни, мы из-за будней не можем забыть «дней революции прекрасное начало». И в нашу эпоху «на поприще ума» нельзя нам отступать, нужен живой обмен мнений, и как раз того же характера, который был нужен в эпоху расцвета гуманизма. Должна быть такая же Вольная Философская Академия, как Академия XV века, куда по праву включены и поэт, и художник. Основным базисом для такого сотрудничества и является сейчас Вольфила» .