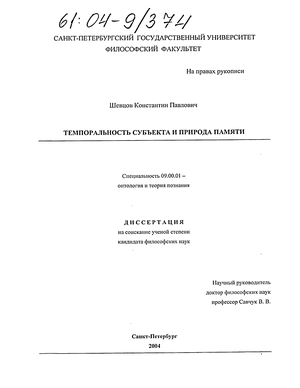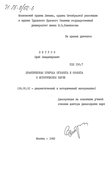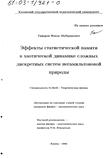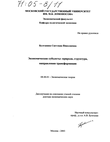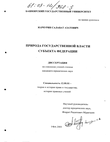Содержание к диссертации
Введение
Раздел I. Синтез временных модальностей .
Глава 1. Концепция длительности А.Бергсона
Глава 2, Феноменология временности Э.Гуссерля
Глава 3. История памяти
Раздел II. Миемические акты в целостности актов сознания
Глава 4. Память как условие восприятия и воображения
Глава 5. Смысл припоминания
Глава 6. Возможности выражения
Раздел III. Языковые структуры памяти
Глава 7. Знаки, последовательность артикуляции и рассказ
Заключение.
Библиография
Приложение
- Концепция длительности А.Бергсона
- Феноменология временности Э.Гуссерля
- Память как условие восприятия и воображения
- Знаки, последовательность артикуляции и рассказ
Введение к работе
Актуальность исследования. Об актуальности проблемы памяти говорит уже то множество контекстов, в которых мы сегодня сталкиваемся с этим понятием. Так, например, говорится о памяти культурной, социальной, этнической. Электронная память определяет мощность и быстродействие современной техники. Сегодня несомненно возрождение интереса к памяти, которая обращена к традиции, истокам, и, следовательно, определенной культурной, национальной, геополитической идентификации. Вместе с тем проблема памяти — традиционная тема философии, ее неизменный спутник или ее другой, удерживающий и архивирующий вопросы, возникающие внутри различных философских концепций. Но обращение к философскому исследованию памяти наталкивает нас на серьезные трудности, в числе которых определение взаимосвязи памяти и мышления. Эти трудности были предметом исследования во многих философских системах1. Глубоко и подробно они рассматриваются также и у современных авторов. Можно сослаться на мнение современного исследователя, согласно которому все попытки прояснить эту взаимосвязь неизменно приводят к выявлению прямо противоположных позиций: «мыслительные процессы то идентифицируются с мнемическими, то рассматриваются изолировано от них»2.
Очевидно, что прошлый опыт, удерживаемый памятью, имеет важнейшее значение для когнитивных процессов, предоставляет в их распоряжение определенные модели мысли и действия, устойчивые и открытые новым обстоятельствам, позволяющие ориентироваться не
1 См.налр. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.З. Философия духа. М, 1977. СЗОб.
2 Шилков IO.M. Гносеологические аспекты мыслительной деятельности. С-Пб.: Изд. С-
Петербургского университета, 1992. С. 124.
только в настоящем, но и предвидеть также наиболее вероятные варианты будущих событий. Вместе с тем уже в этом понятии прошлого опыта кроется значительная трудность. Память принципиально отделяется от какого-либо собственного знания в пользу опыта приобретенного ранее (и как бы еще без ее участия), который она и должна сохранять в его чистоте, будь то созерцание идеального мира (Платон), чистые трансцендентальные созерцания (Э. Гуссерль), зов бытия (М. Хайдеггер), данные непосредственного восприятия. Но оказывается, что она обладает также еще и неким собственным квазизнанием прошлого, замутняющим ясность интуиции, связанным с отпадением от истины, с предрассудками, унаследованными от прошлого (Ф. Бэкон), вытеснением и забыванием (3. Фрейд), потенциальностью или виртуальностью своих способов хранения.
Это знание есть знание временности человеческого бытия. И хотя оно обнаруживает эту временность как конечность человека, возможностей его познания мира и себя самого, только оно приоткрывает нам нечто о самом времени и, следовательно, только оно и наделяет самой возможностью мысли и действия, проживания и освоения нового, обращения не только к наличному данному, но также и к тому, что только наступает как становящееся, больше будущее, чем настоящее или прошлое. Память открывает способность сознания не только удерживать и воскрешать прошлый опыт, но также и активно перерабатывать его. Исследование памяти в связи с временной структурой человеческой деятельности (как теоретической, так и практической) является наиболее актуальным для философского истолкования мнемических процессов, их места в сложной взаимосвязи актов сознания, структур бессознательного.
Временность определяет прежде всего природу человеческой деятельности, практики с принадлежащей ей динамическими моделями привычного, автоматизированного действия и схемами поиска,
овладения новыми обстоятельствами. Временность, таким образом, указывает не только на необратимость действия, принципиальную не(пред)определенность наступающего, его недетерминированность прошлым или настоящим, но также и на то, что сама эта неопределенность так или иначе освоена человеком, поскольку в памяти прошлое удерживается именно как открытая возможность нового. Памяти известна прежде всего природа становления, трансформации, принадлежащая временным процессам, и в этом смысле возникает необходимость исследовать практические схемы ориентации во времени и модели действия в связи с теми исходными синтезами обращения, преобразования реального в возможное, которые как раз и осуществляются памятью. Присущие памяти способы сохранения, виртуализации информации являются оборотной стороной этой открытости новому, предоставления себя другому, еще только возникающему, неустановившемуся. Такое предоставление места другому, в том числе и другому человеку, поскольку его присутствие открывается в непрерывности процесса сообщения, как раз и должно быть рассмотрено как сущность динамических схем, принадлежащих человеческой практике и существующих, прежде всего, в качестве структур памяти.
Исследование темпоральной природы сознания позволяет глубже проанализировать природу рефлексивности субъекта, его открытости себе самому. В противовес чистой, симультанной открытости, гарантирующей устойчивость формальных принципов мышления (даже в том случае, когда их основание полагается не в сознании, а в структурированном так или иначе бессознательном), временность открывается через ориентации на другое, множественное, через стратегии обмена с другим, потери, забывания, в том числе и восприятие себя самого на фоне оттесненного, отодвинутого прошлого. Память
выступает условием такой открытости, существенным фактором становления субъекта, процессов его обучения и воспитания. Исследование памяти в этом направлении позволяет отыскать единство условий уже не только практической, но также и теоретической деятельности, по отношению к которой ее роль не может рассматриваться только лишь как вспомогательная, фиксирующая, но также и как активная, формирующая само поле субъективности, обращенной от своих практических знаний к построению тех или иных моделей теоретического познания.
Все это позволяет считать актуальным философское исследование памяти, берущее в рассмотрение прежде всего ее связь с темпоральностью человеческого существования. Более того, в таком ракурсе собственно философской заслугой нужно считать не следование сложившимся представлениям о различии и иерархии подходов к сознанию, таких как чисто инструментальный, интенциональный, коммуникативный подходы, но скорее обоснование такого подхода, при котором все эти грани деятельности сознания будут связаны как равноисходные, в равной степени фундаментальные для самоопределения субъекта.
Степень разработанности темы. В качестве одной из основополагающих способностей человека память и ее структуры привлекали к себе внимание в продолжении всей истории философской мысли, начиная с открытия принципов искусной памяти (что получило впоследствии наименование мнемотехники), по времени совпадающим с появлением первых философских школ, практики анамнесиса в пифагорейских школах и дальше через платоновскую концепцию припоминания, учение Аристотеля о душе и риторическую традицию, совершенствовавшую приемы мнемотехники. В Новое время интерес к
проблеме памяти в значительной степени был оттеснен активной разработкой вопросов, связанных с методом познания, априорных или же апостериорных условий получения, уточнения, апробирования новых знаний- Вместе с тем продолжают исследоваться функции памяти в процессе познания, а также в более общей проблематике диалектики духа. Но память здесь рассматривается прежде всего как предмет изучения психологии. Именно в психологии во второй половине XIX века с началом применения экспериментальных методов исследование памяти обогащается множеством данных и становится полем проработки многих возникающих в это время психологических направлений и концепций (Т.Рибо, Г.Эббингауз, П.Жане, Д.Уотсон, З.Фрейд, КЛевин, Б.В.Зейгарник). Активные попытки систематизации данных о природе, структуре и стратификации памяти предпринимаются во второй половине XX века, в особенности в связи с проникновением в психологию принципов теории информации и бурным развитием когнитивной психологии (Д.Норман, ПЛиндсей, Р.Аткинсон, Р.Солсо, Ц.Флорес).
В отечественной науке особое внимание проблемам, связанным со
спецификой мнемических структур, их взаимодействия с другими
когнитивными, познавательными, эмотивными структурами психики, а
так же вопросу об их генезисе, уделено в работах Н.А. Бернпггейна,
«культурно-исторической» школы, связанной с именами Л.С.
Выготского, А.РЛурия, А.НЛеонтьева, П.И.Зинченко, наконец, в традиции санкт-петербургской и ленинградской психологической школы, представленной трудами И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, Л.М.Веккера.
При всей значимости многочисленных психологических исследований, результаты собственно философского анализа памяти представляется гораздо более скромным. Судьба философского
обращения к памяти в значительной степени определяется той трудностью, которая заключается в понимании памяти как хранителя прошлого опыта и, следовательно, того прошлого знания, которое отторгается от субъекта или даже вообще стирается собственным квазизнанием памяти - самим «прошедшим» как средой становления, изменения, потери, забывания или искажения, фальсификации. Уже Платон в связи с этим вынужден вводить двойную концепцию памяти — во-первых, той, которая возвращает к созерцанию идеального мира, к начальному (еще не нуждающемуся ни в каком припоминании) опыту истины, и, во-вторых, той, которая связана с забыванием, с необходимостью письма, которой больше соответствует не одержимость вдохновения, а необузданность становления, непредсказуемость мгновенного «вдруг», переход из одного состояния бытия в другое.
В Новое время проблема метода вытесняет философскую проблематизацию памяти. Однако развитие психологических и психоаналитических исследований памяти к началу XX века создают условия для возрождения интереса к памяти и связанной с ней проблематике. Речь идет, прежде всего, о философии времени А.Бергсона и Э.Гуссерля, которые подчеркивают значение темпоральности и, соответственно, памяти в качестве условия осуществления когнитивных актов. Память, поскольку она участвует в исходном структурировании временного потока, выступает существенным условием целостности этих актов, а в философии Бергсона - также и условием предметной наполненности всякого конкретного представления. Целостность и наполненность определяют здесь не формальные характеристики актов, которые могут быть исследованы также и экспериментальными методами психологии, но философское понимание места памяти в структуре субъективности,
поскольку субъект осуществляет внутреннюю взаимосвязь, целостность самого временного потока.
Большое значение для разработки проблемы памяти имеет хайдеггеровская аналитика Dasein. Временность Dasein предполагает, что выделяемые Хайдегтером экзистенциалы необходимо отсылают именно к той работе по собиранию и удержанию субъективности, которую осуществляет память. Прежде всего, это касается такой фундаментальной расположенности Dasein как ужас, поскольку это состояние по существу вырывает из настоящего, его ориентации и знаний, и может быть пережито, обжито, а также и осмысленно, лишь с привлечением того «знания», которым обладает память. Проблематика памяти здесь определенным образом перекликается и взаимодействует с хайдеггеровскилш понятиями бытия-в-мире, открытости, предпонимания.
Для философского исследования памяти существенное значение имеют методы анализа и концептуальный аппарат, выработанные в рамках психоаналитических исследований З.Фрейда, К.Юнга, О.Ранка, М.Кляйн, ЖЛакана. Для нашего исследования важным прежде всего является фрейдовский анализ языка сновидений, с помощью которого ему удается показать своеобразие самоистолкования, осуществляемого памятью за «порогом чувствительности» субъекта, проявляющееся только в его отношении (обращении) к другому, желании другого. Большое значение имеют проанализированные Фрейдом явления отыгрывания и навязчивого повторения, оговорки и забывания слов. Лакан указывает на структурированность бессознательного как особого дискурса, который определяет природу субъекта как историю, точнее, как симптом, означающее такой истории. Таким образом, память предстает здесь как активный механизм, перерабатывающий информацию, откладывающий, отсеивающий, переворачивающий ее в соответствии с собственными моделями. Такому взгляду в значительной
степени соотвествуют и подходы к памяти в современной (прежде всего, в когнитивной) психологии, а так же в постструктуралистской философии, в той мере, в которой ее проблематика пересекается с проблематикой памяти, как, например, в разработке темы повторения и различия у Ж.Делеза или следа у Ж.Деррида. Стоит отметить также исследование П.Бурдье, посвященное природе практического чувства, подчеркивающее темпоральную природу практической деятельности и значение памяти для организации как индивидуальной, так и социальной практики.
В диссертации принимаются во внимание результаты отечественных исследований философии сознания, а так же специальных проблем, связанных с проблемой памяти, представленные в трудах М.М.Бахтина, B.C. Библера, С.С.Гусева, Н.ОЛосского, А.Ф. Лосева, Б.В.Маркова, Ю.Б.Молчанова, Н.В. Мотрошиловой, В.АЛодороги, В.В.Савчука, К.А.Свасьяна, Я.А. Слинина, В.С.Соловьева, Г.А.Тульчинского, П.А.Флоренского, Ю.М.Шилкова.
Итак, можно сделать вывод о значительной разработанности темы памяти в самых различных ее аспектах и приложениях. Тем не менее, даже там, где анализ памяти ставит целью опрокинуть традиционные фигуры представления, знания, cogito, философская разработка феномена памяти остается принципиально неполной, разобщенной в отношении своих посылок, принципов анализа, выдвигаемых целей и методов их достижения.
Цель и основные задачи исследования. Основная цель исследования состоит в раскрытии тех свойств памяти, которые выражают временную природу сознания и человеческой деятельности. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач.
Во-первых, определить место и роль памяти во взаимосвязи темпоральных структур сознания.
Во-вторых, выявить характер взаимозависимости перцептивных процессов, воображения и памяти субъекта.
В-третьих, раскрыть роль языка в развитии мнемических структур и осуществлении их эффективной деятельности.
Методологические основания исследования. В диссертации используются те принципы и приемы анализа, с помощью которых удается конкретизировать мнемическую тему и связанные с ней проблемы. Так, речь идет об использовании приемов феноменологии, герменевтики, диалектики и психоанализа. Кроме того, анализ мнемических возможностей опирается на категориальные ресурсы психологии и лингвистики. Прежде всего, взят за основу феноменологический анализ сознания времени и синтезов временности, осуществляемых памятью (в ретенции и репрезентации), Э.Гуссерля, а также описание внутренней длительности сознания, проделанное А.Бергсоном.
Большое значение для понимания онтологического значения временности субъекта и места в нем мнемических актов имеют методы фундаментальной онтологии, прежде всего аналитика таких экзистенциалов как ужас, смерть, речь, понимание и узнавание, а также понимание принципиальной историчности бытия субъекта сознания. Использования философских текстов, посвященных памяти в ситуации, которая воспроизводит работу самой памяти, переводящей прошлый опыт на язык современности, обращает к использованию принципов герменевтики. Была осознана и необходимость взаимодополнения указанных методов. Его удалось достичь благодаря тому, что можно было бы назвать топографией памяти.
Новизна исследования. Новизна исследования определяется раскрытием интерсубъективной природы памяти.
1. Прежде всего, введен и разработан концепт места памяти как
места встречи с другим, как позитивность этой встречи даже в тех
случаях, когда речь идет об отчуждении и забывании себя (то есть как
позитивность самого забывания).
2. Выявлены когнитивные особенности актов забывания и
припоминания.
3. Раскрыта решающая роль памяти в дейксических актах, или
актах указания, а также проанализировано участие памяти в
формировании языковых структур, таких как знак, предложение,
рассказ.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Механизмы памяти определяются интерсубъективной
направленностью. Память является важнейшим условием отношения к
другому, и это отношение оформляется изначально в качестве
виртуальных структур, лишенных субъекта и объекта восприятия, но
впервые предоставляющих место тому и другому.
Это место не разделяет, но устанавливает связь уходящего и наступающего, появления и исчезновения и, таким образом, предопределяет модальности настоящего, прошлого и будущего.
Память определяет темпоральность сознания как многомерную, множественную, динамическую структуру, в которой элементы находятся в различной степени активации, могут вытеснять или наоборот вытесняться другими, быть вложены одни в другие, и активизируются именно постольку, поскольку предполагают различные возможности взаимодействия с другим, построение той или иной истории (интриги) сообщения с другим.
4. Динамический аспект структуры памяти выражается в
сопутствующей восприятию возможности сосредоточения, обращения и
переключения внимания, приближения и уточнения образа, вообще
приготовление возможности воспринимать то или другое, в том числе, не
замечать, упускать, забывать видимое или, наоборот, пытаться усмотреть
(уже или еще) невидимое.
5. Являясь залогом сообщения с другим, непрерывности связи с
другим, память позволяет выходить из пограничных ситуаций шока,
ужаса, боли и отчаянья.
6. Структуры языка не просто восполняют структуры памяти,
воображения, восприятия, но, прежде всего, реализуют возможность,
предоставляемую памятью. Память предстает инфраструктурой
сознания, которая обращает акты сознания друг к другу, делая их
прозрачными друг для друга, связывая их в целостность, поскольку
изначально полагает их в открытости и обращенности к другому, к
возможности встречи с ним.
Теоретическая значимость и практическая ценность исследования. Материалы диссертации и ее методологические подходы позволяют расширить философское понимание темпоральных структур памяти, их динамики, взаимосвязи и взаимодействия с другими когнитивными и познавательными структурами, такими как восприятие, воображение, языковая и практическая деятельность. Результаты диссертации могут быть использованы при историко-философском рассмотрении платоновской концепции припоминания, декартовского метода, гегелевской диалектики, а так же современной философии, представленной такими направлениями XX века, как феноменология Э.Гуссерля, философия длительности А.Бергсона, онтология М.Хайдеггера. Содержание диссертации может стать основанием для
составления самостоятельного курса по теории познания, ориентированного, прежде всего, на коммуникативные, символические и нарративные способы получения, удержания и передачи знания.
Апробация исследования. Исследование было подготовлено на кафедре философии и социальных коммуникаций Академии гражданской авиации. Материалы исследования обсуждались на кафедре онтологии и теории познания философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, а также в ряде публикаций и выступлений на теоретических конференциях и семинарах.
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех разделов, подразделенных на главы и параграфы, заключения и библиографического списка.
Концепция длительности А.Бергсона
В «Феноменологии внутреннего сознания времени» Гуссерль указывает, что наряду с ретенцией звука в сознании, мы имеем и очень краткий, уже угасающий, отзвук тона в самый момент его звучания3. Как свидетельствуют современные исследования, зрительный след удерживается в непосредственной памяти не дольше 0,25 секунды4. Для того, чтобы воспроизвести нечто в ближайшем настоящем, необходим повтор, но он нужен и для того, чтобы вообще отложить что-то в долговременной памяти5, и тем самым сделать доступным для новых воспроизведений. Суть повторения собственно и заключается в том, чтобы продолэкыпь, ввести в продолжающийся ряд настоящего ( или новых настоящих).
Повторение указывает, таким образом, на определенную границу не только памяти, но и самого настоящего. Мы ничто не забываем так быстро, как только что ушедшее настоящее, с его сплетением переживаний, чисто физических ощущений, таких деталей, как положение ног под столом или моментальная траектория взгляда. Остается, только то, что продолжается в следующих действиях, которые повторяют предыдущие уже тем, что исполняют, дополняют, переигрывают их. Мы вправе сказать, что повторяется именно само настоящее, неразличимые, но и нетождественные точки Теперь, которые, как раз и открывают то избыточное место продолжения, в котором может быть воспроизведено ушедшее. Исключительные, уникальные вещи, избегая ловушки повторения, должны были бы ускользать от припоминания, если бы само новое настоящее не было повторением неповторимого, его подлинным следом как новым отсчетом, новым исполнением времени. В этом случае, мы имеем дело не столько с памятью, которая избегает повторения, сколько с памятью, которая принципиальным образом совпадает с самим повторением, или, точнее, с самим настоящим-повторением, идущим по следу своей истории. Мы можем говорить о памяти, которая принадлежит самому времени, не предрешая пока вопроса о том, идет ли речь о чем-то вроде темпоральности сознания, длительности духа или структуры материи. Именно эту точку совпадения настоящего и памяти мы возьмем в качестве отправной точки нашего исследования памяти.
Итак, память пересечена повторением. И это пересечение столь навязчиво, что ради осторожности мы должны говорить в связи с ним не столько о самой сущности памяти, сколько о разметке, свидетельстве, просто внешнем маркере тех философских проблем, которые ставит перед нами эта трудно уловимая сущность. Мы начнем именно с этой разметки памяти, и, чтобы не лишить свой подход основательности, возьмем себе в проводники исследования памяти, осуществленные в таких важных философских текстах, как «Материя и память» А.Бергсона, «Феноменология внутреннего сознания времени» Э.Гуссерля и «Различие и повторение» Ж.Делеза.
Фундаментальным достижением Бергсона в «Материи и памяти» является последовательное различение двух видов памяти. Согласно этому различению, память первого вида целиком зависит от усилий повторения, это то запоминание, которое, как подчеркивает Бергсон, практически не отличается от приобретения привычки. Напротив, память второго вида избегает какого-либо повторения и связанного с ним усилия запоминания и воспроизведения. Это духовная память уникальных вещей, единственных событий, составляющих историю духа, его длительность. Это то, о чем настоящее само по себе не может помнить, потому что единственное призвание настоящего — это повторять. Вместе с тем, это повторение, составляющее как бы суть материи или, точнее, всего материального, только и предоставляет духовной памяти некое тело, необходимое для воплощения, вхождения в образ, без чего невозможным оказалось бы никакое припоминание. Насколько принципиально различение двух видов памяти, настолько же, следовательно, оно и взаимодополнительно. Мы начнем свой анализ именно с этого фундаментального различения. В качестве примера Бергсон рассматривает заучивание урока:
«Я учу урок, и, чтобы выучить его наизусть, я сперва читаю его, проговаривая вслух каждый абзац; я повторяю урок несколько раз. При каждом новом чтении я продвигаюсь вперед: слова связываются лучше и наконец организуются в целое. В этот строго определенный момент я выучил свой урок наизусть, и принято говорить, что он стал воспоминанием, запечатлелся в моей памяти»6.
Заучивание проходит через ряд повторений, но эти повторения не являются чем-то совершенно внешним тому, что заучивается. При каждом чтении слова связываются все лучше и лучше и, наконец, организуются в целое. Определенным образом повторение перестраивает само целое урока. Это новое целое, которое Бергсон по праву сопоставляет с приобретенной привычкой:
«Как и привычка, оно приобретается повторением одного и того же усилия. Как и привычка требует сначала разложения целого действия на части, а потом его восстановления. Наконец, как всякое ставшее привычным упражнение тела, оно откладывается в виде некоторого механизма, который весь сразу приводится в действие начальным импульсом, в виде замкнутой системы автоматических движений, которые следуют одно за другим в одном и том же порядке и в течение одного и того же времени»7.
Разумеется, повторение перестраивает целое урока не в том смысле, что изменяет последовательность слов. Изменяется само существо последовательных связей слов. Слова могут теперь существовать только внутри этой последовательности, они обретают тождественность «одного и того же», которая на самом деле не более, чем след их уникального положения в последовательности других слов этого урока. Внутри выученного урока слова существуют теперь только одно в другом, и знание выученного уже не отсылает к работе опознания значения слов, реальности, соответствующей значению целого. Оно автономно, автоматично, обладает собственной реальностью — собственно реальностью настоящего, которое мы подчиняем действию привычки, если не сказать, что только этой привычностью и образуем его как таковое.
Феноменология временности Э.Гуссерля
Здесь мы и сталкиваемся с необходимостью памяти другого рода. В самом деле, если время настоящего - это просто часы, мелкие движения стрелок, практически неразличимые между собой, бегущие по одному и тому же заданному кругу, то можно сказать, что так же и мы живем внутри этого заданного круга повторений (ведь еще Декарт полагал, что все движения в мире совершаются по кругу). Но также верно и то, что повторение -это вовсе не обязательно повторение по кругу, повторение круга, цикла. Точнее, само время, закружившееся в нашей системе измерений вокруг циферблата, -только момент повторения какой-то истории (творения мира в семь дней, детской любви к матери или травмы рождения). Это «какое-то» - именно то, что ускользает из настоящего, то, что забывается в самом повторении (как, видимо, забывается ступенька, на которой мы споткнулись в первый раз, в навязчивом повторении спотыканий), точнее, то, для чего повторение служит забвением, но так, что только это забвение и могло бы сохранять, удерлсивать, не отпускать. Следовательно, должна существовать иная, отличная от повторения и при этом тесно связанная с ним, память, обращенная к самому прошлому, уникальности «какого-то» прошлого события, образа; память, которая удерживает в себе вообще все, бывшее настоящим, хотя и удерживающая все исключительно виртуально, бессознательно, бездейственно:
«Теперь я хочу знать, каким образом был выучен урок, и представляю себе все фазы, через которые я последовательно проходил. Каждое из следующих одно за другим чтений восстанавливается при этом в моем уме со свойственными ему индивидуальными особенностями: я вновь его вижу, со всеми теми обстоятельствами, которые его сопровождали и продолжают определять. Каждое чтение отличается от предыдущих самим местом, которое оно занимало во времени, и вновь проходит передо мной как определенное событие моей истории. Эти образы тоже называют воспоминаниями, и говорят, что они запечатлелись в моей памяти»9.
«Воспоминание об одном отдельном чтении - это представление и только представление; оно заключается в разумной интуиции, которую я могу по желанию продлить или сократить; я придаю ему произвольную длительность, и ничего не мешает мне охватить его сразу, как картину»10.
Память второго рода - это, таким образом, память самого прошлого, или, иначе, прошлого настоящего, выведенного уже из игры. Это и есть двойник настоящего, всегда нуждающийся в его теле для собственной реализации, организующий вторжения в настоящее, тем более успешные, чем больше сама форма настоящего распадается на бесконечные повторения движений материальных частиц, колебания, которые собираются в качества только благодаря постоянному стягиванию в длительности, то есть постоянному участию памяти в самом незначительном, самом мгновенном восприятии:
«В самом деле, каким бы кратким не представляли бы мы себе наше восприятие, оно все же непременно обладает некоторой длительностью и, следовательно, предполагает известное усилие памяти, которая объединяет множественность моментов, продолжая их одни в другие»11.
Но именно здесь, где оба вида памяти вкладываются друг в друга, замыкая своеобразный круг памяти, мы, очевидно, теряем всю принципиальность их различения. В самом деле, мы знаем, что память второго вида размещена на шкале времени, ключ от которой - это опять же череда повторений и дата текущего настоящего. Эта память, как говорит Бергсон, «подсвечивает» память повторения, но лишь постольку, поскольку видит именно то, что вводится в настоящее именно повторением, - своеобразную проваленность настоящего в ушедшее. Наконец, сама уникальность образов прошлого предполагает, что память сжатия, то есть длительности, вообще определила нечто в качестве образов, в том числе и в качестве образов самой протяженной материи, и, следовательно, мы опять же имеем дело с памятью, которая принадлежит самому настоящему, хотя и указывает на его связь с чем-то другим, что может вступать в настоящее и проходить через него. Два вида памяти, с необходимостью отсылают к своему общему корню, в котором определяется не только память, но и тот образ настоящего, который мы привыкаем считать чем-то исходным, само собой очевидным и автономным.
Память как условие восприятия и воображения
Что же подразумевается здесь под знанием? Очевидно, знание памяти нельзя свести к каким-то способностям и определенным структурам, которыми мы изначально обладаем, поскольку проблема этого знания суть вообще проблема обладания и, следовательно, скорее проблема приготовления своих структур и способов их применения, чем вопрос уже готового и наличного инструментария. Память — это именно то, что мы делаем, над чем работаем и только поэтому и обладаем вообще чем-то, какими-то способностями, структурами хранения, моделями действия.
Далее принятие в обладание должно означать и какой-то расход, отдачу, потерю, то забывание, которое укрепляет пребывание в настоящем, как бы откупая его у другого, закладывая его в ту историю встречи, которая вписывается в настоящее именно приготовлением памяти. Приготовление и есть по существу знание этой истории, именно встречи, происходящей уже здесь в отсроченности настоящего времени, этого восприятия и этого тела. Проблема знания памяти - это проблема истории памяти, то есть того выхода в историю встречи, который приготовляется именно памятью, еще точнее: приготовление которого и есть сама память. Приготовление - это только возможность быть чем-то или кем-то, но, что существенно для нашего понимания возможности, так это то, что это именно какая-то возможность и в этой своей определенности уже и какая-то встреча, единственная в своем роде история встречи. В этой предельной интимности и одиночестве памяти заключается та ее уникальная возможность, которая может провести во встречу, одушевить этой встречей тело, привести его к рождению во встречу.
Что может означать приготовление для такой простой и естественной реальности как тело? Пока это только вымышленный образ, который не имеет никакого самостоятельного существования. Но, по-видимому, исследование памяти на всем своем протяжении обречено выверять свое понимание образа, воображаемого вообще. Мы не будем останавливаться на таком понимании, образа, при котором он должен оставаться в тени данностей чувств или феноменов сознания. Уже отмечалось, что образ по существу связан с конституированием сознания, и нам предстоит показать, насколько он определяет деятельность самих чувств. Это связующее звено обмена, продолжения одного в другом, без которого невозможно было бы ничего сказать и о простейшем ощущении. Это - сама близость и удаление, торможение и отсроченность, но вместе с тем и та обратимость этого торможения, в которой открывается взаимность, взаимообращенность этой отсрочки как залога, заложенности другому.
Образ—то, что по существу своему указывает на другое, не отсылает к другому как знак, но вводит в историю взаимоотношений с другим. Это само «между», отсроченная и заложенная встреча, то место, которое всегда оказывается лишь промежутком, но именно через этот промежуток образ вводит в протяженность тела ту историю, в которой встреча так или иначе уже происходит. Тело - только протяженность и масса торможений, отсрочек, но его пред-оставленность не означает простой данности, но всегда так же и некоторую приготовленность, прежде всего, приготовленность самой его чувственности, ощущений, по отношению к которым все прочие действия тела оказываются именно продолжением.
Тема данного раздела - это память как приготовление тела, именно тела встречи, но, прежде всего, вообще чувствующего, воспринимающего тела. И наш вопрос состоит не только в том, что делает тело и его чувства открытыми другому, что позволяет ему удерживать, сохранять следы другого, но так же и о существе самой открытости, самих следов и, след., вообще об определении тела внутри этой открытости.
Иллюстрацией такого приготовления памяти может стать случай хорошо известный в психологической литературе. Речь идет о памяти, за которой наблюдали различные психологи на протяжении долгого времени56. Леонтьев А.Н и Лурия А.Р. описывают память известного мнемониста (С.В.Шерешевского). Яркой особенностью этого случая, отмечаемой обоими психологами и представляющей для нас основной интерес, является то, что Ш. обладал практически неограниченной памятью от природы, в качестве некого врожденного дара. Мнемонические приемы, которые он стал использовать, выступая уже как профессиональный мнемонист перед публикой, позволяли всего лишь лучше использовать эту природную одаренность и, более того, были ограничены, в сравнении с методами других мнемонистов, именно тем врожденным состоянием памяти, с которым они работали. Эта, столь сильно выраженная, врожденность памяти, более всего удивлявшая психологов, дает нам возможность ближайшим образом пронаблюдать переплетение памяти и чувств, внутри которого определяется и место самого мнемониста. Что же сообщают о памяти Ш. Лурия и Леонтьев?
Первые опыты Лурии состояли в том, что Ш., которого Лурия описывает, как «несколько замедленного, иногда даже робкого человека» , предлагался для запоминания ряд слов, затем чисел, затем букв, которые либо прочитывались, либо предъявлялись в написанном виде. При этом увеличение ряда до 30, 50, 70 слов или чисел не вызывало у Ш. никаких трудностей при запоминании:. не нужно было никакого заучивания, и если я предъявлял ему ряд слов или чисел, медленно и раздельно читая их, он внимательно вслушивался, иногда обращался с просьбой остановиться или сказать слово яснее, иногда сомневаясь, правильно ли он услышал слово, переспрашивал его. Обычно во время опыта он закрывал глаза или смотрел в одну точку. Когда опыт бьш закончен, он просил сделать паузу, мысленно проверял удержанное, а затем плавно, без задержки воспроизводил весь прочитанный ряд.
Опыт показал, что с такой же легкостью он мог воспроизводить длинный ряд и в обратном порядке — от конца к началу; он мог легко сказать, какое слово следует за каким и какое слово было в ряду перед названными. В последних случаях он делал паузу, как бы пытаясь найти нужное слово, и затем — легко отвечал на вопрос, обычно не делая ошибок.
Знаки, последовательность артикуляции и рассказ
Это приготовление — только некая возможность, но к сути нашего понимания возможности относится то, что это всегда какая-то возможность, то есть возможность, принадлежащая встречности, взаимности открытого и, следовательно, определенной игре, двойственности. Приготовление должно быть именно исполнено каким-то продолжением, в котором оно закладывает «себя» встрече, но тем самым и высвобождает самую суть залога — само становление временем, веру. В этом смысле исполнение не является полнотой Ч присутствия, бытия (мы говорим только о полноте возможности), но скорее тем высвобождением веры, которое совпадает с обращением к встрече, вступлением в историю встречи. Об этом обращении мы и говорим как о продолжении, которое происходит не просто «вдруг», «однажды», но всегда «вдруг», прежде в истории, чем в бытии. Или иначе: в истории и только поэтому в бытии.
Исполнение подводит нас к теме языка, и чтобы очертить уже сейчас тот горизонт, в котором будет рассматриваться нами пересечение памяти и языка, попробуем сопоставить идею приготовления памяти и исполнения с идеей письма и восполнения у Ж. Деррида. Хотя и очень коротко, мы касались уже идеи письма138, но теперь возникает необходимость более подробного разъяснения. Анализируя структуру восполнения в текстах Ж.Ж.Руссо, Ж.Деррида пишет:
((Конечно, тема восполнительности во многих отношениях не лучше и не хуже других. Она - звено в цепи взаимосвязей и зависит от этой цепи. Быть может, ее можно было бы даже заменит какой-нибудь другой. Однако именно эта тема позволяет описать саму эту цепь, цепочечное бытие текста, структуру подмены, сорасчленение желания и языка, логику всех тех понятийных противопоставлетш, с которыми имеет дело Руссо, и в особенности роль и функцию природы в его системе. Именно она говорит нам в тексте о том, что такое текст, в письме - что такое письмо...»139
Восполнение возникает здесь как нечто присутствующее и отсутствующее, составляющее какую-то часть цепочки и внеположное ей настолько, что позволяет видеть саму эту цепочку, характеризовать ее, обращать ее элементы на самих себя. Это своего рода пустое присутствие или, как пишет Деррида, «слепое пятно, нечто невидимое, что одновременно и открывает поле зрения и ограничивает его»140. Это восполнение не какой-то избыток, но скорее сама «пустота» недостатка, которая единственно и восполняет его до «видимости», то есть до поля зрения, определенного присущей ему слепотой. Это и есть знаменитое различение (differance), невидимое и неслышимое письмо («Графический образ нельзя увидеть, а акустический нельзя услышать.»141), прото-письмо не-присутствия. При этом Деррида допускает, что такое письмо должно сохранять некий минимум бытия. Так или иначе, но письмо как-то осмысляется нами, и Деррида, вопреки предыдущему, пишет даже о своеобразном видении его: «Увидеть в речи письмо, то есть увидеть в речи различАние и отсутствие речи, - вот начало осмысления обманки» . Минимальное бытие - это то, что Деррида называет следом, подчеркивая при этом, что речь идет именно о чистом следе, чистом движении, проводящем различие:
«Без удержания опыта времени в некой мельчайшей единице, без следа, удерживающего другое как «другое в самотождественном», - не могло бы появиться никакое различие, никакой смысл. Речь, таким образом, идет здесь не об уже установленном различии, но о чистом движении, порождающем различие — еще до какой-либо содержательной определенности. Чистый след есть различАние»ш
Этот минимум бытия представляет для нас первостепенный интерес, точку максимального сближения с идеей письма у Деррида и столь же принципиального расхождения. Как же понимать этот след, минимальную единицу бытия, не присутствующую, невидимую и неслышимую для присутствия? Деррида утверждает, что различение различает и одновременно стирает различия144. Именно так оно ускользает от какого-либо присутствия, оставляя лишь тот минимум, который по сути уже нельзя связать ни с различением, ни стиранием, но только с самой одновременностью того и другого. Эта одновременность - единственная приоткрытая нам суть различения, поскольку, проговаривая ее, Деррида одновременно забывает об этом условии определения, стирая его таким образом. Эта «одновременность» не просто не-присутствие, но само различие-пробел, позволяющий угадывать невидимое различение лишь в мгновенной приподнятости фона, в которой сама бумага становится знаком-пробелом. В этой мгновенной приподнятости время становится членением пространства, а пространство - времени, рука - видением взгляда, а взгляд — касанием руки. Это пересечение видения и касания, которое противостоит присутствию как хрупкость письма , это тот минимум бытия, который и может быть только пересечением, но при этом ускользает от самого по себе видения, от самого по себе касания.
Еще раз напомним, что речь идет именно о чистом движении (взгляд здесь стирает отпечаток касания, касание покрывает и гасит собой упор взгляда) вдоль границ (по границе, внутри границы) метафизики, в чистоте одного времени, чистого настоящего, которое позволяет, прежде всего, отложить, подвесить любое метафизическое полагание. Мы узнаем здесь продуманный в максимально возможной универсальности жест гуссерлевского воздержания, эпохе. Жест, который возвращает нас не только к вопрошанию о возможности любых трансцендентных полаганий, но также и о возможности всякого трансцендентального полагания. Но этот жест, откладывающий полагание ради обращения к его собственной возможности (различению, следу, письму), исключает так же и понимание того, как это поле возможного могло бы стать еще и каким-то исполнением, разыгрыванием истории в том минимуме бытия, без которого прото-письмо так и не сложилось бы в письмо в привычном для нас смысле. Конечно, любая попытка уловить, удержать этот минимум бытия грозит воскрешением репрессивной власти присутствия. Но в том, как мы всегда уже предполагаем все эти уловки и удержания, проглядывает то свойство этого минимума бытия, которое может быть продумано в перспективе обратной как присутствию, так и его стиранию. Дело в том, что этот минимум бытия сам улавливает, цепляет, захватывает. Это и есть заложенное бытие, заложенность всякого отсрочивания и промедления бытия.
Говоря о минимуме бытия, мы пытаемся, таким образом, заново продумать понимание бытия как промедления, продолжения истории. Это и есть наше «включение» в историю, рождение в тело, которое исполняет приготовление и исполняется им, закладывает себя и, таким образом, высвобождает это «себя» из заложенности. Это двойственность залога и высвобождения — то, что характеризует продолжение бытия как обращение к встрече, сущностную для времени не-одно-временность, встречность его истории. Только в перспективе этого заступания истории, мы можем понять суть воздержания и откладывания, письма и следа. Это само торможение, инерция заложенности. Именно такой инерцией (и, следовательно, неким настраиванием на само существо заложенного бытия) является и гуссерлевская эпохе и вся его феноменология внутреннего сознания времени. Правильно будет сказать, что Деррида движется по инерции гуссерлевского трансцендентализма, пытаясь обнажить его суть там, где он распадается, рассыпаясь в виртуальную множественность нерожденного, пытается очистить след не только от заложенного в него (присутствия), по и от всякой его заложенности другому, истории и встрече.