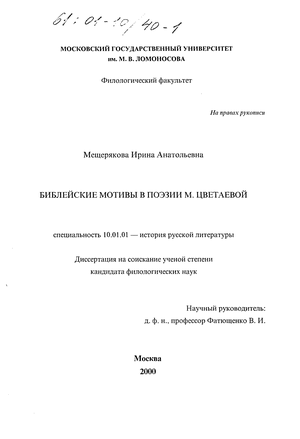Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Раннее творчество М. Цветаевой 24—80
1. 1-ая половина 1910-х годов (дореволюционное творчество) 24—33
2. Лирика Цветаевой 2-ой половины 1910-х годов 33—41
3. Цикл "Стихи к Блоку" 41—54
4. Циклы "Подруга", "Вифлеем" 54—62
5. Образ Богородицы в ранней лирике Цветаевой 62—65
6. Стихотворение "Евреям" (1916) 65—69
7. Ветхий и Новый Завет в ранней лирике Цветаевой..69—74
8. Стихотворение "Бог —прав..." (1918) 74—76
9. Стихотворение "Кто создан из камня..." (1920) 77—80
ГЛАВА II. Лирика Цветаевой периода 1921—1940 годов 81—161
1. Общая характеристика 81—86
2. Мотив сиротства в лирике Цветаевой 86—92
3. Тема ученичества в лирике Цветаевой 92—107
4. Ветхий Завет в лирике Цветаевой 20-х годов 108—122
5. Православная традиция в лирике Цветаевой 20-х г. (цикл "Георгий") 122—131
6. Цикл "Бог" (1922) 131—142
7. Цикл "Магдалина" (1923) 142—151
8. Цикл "Стол" (1933—1935) 151—161
ГЛАВА III. Поэмы Марины Цветаевой 161—192
1. Общая проблематика 161—164
2. Характеристика "Поэмы Горы" и "Поэмы Конца" 164—169
3. Библейский фон в поэмах "Горы" и "Конца" 169—192
Заключение 192—202
Библиография 203—228
- 1-ая половина 1910-х годов (дореволюционное творчество)
- Лирика Цветаевой 2-ой половины 1910-х годов
- Общая характеристика
- Общая проблематика
Введение к работе
Неослабевающий интерес к творческому наследию Марины Цветаевой представляет собой один из самых значительных культурных феноменов последних десятилетий. В многочисленных трудах цветаеведов исследуются такие аспекты цветаевского творчества, как мифологизм, интертекстуальность (с преимущественной актуализацией классического романтизма), трагический фатализм в раскрытии основных поэтических тем — любви и творчества, а также грандиозный лингвистический эксперимент Цветаевой, реформирование традиционного поэтического языка.
Однако при всей очевидной важности этих поэтических доминант не только, даже не столько они являются специфическими характеристиками именно цветаевского творчества: его константная характеристика, как справедливо отмечает Е. И. Ревзин, "утверждение предельной искренности ее поэтичесих произведений, т. е. искренность, с которой Цветаева воссоздает в своих стихах свойства своей собственной личности, своего человеческого характера, обстоятельств частной жизни"1.
Действительно, специфика цветаевской поэтики такова, что эта поэтика фактически исключает различия между человеческим обликом и обликом лирической героини, вокруг которого организуется художественное пространство текста. Дневниковость, подчеркнутая интимность изображаемого, придание тексту максимально личностной окраски, исповедальная интонация — излюбленные поэтом художественные приемы, которые выделяют практически все исследователи творчества Цветаевой. "Цветаева — поэт чрезвычайно искренний, вообще, 1 Ревзин Е. И. Текст как реконструкция личности // Борисоглебье Марины Цветаевой: Шестая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9—11 окт. 1998): Сб. докл. М., 1999. С. 142—143. возможно, самый искренний в истории русской поэзии"1, — пишет Иосиф Бродский.
Искренность, исповедальность цветаевского творчества означает, что текст как результат творчества мыслится ею в качестве естественного продолжения человеческой жизни. Поэтому анализ творчества Марины Цветаевой в большинстве исследований неотделим от анализа человеческой личности поэта, особенностей ее поведения и обстоятельств ее судьбы. Ни в коей мере не оспаривая такой подход к творчеству Цветаевой, мы, тем не менее, хотели бы обратить внимание на то, что не все в ее поэзии (как, впрочем, и в прозе) поддается исключительно биографической интерпретации. Пространство и время Цветаевой должны восприниматься и изучаться как пространство контекстов: генетического контекста, контекста культуры в целом и, разумеется, контекста литературы и языка в частности, контекста мифологического и архетипического. При этом следует учитывать самое главное — контекст самой Цветаевой, "ее художественного сознания и личности, обернувшийся, логически понятным образом, проблемой идентификации и самоидентификации поэта и человека"2.
Вот почему утверждение: "Автобиографический генезис поэзии Цветаевой проявляет себя не более, чем генезис литературный"3 — представляется чересчур категоричным, хотя мы и вынуждены признать, что очень многие произведения Цветаевой основаны на литературных источниках, в числе которых можно назвать художественную литературу, фольклор, исторические сочинения, мифы, легенды и т. д. Трактовка темы или сюжета, уже известных по ставшим каноническими литературным текстам, служила для Цветаевой важным творческим стимулом. Изучение 1 Бродский И. Об одном стихотворении // И. Бродский о Марине Цветаевой: интервью, эссе. М.,
1997. С. 81. 2 Ревзипа О. Г. Пространство и время Марины Цветаевой // "... Все в груди слилось и спелось": Пятая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9—11 окт. 1997): Сб. докл. М.,
1998. С. 270. 3 Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М., 1997. С. 13. основанной на литературных источниках поэзии Цветаевой представляется чрезвычайно важным и актуальным, поскольку выбор поэта и индивидуальная трактовка избранных источников позволяют проникнуть в некоторые из наиболее существенных аспектов поэтики Цветаевой.
Привлечение тем из области литературы и особенно использование сюжетов, взятых из широко известных источников, как основы целых произведений проясняют такие важные аспекты поэтики Цветаевой, как тяготение к повествовательности (что выражается не только в прозе, поэмах и пьесах, но и в многочисленных лирических циклах и в связанных внутренним единством сборниках лирики), обращение к общеизвестным образцам литературного наследия, «конфликт между известным источником как частью "общего владения" и его подчеркнуто персональным, даже "частным", пересмотром Цветаевой по законам ее собственной поэтики, "мифики", системы символов»1, сочетание архаики и новаторства, постоянный конфликт между непрерывностью и дискретностью.
Следует отметить, что чаще всего Цветаева подает литературные источники не как обнаруженные непосредственно ею, но как перешедшие к ней или же усвоенные ею в рамках общекультурного наследия. Среди таких канонических литературных текстов — самый канонический, освященный временем текст Священного Писания, библейский текст.
Анализ функциональной роли реминисценций из Библии в произведениях Цветаевой как православно (и — шире — религиозно) не ориентированного автора представляет для нас большой научный интерес, ибо в ее творчестве специфика национального художественно-философского сознания и опыт отечественной и мировой культуры носят ярко выраженный характер. 1 Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М., 1997. С. 14.
Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы через анализ библейских мотивов в произведениях М. Цветаевой понять их функциональное значение в ее художественном мире, проследить основные этапы развертывания данной темы в ее творчестве, а также обнаружить связь между различными произведениями и лучше понять внутреннюю логику цветаевского творчества.
Задачи работы состоят в анализе библейских мотивов в отдельных произведениях Цветаевой с учетом этической и эстетической природы авторского толкования библейских сюжетов, в определении индивидуальных черт цветаевской интерпретации библейской темы. К анализу привлекаются только те произведения, где религиозные темы, слова и выражения из Библии представлены наиболее ярко, эксплицитно. Отметим, что мы не ставили перед собой в качестве основной задачу исследования проблемы веры и религиозности автора, т. к. в чистом виде, на наш взгляд, эта проблема должна быть вынесена за рамки литературоведческого исследования. Однако-'совсем обойти вниманием данную проблему не представляется возможным, поскольку богоборческий, бунтарский пафос творчества Цветаевой невозможно понять без обращения к истокам ее личности.
Это обусловило выбор основного метода нашей работы — метода комплексного исследования творчества Цветаевой в единстве творческого и биографического контекстов, т. к. очень часто система образов или мотивов какого-либо цветаевского произведения становится ясна только по рассмотрении окружающих произведений. При этом, как отмечает один из исследователей творчества Цветаевой Л. В. Писарев, можно говорить о "взаимосвязи в творчестве М. Цветаевой образов и мотивов, о существовании "образно-мотивных систем", в которых они являются элементами"'. Такой метод работы основывается на попытке соединить два 1 Писарев Л. В. Книги "Ремесло" и "После России" как этапы творческой биографии Марины Цветаевой. Автореф. канд. дисс. М., 1998. С. 2. разных исследовательских направления: нацеленное непосредственно на изучение структуры текста и вычленение интересующих нас элементов этой структуры и более широкий подход к проблеме, состоящий в отсылке к "ближайшему" (творческая история произведения, биография автора, свойства его личности, его ближайшее окружение) и "удаленному" (явления социально-культурной жизни современности автора, феномены "большого исторического времени" (М. М. Бахтин), которым он причастен) контекстам1.
Материалом для изучения библейских мотивов в творчестве М. Цветаевой послужили отдельные стихотворения, стихотворные циклы, а также поэмы Цветаевой. Такое большое количество произведений (более сорока) вызвано тем, что мы стремились как молено более полно представить творчество Цветаевой, проследить генезис интересующей нас темы на протяжении всего ее творческого пути.
Структура работы обусловлена целями диссертации, характером материала и спецификой творчества Цветаевой как такового. Работа состоит из Введения, трех Глав: "Ранняя лирика М. Цветаевой", "Лирика М. Цветаевой периода 1921 —1940 гг.", "Поэмы М. Цветаевой", Заключения и Библиографии, которая включает 336 наименований. Разделение на главы производится по принципу дихотомии: поэзия Цветаевой делится на лирику (главы I, II) и поэмы (глава III), а лирика — на раннюю (I глава — до 1921 г.) и зрелую (II глава — с 1921 г.). Главы I и II ввиду обилия представленного в них материала строятся по хронологическому принципу, хотя и здесь разделение по годам носит несколько условный характер ввиду того, что некоторые циклы писались Цветаевой на протяжении нескольких лет (например, цикл "Стихи к Блоку"). Мы посчитали себя не вправе разрывать созданные автором по принципу единства циклы и постарались совместить тщательный хронологический "микроанализ" с исследованием 1 Здесь была использована терминология В. Е. Хализева. О контекстуальном изучении приозведения подробнее см.: Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999. Сс. 291—292. целостного контекста цветаевского творчества и с учетом авторского замысла при создании лирических циклов.
Мы сознательно не включили в свою работу драматические поэмы Цветаевой, поскольку как в ранних, так и в зрелых драмах Цветаевой библейский текст практически не используется. Цитирование библейских источников пролегает не на уровне мотивов, а на уровне единичных, изредка используемых образов. Что касается поэм-сказок, которые также не привлекаются в нашей работе, то в них отчетливо проявляется фольклорная основа: "в них не только используются приемы, характерные для русской народной литературы, но и подчеркивается их "народное" происхождение" 1. Хотя в поэмах-сказках используются также и библейские мотивы и цитаты из православных литургических текстов (так, в поэме "Егорушка" языческие и православные мотивы связаны неразравно), основным их источником, тем не менее, послужил фольклор.
Следует, однако, подчеркнуть, что между отдельными произведениями Цветаевой существует очевидная связь на уровне образов, мотивов, тематики. "...Поэзия Цветаевой в большинстве случаев криптографична, и для ее понимания необходимо установление связи между отдельными произведениями — воссоздание целостного контекста творчества"2. Цветаева относится к тем авторам, в творчестве которых "мотив и слово развиваются параллельно: любимые слова поэта порождают излюбленные мотивы и обратно" (Л. Шпитцер). Вот почему при анализе как отдельных стихотворений, так и стихотворных циклов, поэм мы привлекаем и те произведения Цветаевой, которые не являются непосредственным объектом нашего исследования, — фольклорные поэмы, письма, прозу.
Таким образом, в работе используется комплексный подход, т. е. сводятся воедино историко-биографическая, философская и прикладная 1 Мейкин М. Марина Цветаева: поэтика усвоения. М., 1997. С. 100. 2 Писарев Л. В. Книги "Ремесло" и "После России" как этапы творческой биографии Марины Цветаевой. Автореф. канд. дисс. М., 1998. С. 2. литературоведческая тенденции с привлечением культурного контекста эпохи, который во многом определяет мировоззрение того или иного автора. В диссертации привлекаются работы религиозных (в т. ч. православных) мыслителей, а также специальные богослужебные тексты, представляющие собой систему канонов, догм, в высшей степени традиционных клише, которая может обновляться, видоизменяться, включать в себя различные библейские мотивы.
Прежде чем перейти к анализу основной проблематики, следует, как нам кажется, более четко определить само понятие мотива, поскольку в литературоведении этот термин имеет по меньшей мере две трактовки.
Мотив — термин, перешедший в литературоведение из музыковедения, где мотивом называют "наименьшую самостоятельную единицу формы музыкальной <...> Развитие осуществляется посредством многообразных повторений мотива, а также его преобразований, путем введения контрастных мотивов <...> Мотивная структура воплощает логическую связь в структуре произведения"1. Основные свойства мотива (как в музыке, где данный термин является ключевым при анализе композиции произведения, так и в литературоведении) — его вычленяемость из целого и повторяемость в многообразии вариаций.
Понятие мотива как простейшей повествовательной единицы было впервые теоретически обосновано в "Поэтике сюжетов" А. Н. Веселовского. Мотив, по Веселовскому, выступает как основа "предания", "поэтического языка", унаследованного из прошлого: "Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. При сходстве или единстве бытовых и психологических условий на первых стадиях человеческого развития такие мотивы могли создаваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты"2. Веселовский 1 Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 357. 2 Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989.С. 305. считал мотивы неразложимыми элементами текста: "Признак мотива — его образный одночленный схематизм..."1. Творчество, по Веселовскому, проявлялось прежде всего в "комбинации мотивов", дающей тот или иной сюжет.
Положение Веселовского о мотиве как о неразложимой и устойчивой единице повествования было пересмотрено в 1920-е годы. Так, по мнению А. Бема, "мотив — это предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле"2. Мотивы могут быть не только сюжетными, но и описательными, лирическими, не только интертекстуальными, но и внутритекстовыми. Следовательно, мы можем говорить о знаковости мотива — ввиду его повторяемости из текста в текст, а также внутри одного текста.
В современном литературоведении термин "мотив" используется в разных контекстах, что в значительной степени объясняет расхождения в толковании как самого понятия, так и его важнейших свойств. Однако общепризнанным показателем мотива по-прежнему остается его повторяемость. "...В роли мотива в произведении, — как пишет Б. Гаспаров, — может выступать любой феномен, любое смысловое "пятно" — событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; единственное, что определяет мотив, — это его репродукция в тексте <...> здесь не существует заданного "алфавита" — он формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру"3. Согласно В. Е. Хализеву, мотив — это "компонент произведения, обладающий повышенной значимостью (семантической насыщенностью)"4. По словам Б. Н. Путилова, мотивы, 1 Там же. С. 301. 2 Бем А. К уяснешпо историко-литературных понятий. // Известия (Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук). 1918. Т. 23. Кн. 1. С. 231. 3 Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 30—31. 4 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999. С. 266. являясь "устойчивыми семантическими единицами, <...> характеризуются повышенной, можно сказать исключительной степенью семиотичности. Каждый мотив обладает устойчивым набором значений"1.
В зарубежном литературоведении также подчеркивается неоднократность, повторяемость мотива. Мотив определяется как "ситуация, событие, идея, образ или характер, т. е. то, что встречается во многих литературных произведениях, фольклоре, мифах", или как "любой элемент произведения, который развивается в более общую тему (например, часто встречающийся в европейской лирической поэзии мотив "ubi sunt")"2.
Современное понимание термина "мотив" связано с личностью автора и его художественным миросозерцанием, а также с анализом целостной структуры произведений (А. П. Скафтымов). Мотив более очевидно, чем другие компоненты художественой формы, соотносится с миром авторских мыслей и чувств, но в отличие от них мотив лишен относительно "самостоятельной" образности, эстетической завершенности: он обретает свое художественное значение и ценность только через анализ устойчивости и индивидуальности его смыслов.
В современном литературоведении мотив не обладает четкой теоретической определенностью, что ведет не только к расширительному употреблению термина, но и к его многозначности. Так, ведущий мотив в одном или во многих произведениях писателя часто определяется как лейтмотив, который может рассматриваться на уровне темы, образной структуры и интонационно-звукового оформления произведения. Во многих литературоведческих словарях (особенно зарубежных) дефиниция 1 Путилов Б. Н. Веселовский и проблемы фольклорного мотива // Наследие Александра Веселовского: Исследования и материалы. СПб., 1992. С. 84. 2 Baldick Ch. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford, 1990. P. 142. См. также: A Dictionary of Modern Critical Terms II Ed. by R. Fowler. London, Henley and Boston, 1978. P. 77; Dictionary of World Literary Terms II Ed. by J. T. Shipley. London, 1970. P. 204; Myers J., Simms M. The Longman Dictionary of Poetic Terms. N.-Y., L., 1989. P. 198; Scott A. F. Current Literary Terms: a Concise Dictionary of their Orirgin and Use. London, 1980. P. 186; Shaw H. Dictionary of Literary Terms. N.-Y., 1972. P. 245—246. "мотив" отсылает нас к определению лейтмотива, или же лейтмотив определяется как одно из значений мотива. Так, в американском словаре "The Random House Dictionary for Writers and Readers" встречаем следующее определение: "Лейтмотив — особая повторяющаяся тема или выражение в литературном или музыкальном произведении, которые ассоциируются с определенной идеей, лицом, обстоятельствами или настроением ... Также мотив"К
Мы же в своей работе опираемся на другое значение мотива — мотив как тема и проблема творчества писателя или поэта. Тематический подход к изучению мотива утвердился в литературоведении еще 20-е годы. Так, Б. Томашевский писал: "Эпизоды распадаются на еще более мелкие части, описывающие отдельные действия, события или вещи. Темы таких мелких частей произведения, которые уже нельзя более дробить, называются мотивами"2. Мотив также мог рассматриваться как развитие, расширение и углубление основной темы. В лирическом произведении мотив, прежде всего, повторяющийся комплекс чувств и идей. "Задача лирического произведения — сопоставление отдельных мотивов и словесных образов, производящее впечатление художественного построения мысли"3.
Под мотивом мы подразумеваем структурный элемент (историю или эпизод), выражающий типичную ситуацию и обладающий организующей способностью в тексте. Мотив может быть нигде в тексте не назван и не локализован, но у него, тем не менее, есть не только содержание, но и формальное выражение. Так, М. Ранева-Иванова отмечает следующие конкретные признаки мотива: "...он может быть выражен клише, цитатой, группой конвенциональных ассоциаций или тематическим комплексом"4. 1 Grambs D. The Random House Dictionary for Writers and Readers. N.-Y., 1989. P. 180. См. также: A Dictionary of Literary, Dramatic and Cinematic Terms. 2-nd ed. Boston, 1971.P.71; Frenzel E. Dictionario de argumentos de la literatura universal. Madrid, 1976. P. 26; Prince G. Dictionary of Narratology. Aldershot, 1988. P. 150. 2 Томашевский Б. Поэтика: Краткий курс. М., 1996. С. 71. 3 Там же. С. 108. 4 Ранёва-Нвапова М. К проблеме теории и метода изучения христианского мотива в прозе А. П. Чехова (о значении пасхального мотива в рассказе "Казак") // Евангельский текст в русской литературе
Именно эта внешняя актуализация мотива и является его формой, уже заключающей в себе определенное стереотипное содержание. Она может быть представлена в тексте несколькими варьирующимися элементами, действующими как сеть сигналов, отсылающих к одному общему смысловому фокусу. При определении мотива мы руководствовались двумя критериями внешних индикаторов мотива, которые были предложены Уильямом Фридманом в его работе "Литературный мотив. Дефиниция и эволюция"1. У. Фридман выделяет два критерия, характерных для всех видов мотивов. Первый критерий — это повторяемость, т. е. определенный текстовый элемент, чтобы стать мотивом, должен появляться вновь такое количество раз, которое позволило бы ему стать подсознательно ощутимым, проявить свою нарочитость. Второй критерий состоит в том, что такой текстовый элемент не должен ощущаться как обязательный, но выступать в какой-то мере как лишняя деталь. Т. е. текстовый элемент, который представляет мотив или отсылает к нему, должен при чтении чувствоваться не как единственно возможный, а как предпочтительный, специально выбранный среди ряда других возможных. В своей работе мы опираемся именно на такое истолкование слова "мотив".
Обзор научной литературы. Проблема библейских традиций в творчестве М. Цветаевой получила освещение в монографиях и целом ряде научных исследований. Представляется целесообразным сделать краткий литературный обзор по этой теме. Для этого, как нам кажется, необходимо разделить рассматриваемые работы на три группы: 1. монографии, посвященные проблеме духовности Цветаевой; 2. научные работы, рассматривающие вопрос о вере, религиозности Цветаевой; 3. работы, непосредственно освещающие и толкующие библейские образы в творчестве Цветаевой. XVIII—XX вв.: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. науч. тр., Вып. 2. Петрозаводск, 1998. С. 484. 1 Freedman IV. The Literary Motif: A Definition and Evaluation II Essentials of the Theory of Fiction. Durham and London, 1988. P. 303—304.
К работам первого типа относятся статьи Л. Козловой ("Вода родниковая: К истокам личности М. Цветаевой" (114) и "Одинокий дух" (116)) и Н. П. Крохиной ("Жизнь души как первичная ценность поэзии М. Цветаевой" (127)) и монография 3. Миркиной "Огонь и пепел: Духовный путь М. Цветаевой" (166).
3. Миркина — известный религиозный мыслитель — пытается донести до читателя картину напряженной внутренней жизни Цветаевой, дать свою точку зрения на трагические противоречия в творчестве и судьбе поэта, используя при этом инструментарий мемуарной, "вольно-толковательской" литературы. Работы Л. Козловой, претендуя на широкое обобщение, осмысление проблемы духовности Цветаевой (что даже не имплицитно, а очевидно эксплицитно задано уже в названиях: "Вода родниковая: К истокам личности М. Цветаевой", "Одинокий дух"), представляют собой не более чем биографию поэта, да и то поданную весьма отрывочно и беспорядочно, и изредка иллюстрируемую цветаевскими цитатами. Значительно более интересной можно считать статью того же автора "М. Цветаева: Путь духовного поиска"(115), где Л. Козлова справедливо отмечает, что "религиозность Цветаевой не укладывается в классические христианские представления"1. Автор поставила перед собой задачу исследовать "тему эзотеризма" в художественных произведениях и письмах поэта, обращаясь к "древнему теософскому гнозису"2.
Относящиеся ко второй группе работы В. Лосской и Н. Струве логично, доступно, просто излагают отношение авторов к религиозному мировоззрению Цветаевой. Н. Струве поместил свои статьи "Трагичееское неверие" (250) и "Творческий кризис М. Цветаевой" (251) в сборник "Православие и культура" не случайно: известный литературный критик русского зарубежья поставил перед собой (и читателем) задачу понять, 1 Козлова Л.Н. Марина Цветаева: путь духовного поиска // Константин Бальмонт и Марина Цветаева и художественные искания XX века. Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, Вып. 3,1998. С. 132. 2 Там же. осмыслить то, как "отношение поэта к абсолютному, его личностное восприятие Бога, сплетение его религиозных воззрений кладет печать на всю его жизнь и творчество"1. В. Лосская в своей работе "Бог в поэзии М. Цветаевой" стремится найти и истолковать "разбросанные во многих стихах завуалированные признаки, раскрывающие религиозность поэта и его отношение к Божеству"2.
И наконец, третья группа — самая обширная, которая включает, в основном, чисто литературоведческие работы, представляющие собой анализ отдельных произведений Цветаевой. Наиболее подробной и тщательной из них кажется монография талантливого цветаеведа Ежи Фарыно "Мифологизм и теологизм поэзии М. Цветаевой" (265), где рассматривается взаимосвязь библейских сюжетов, фольклорных мотивов и античных мифов в цикле "Магдалина" и поэмах "Царь-Девица" и "Переулочки". В работе используется структуралистский метод изучения текста на различных уровнях: фонетическом, семантическом, синтаксическом; рассматривается смысловая нагрузка отдельных слов, понятий, символов (например, "волосы", "мех", "кровь", "ткань"). Наряду с этим привлекаются параллельные места из Библии, толкуется библейский текст вообще и в применении к творчеству Цветаевой.
В работе В. А. Смирнова "Семантика образа Богородицы в ранней лирике М. Цветаевой" (235) поднята проблема взаимосвязи в творчестве Цветаевой русского фольклора и библейской традиции. Смирнов отмечает своеобразие трансформации, перекодировки этой темы в творчестве М. Цветаевой. Рассматривается личное, интимное отношение поэта к образу Богородицы, точнее, так называемой Черной Богородицы (своеобразно преломленный и отраженный в народных апокрифах образ Богоматери).
О. В. Шурлякова в своей статье "Миф о безгрешном поэте" (296) (которая, к сожалению, подана только в виде тезисов) анализирует цикл 1 Струве Н. Л. Трагическое неверие // Вестник РХД. Paris, 1981. N135. С. 164. 2Лосская В. Бог в поэзии М. Цветаевой // Le messager (Вестник РХД). Paris, 1981. N135. С. 171.
Цветаевой "Стихи к Блоку", указывая на его "исключительную аллюзивность"1, в основном на поэзию Блока и Библию, и соотнося образ Блока не только с Христом, но и с образами Демона-искусителя и Демона отверженного, страдающего.
Данному циклу посвящена также работа Е. К. Соболевской "Стихи к Блоку" М. Цветаевой как поминальный жанр" (239). Автор анализирует цикл на двух уровнях — "датирования и сюжета" — и приходит к выводу о принадлежности цикла к поминальному жанру, рассматривая мотивы (вечного покоя, успения, смерти, плача, славословия и т. д.) и хронологию цикла (Соболевская соотносит даты написания стихотворений, вошедших в цикл, с днями поминовения усопших, зафиксированными в православной церковной традиции). Е. К. Соболевская является автором еще одной статьи на интресующую нас тему — "Легенда о Вечном Жиде в произведениях М. Волошина и М. Цветаевой ("Путями Каина" и "Поэма Конца")" (238). Здесь в контексте христианского мифа о страстях Господних исследуются "забытые и утраченные связи" между разными образами Вечного Жида, "устанавливается суб-контекст, в основе которого — литературный миф, нашедший художественную трансформацию в произведениях М. Волошина и М. Цветаевой"2.
Работы М. С. Лебедевой «Стихотворный цикл М. И. Цветаевой "Иоанн"» (141) и Н. В. Дзуцевой "М. Цветаева и Вяч. Иванов: пересечение границ" (79) также посвящены анализу циклов Цветаевой. М. С. Лебедева отмечает "прямые, косвенные и иносказательные обращения Цветаевой к имени Господа"3 и выявляет в цикле "Иоанн" скрытую и очень важную для поэта связь Бога, Христа, Иоанна и поэта; а Н. В. Дзуцева поднимает 1 Шурлякова О. В. Миф о безгрешном поэте // Творческий путь Марины Цветаевой. Первая международная научно-тематическая конференция (7—10 сент. 1993): Тезисы докладов. М., 1993. С. 30. 2 Соболевская Е. К. Легенда о Вечном Жиде в произведениях М. Волошина и М. Цветаевой ("Путями Каина" и "Поэма Конца") // Копстантші Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX в.: Межвуз. сб. Вып. 2. Иваново, 1996. С. 122. 3 Лебедева М. С. Стихотворный цикл М. Цветаевой "Иоанн" // Константин Бальмонт и Марина Цветаева и художественные искания XX века. Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, Вып. 2, 1996. С. 144. вопрос о соотношении художественной позиции Цветаевой с эстетико-философской теорией Вяч. Иванова и обращает внимание на то, что Цветаева "не только не пускает в текст, но резко переводит Иванова из манифестируемой им религии Христа — Диониса в сугубо христианские культовые формы"1. Смысл такого "переключения" автор видит в том, что евангельский сюжет придает ученичеству особый, кенотический статус (хотя Цветаева и наполняет этот сюжет своим, неканоническим содержанием).
Как уже отмечалось, мы стремимся использовать комплексный, синтезирующий подход к толкованию цветаевского текста — с привлечением культурного и религиозного контекста эпохи, поэтому определенный интерес представляют для нас работы, в которых рассматриваются "точки соприкосновения" поэзии Цветаевой с русской (и не только) религиозной мыслью. Эта тема исследуется в таких работах, как "Смысл творчества в поэзии М. Цветаевой" Л. А. Косаревой (125) (связь поэзии Цветаевой с философией Бердяева), "М. Цветаева и Рудольф Штайнер (Встреча и отклик)" Т. В. Кузнецовой (132), "Поэт и метафизик (М. Цветаева и Лев Карсавин: возможные параллели)" М. С. Лебедевой (140), а также в книге Е. Л. Лавровой "Поэтическое миросозерцание М. Цветаевой", где данной проблеме посвящена достаточно большая по объему (около 80 стр.) глава "Философия религии Цветаевой" (138).
В своей статье «Религиозно-христианские идеи эпохи и цикл М. Цветаевой "Стол"» (232) М. В. Серова ставит перед собой похожую задачу и рассматривает один из наиболее значительных циклов М. Цветаевой в контексте русской религиозной философской мысли; причем анализ, разбор цикла иллюстрируется цитатами из работ таких известных религиозных мыслителей, как о. Павел Флоренский, Г. П. Федотов; внимание здесь 1 Дзуцева Н. В. М. Цветаева и Вяч. Иванов: пересечение границ // Константин Бальмонт и Марина Цветаева и художественные искания XX века. Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, Вып. 3, 1998. С. 151. акцентируется на проблеме творчества как творения, "гефсиманского подвига веры"1.
Статья Ю. М. Каган "О еврейской теме и библейских мотивах М. Цветаевой" (107), автор которой поставила перед собой задачу "дать не только краткий обзор жизненных обстоятельств, по которым можно судить об отношении М. Цветаевой к евреям, но также увидеть и истолковать в ее творчестве библейские реминисценции"2, содержит анализ только одного стихотворения — "Евреям". Поставленная задача представляется выполненной далеко не полностью, поскольку анализ библейского фона сводится в основном к обильным цитатам из Библии — и религиозный, философский, литературный контекст, долженствующий рассматриваться в данной работе, вовсе как бы в этой статье и не присутствует.
Яркая, в чем-то парадоксальная книга известного историка культуры А. Эткинда "Хлыст" (300) не могла не заинтересовать нас — не только потому что автор рассматривает сектантские увлечения культурной элиты России конца XIX — первой трети XX вв., привлекая авангардный метод т. наз. "археологии текста" (сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, социологии и психоанализа), но в первую очередь потому, что среди интересующих А. Эткинда фигур — Марина Цветаева, которой автор посвятил одну из глав своей книги. А. Эткинд рассматривает такие произведения Цветаевой, как "Земные приметы", "Пленный дух", "Хлыст", обращая внимание на то, что Цветаева воспринимает хлыстовство — с его радением, кружением, горением — как метафору поэтического творчества. Теме хлыстовства в прозе Цветаевой посвящена также одна из глав работы немецкого культуролога А. А. Ханзен-Леве "Русское сектантство и его отражение в литературе русского модернизма" (284). 1 Серова М. В. Религиозно-христианские идеи эпохи и цикл М.Цветаевой "Стол" // Кормановские чтения. Ижевск, 1994. Вып.1. С. 97. 2 Каган 10. М. О еврейской теме и библейских мотивах у М.Цветаевой: Опыт толкования нескольких стихотворений // De Visu. М., 1993. N3. С. 55.
Шведская исследовательница творчества М. Цветаевой К. Грельц также обращается к прозе Цветаевой и в статье "Иносказательная речь (Смерть и творчество в произведении М. Цветаевой "Музей Александра III")" (71) проводит семантический анализ этого автобиографического произведения с акцентом на использовании в нем христианской мифологии и символистских клише. Данная работа примечательна тем, что автор рассматривает творчество М. Цветаевой в контексте русской культуры, и в частности, русской литературы тех лет, отмечая, что Цветаева сознательно развивает в этом очерке "как мессианскую, так и сатанинскую сторону музейного замысла, тем самым мифологизируя его в соответствии с основными стереотипами школы русского символизма"1.
Работа Т. Венцлова, еще одного зарубежного цветаеведа, — изящная, интересная, хотя во многом и спорная, — носит броское, несколько странное, на первый взгляд, название «"Поэма Горы" и "Поэма Конца" М. Цветаевой как Ветхий и Новый Завет» (53). Автор, рассматривая обе поэмы как неразрывное единство, диптих, отождествляет данную двухчастную структуру с двумя частями Библии, исследует перекличку, взаимопроникновение различных мифологических пластов в поэмах, анализирует отдельные библейские мотивы и образы (в том числе "кощунственно-пародийные моменты"2 в толковании Цветаевой библейского текста).
Многие ценные замечания и наблюдения на разрабатываемую в диссертации тему содержатся в монографии американского исследователя творчества М. Цветаевой Майкла Мейкина "М. Цветаева: поэтика усвоения" (161). В своей книге автор уделяет особое внимание усвоению, а зачастую — радикальной переработке известного литературного материала 1 Грельц К. Иносказательная речь (Смерть и творчество в произведении Марины Цветаевой "Музей Александра III") // "... Все в груди слилось и спелось": Пятая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9—11 окт. 1997): Сб. докл. М., 1998. С. 171. 2 Венцлова Т. "Поэма горы" и "Поэма конца" М.Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет // Marina Tsvetaeva: 100 years. Amherst, 1994. С. 149. в лирической, драматической и эпической поэзии Цветаевой. В числе других литературных источников М. Мейкин рассматривает аллюзии на русскую литературу, православие и библию.
В заключение литературного обзора хотелось бы упомянуть статью П. Б. Струве "Пустоутробие и озорство" (252), ибо нашу работу можно охарактеризовать и как попытку полемики с этим выдающимся представителем русского зарубежья, начисто зачеркнувшим даже саму возможность цветаевской веры, религиозности. П. Б. Струве относит Цветаеву к литераторам, которые "не банальны, не бездарны, а бессущны и безнужны". Свое суждение он мотивирует следующим образом: "Бессущность эта есть какое-то духовное пустоутробие ... А корень этой бессущности в отсутствии предметной (объективной) религиозной скрепы при часто очень повышенных личных субъективных религиозных потребностях"1.
Думается, что мнение П. Б. Струве не только слишком жестко, но и несправедливо, хотя, безусловно, трудно назвать Цветаеву поэтом религиозным, православным; от этого предостерегает и одна из наиболее авторитетных исследовательниц творчества Цветаевой В. Лосская, которая отмечает, что безусловное стремление М. Цветаевой "к подлинной , а не косной и застывшей религиозности, тем не менее, не позволяет облекать ее в ризы православного поэта"2.
Этим исчерпывается перечень сколь-нибудь значимых работ, непосредственно касающихся интересующего нас вопроса. Более детальный разбор отдельных исследовательских суждений будет произведен по мере необходимости при анализе конкретных аспектов исследуемой темы. 1 Струве П. Б. Пустоутробие и озорство // Струве П. Б. Дух и слово: Статьи о русской и западноевропейской культуре. Paris, 1984. С. 151. 2 Лосская В. Бог в поэзии М. Цветаевой // Le messager (Вестник РХД). Paris, 1981. N135. С. 180. О том же пишет Н. Струве: "Думается, что в бездуховности ее произведений М. Цветаеву упрекнуть трудно, но духовності> ее творчества сосуществует с его телесностью, а иногда телесное, физическое даже превозмогает духовное или физическое, тварное отождествляется с Высшим, духовным — едва ли не самый страшный грех для человека верующего" (Струве Н. А. Трагическое неверие // Там же. С. 163).
В русской литературе конца XIX века проблема библейских традиций приобрела особую актуальность. Факты обращения к этим библейским образам, сюжетам многочисленны и разнообразны в творчестве Достоевского, Лескова, Толстого, Гаршина, Чехова. И это вполне закономерно, ибо, как заметил в одной из своих работ литературовед В. Н. Захаров, "православный церковный быт был естественным образом жизни русского человека и литературных героев; он определял жизнь не только верующего большинства, но и атеистического меньшинства русского общества"1. Поэтому православно-христианским оказывается и художественный хронотоп тех произведений, в которых он не был сознательно задан автором. Христианское мироощущение к XIX веку оказывается настолько усвоенным сознанием русского человека, что начинает проявляться уже на подсознательном уровне. "Христианские мотивы, их комбинации переходят на уровень архетипов, т. е. наделяются свойством вездесущности, приобретают характер устойчивых психических схем, бессознательно воспроизводимых и обретающих содержание в художественном творчестве"2.
Таким образом, нравственно-религиозное по своему характеру дореволюционное русское искусство, решая художественные задачи, использовало особый язык символов, выработанных в течение тысячелетнего развития христианства на Руси, язык, вошедший в обиход широчайших масс. Наблюдается частое обращение к образной культуре христианства, к вечным темам и сюжетам. Язык символов зачастую наполняется реальностью того времени, за которой его теперь не всегда и разглядишь, но без проникновения в содержание христианских символов 1 Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв.: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. С. 9. 2 Чернов А. В. Архетип "блудного сына" в русской литературе XIX в. // Евангельский текст в русской литературе XVIII — XX вв.: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. научи, тр. Петрозаводск, 1994. С. 152. трудно осмыслить глубину идейно-эстетических исканий того или иного русского писателя или поэта.
Творческое самосознание Марины Цветаевой формировалось в русле этой культурной и литературной парадигмы. Вот почему в творчестве Цветаевой существует вполне узнаваемая христианская традиция. Реминисценции из Библии, прямые и косвенные отсылки к каноническим христианским текстам играют в творчестве Цветаевой довольно существенную роль. Особенно важно то, что цитаты из Библии, точные или неточные, "закавыченные" или остающиеся неявными, подтекстовыми, могут не только включаться в произведения Цветаевой сознательно и целеустремленно, но также возникать как бы независимо от воли автора, непроизвольно, как припоминание. Это свидетельствует об органичном усвоении Цветаевой священных канонических текстов.
Исследователи подсчитали, что в творчестве Цветаевой всего 20 % стихотворений с названиями (т. е. очень низкая называемость стихотворений — наряду с Блоком — в отличие от Маяковского, например: 95%)1. Просмотрев все стихотворения наиболее полно представляющего творчество М. Цветаевой семитомного собрания сочинений (тома 1 и 2), мы пришли к интересному выводу: среди этих 20 % — 28 стихотворений, в названиях которых отражена библейская или — уже — православная символика (из них 10 — названия циклов: "Даниил", "Князь тьмы", "Иосиф", "Георгий", "Благая весть", "Отрок", "Вифлеем", "Дочь Иаира", "Бог", "Магдалина") и около 60 стихотворений без названий с включением библейской тематики в первую (композиционно важную) строку. Если учитывать, что сама Цветаева демонстративно декларировала свое многобожие, внецерковность: "Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем 1 Фатеева Н. А. О лннгвопоэтическом и семиотическом статусе заглавий стихотворных произведений // Поэтика и стилистика: Сб. статей: 1988—1990. М., 1991. С. 201. случае наш христианский Бог входит в сонм его богов"1, такое активное использование библейского текста кажется парадоксальным.
Следует отметить, что "библейский текст" — научная метафора: в своей работе мы рассматриваем не только тексты Ветхого и Нового Заветов, но также все то, что сопутствовало Библии в повседневной и праздничной церковной жизни: жития, специальную литературу богослужебных текстов и даже агиографические источники, т. е. библейский контекст.
Библейские мотивы в творчестве Цветаевой принадлежат к разным категориям. Так, в ее лирике (реже — в прозе) нередко встречаются мотивы, связанные с религиозной стороной русского быта (наглядный пример такого применения религиозной тематики — стихотворение "Благовещенье"). Другую группу составляют произведения, в которых трактуется определенная библейская тема, перефразируются рассказы из Библии или других религиозных произведений (например, в цикле "Магдалина"). Таким образом, в творчестве Цветаевой библейские мотивы вводятся в различные тексты в более или менее скрытом или опосредованном виде, претерпевая различные, зачастую парадоксальные трансформации. Так, мотивы из Ветхого и Нового Заветов могут использоваться как основа и рамка целых произведений; они могут также включаться в структуру произведения как явно чужой дискурс. Библейский источник может также воспроизводиться почти без изменений — скорее как "текст-чтение" (visible), чем как "текст-письмо" (scriptible)2. Кроме того, некоторые из основанных на библейских источниках произведения Цветаевой могут представлять собой переработку ее собственных более ранних трактовок библейского текста (например, неоднократное обращение к истории дочери И аира). 1 Цветаева М. Собрание сочинений: В 7-ми тт. М., 1994—1995. Т. 5. С. 383. (Далее цитаты приводятся в соответствии с данным источником (СС) с указанием первой цифрой тома, остальными — страниц). 2 Здесь используются термины Ролана Барта. Подробнее см.: Barthes R. S/Z. Paris, 1970. P. 10.
1-ая половина 1910-х годов (дореволюционное творчество)
Прежде чем перейти к анализу библейских мотивов в поэзии Цветаевой, следует сказать несколько слов о ее религиозном сознании. Прежде всего необходимо отметить, что Цветаева, последовательно пройдя различные ступени веры — безверия (православие, увлечение католичеством, воинствующее богоборчество,"многобожие"), в 30-е годы решительно станет отмежевываться от атеистов, понимая, что им "ничего не остается, кроме земли и ее земного устройства... А земное устройство не главнее духовного... и земля не все, а если бы даже все — устроение людского общежития еще не вся земля" ("Поэт и время")1. Но, отмежевываясь от атеистов, Цветаева, тем не менее, не решается "назвать себя верующей" ("Земные приметы" — СС, 4, 517) и по-прежнему чувствует себя в церкви чужой, а к христианству относится сдержанно.
Именно тогда она называет поэтов (и себя в том числе) "многобожцами", утверждая право поэта черпать для себя чувства, мысли, идеи из всех верований, всех религий. Поэтому, как справедливо замечает Е. Л. Лаврова, "мы не можем заявить, что Цветаева отпала от христианства. Она принимала его наряду со всеми другими верами, нисколько не умаляя значения других. Была ли М. Цветаева религиозна в собственном смысле этого слова? Да, несомненно была"2. Об этом свидетельствует все ее творчество, в частности потрясающие по глубине и искренности строки, которые найдешь далеко не у всякого поэта: "Господи! Душа сбылась, — // Умысел мой самый тайный". Безусловно, творчество Цветаевой для нас более достоверный и надежный источник, чем противоречивые, путаные и поверхностные свидетельства современников М. Цветаевой о степени ее религиозности, ибо только творчество поэта может быть "вполне автентичным свидетельством его духовной жизни"1.
Свидетельства же современников, как мы уже говорили, весьма противоречивы и часто основываются на чисто внешних наблюдениях о том, ходила или не ходила Цветаева в церковь, соблюдала ли она церковные обряды, крестилась ли и пр. В книге В. Лосской "Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников" приводятся некоторые из этих наблюдений. Так, А.Туринцев, к примеру, отзывается о Цветаевой как о безбожнице, поражаясь отсутствию в поэте идеала, веры в бессмертие: "Она не из бравады и не из строптивости нрава, а действительно по-настоящему не верила в Бога ... Ей не нужны были Бог, душа курсив наш — М. И. и т. д.", хотя тут же Туринцев спешит добавить: "В ее стихах, конечно, есть "душа", но это какой-то вихрь в никуда ... У нее вместо идеала — колдовство ... Отсюда и ее отношение к поэзии как к ремеслу"2. Очевидно, что А.Туринцев весьма поверхностно знал творчество Марины Цветаевой и столь же поверхностно о нем судил. Цветаеву же как человека он недолюбливал и даже осуждал. Туринцев, безусловно, не принадлежал к числу ближайших друзей Цветаевой и не знал ее так хорошо, как, например, М. Слоним. Но и Слоним довольно-таки противоречив в оценке цветаевской религиозности: "Была ли она религиозна? Нет, конечно. То есть, да, для нее было ясно, что здешний мир — это не весь мир и что мир безмерен"3. Даже дочь Цветаевой А. Эфрон отзывается о религиозности матери как-то расплывчато: "Настоящей религиозности не было ... Антирелигиозности в ней тоже не было ... Она была верующая скорее языческого толка"4. Тем не менее многие (А.Эфрон, А. 3. Туржанская, М. Слоним) отмечали, что Цветаева водила детей в церковь, обожала обрядность, помнила все религиозные праздники.
Влияние на Цветаеву православной культуры не стоит преуменьшать, ибо она была русской, православной по отцу, хотя и признавала главенство материнского влияния (мать ее, М. А. Мейн, хотя и перешла в православие, все же оставалась в душе протестанткой: отсюда, наверное, в какой-то мере свойственное Цветаевой чувство вненациональное, внегосударственности и внецерковлости). Не следует забывать, что по отцу Цветаева была внучкой священника, а значит левитская кровь должна была сказаться в ней, и попытка ее отойти от Бога не могла не быть сопряжена с "какой-то если не душевной катастрофой, то с отрывом и разрывом, усугубляющим ... кризис веры, как для любого из родовой касты служителей Бога"1.
Собственно, так и произошло. Цветаева, в детстве, отрочестве и ранней юности веровавшая в Бога, во Христа, поплатилась потом за свой отрыв от веры, ибо по натуре она была и навсегда осталась, несмотря на всю свою телесность, потребность земной любви, "голой душой", "эмигрантом из бессмертия во время", "эмигрантом Царствия Небесного и земного рая природы" (СС, 5, 395).
Лирика Цветаевой 2-ой половины 1910-х годов
В связи с библейской темой в творчестве Цветаевой следует сказать о некоторых чертах ее поэтического идиолекта второй половины десятых годов. Этот период "характеризуется выходом лирического героя ... за пределы возрастного, семейного общения, остается конкретность региональной, профессиональной сферы"1, удостоверенная употреблением именно церковной лексики: названиями православных соборов, церковных праздников и икон (циклы стихов о Москве). Для этого времени характерны следующие контексты: "У меня в Москве — купола горят!", "К Нечаянныя Радости в саду // Я гостя чужеземного сведу", "Святая у меня сегодня Пасха", "В День Благовещенья // Руки раскрещены". В это время стихотворения Цветаевой наполняются церковной, ритуальной, религиозной лексикой: ладан, икона, киот, колокола, ад, рай, Бог, ангел, крест, монастырь, Богородица, молитва, церковь, угодник, архангелы, серафимы, Пасха, Благовещенье, паникадило, лития, риза, святцы и т. д. Цветаева по-прежнему датирует стихи названиями религиозных праздников: Прощеный день, Вербная Суббота, Троицын день, первый день Пасхи. Таким образом Цветаева создает свой собственный, "московский" текст, "демонстрируя тематическую и дискурсивную разнонаправленность, дробление "я"-субъекта на роли и лики, экспансию в область фольклора, расширение поэтического словаря за счет стилистически маркированных средств"2. "Московский текст" Цветаевой в "Верстах I" выстраивается как пространство, обозначенное топонимически (Спасские ворота, Москва-река, Иверская), имеющее историческую и культурную традиции ("И Спасские — с цветами — ворота, // Где шапка православного снята"), обладающее статусом религиозного центра.
Что весьма характерно для структуры цветаевских сборников и циклов — отдельные аспекты темы и мотивы одного стихотворения разрабатываются в следующем сборнике или цикле. Интересно сравнить с этой точки зрения две строфы из стихотворений разных циклов: "Над синевою подмосковных рощ // Накрапывает колокольный дождь. // Бредут слепцы калужскою дорогой, — // Калужской — песенной — прекрасной, и она // Смывает и смывает имена // Смиренных странников, во тьме поющих Бога" (цикл "Стихи о Москве") — и "В певучем граде моем купола горят, // И Спаса светлого славит слепец бродячий ... // И я дарю тебе свой колокольный град, // Ахматова! — и сердце свое в придачу" (цикл "Ахматовой"). Образ слепцов в обоих примерах передает идею святости. Цветаева рисует типичную для России конца XIX — начала XX века картину, когда так называемые "калики перехожие", странствуя, пели духовные стихи, в которых восхваляли Бога. Поэт использует метафорические эпитеты "колокольный дождь" — "колокольный град", "дорога песенная" — "певучий град", создавая таким образом образ соборности, который дополняется метафорой "купола горят". А. Красовски отмечает, что подобная совмещенность в слове смежных смыслов фиксирует "противоречивость, сложность, многозначность образа: с одной стороны — возвышенность, счастье, радость, "светлость", с другой — мрачность, безотрадность, трагичность"1.
Слово "колокол" представляется одним из наиболее значимых в стихотворениях этого периода: это не только одно из самых частотных слов, оно становится структурообразующим элементом знаменитого московского рельефа: "Семь холмов — как семь колоколов! // На семи колоколах — колокольни. // Всех счетом — сорок сороков. // Колокольное семихолмие!". Таким образом происходит пространственное смещение, смыкание верха и низа. В этом "соприкосновении двух миров у подножия креста ... , в этой огненной вспышке, — как отмечает в своей работе "Два мира в древнерусской иконописи" Е. Трубецкой, — весь смысл существования "святой Руси". В горении церковных глав она находит яркое изображение собственного своего духовного облика; это как бы предвосхищение того образа Божия, который должен изобразиться в России"1.
В марте 1916 года Цветаева пишет три стихотворения, посвященные церковным праздникам и датированные ими же: "Устилают — мои — сени..." (о Пасхе) и "В день Благовещенья", "Канун Благовещенья". В стихотворении "Канун Благовещенья" Марина Цветаева дает подробное, детализированное описание Благовещенского собора (видимо, церковь в Александро-Невской Лавре), торжественной службы —литургии в честь этого одного из наиболее почитаемых православными двунадесятых праздников: Черной бессонницей Сияют лики святых, В черном куполе Оконницы ледяные. Золотым кустом, Родословным древом, Никнет паникадило. — Благословен плод чрева Твоего,
Дева Милая! (СС, 1,262) Следует обратить внимание на нерифмованность стиха и наличие особенной ритмической структуры, приближающей его к духовным стихам,
Общая характеристика
Для периода 20-х годов использование библейского и мифологического словаря становится чуть ли не центральным в творчестве М. Цветаевой. Образная система стихотворений отличается большим богатством, происходит ее расширение за счет обращения к целым культурным парадигмам, мировой мифологии и литературе. Так, библейские источники служат основой как для случайных аллюзий (что говорит скорее о спонтанном, непроизвольном употреблении чужого слова, которое — когда-то прочитанное или услышанное в церкви — стало практически своим: в этом смысле можно, на наш взгляд, говорить о "напитанной библейскими текстами памяти" как о составляющей художественного сознания Цветаевой; это также подтверждается анализом локализации цитат из библейских источников — см. ниже), так и для структуры более развитых систем повествования. Иногда сущность или форма унаследованного из библейских текстов материала в основном сохраняется и принимается (например, в цикле "Отрок"), а иногда изменяется и разрушается (в цикле "Магдалина"). Таким образом, "вкрапление" (скорее даже — "вживление") литературного материала (и библейских текстов в том числе) в цветаевскую поэзию подчеркивает свойственную ей противоречивую тенденцию к тому, чтобы в равной степени соприкасаться с традицией и новаторством, принимать и одновременно разрушать наследуемые ею тексты.
В это время Бог воспринимается Цветаевой как творческое начало. Поэт — это тоже творец, но она отчетливо осознает, что Бог в своем творчестве свободен, а поэт — нет. Постепенно стихописание превращается для нее в "ремесло", долг, сделавший из "рабыни госпожу", и наконец появляется, по меткому выражению В. Лосской, «сознание возмездия за искание вечного во времени, "рифм" в устах, "зорь, а не глаз"»1. Отношения Цветаевой с Богом еще больше осложняются. Постепенно нарастает ее конфликт с Ним, что приведет Цветаеву в 30-х годах к религиозной драме. В 1931 году она напишет об этом с горечью: "Бог (тот свет) — наш опыт с ним. Все отшвыривает".
Таким образом, цветаевское творчество 20-х годов приобретает, по сравнению с ранними стихотворениями, иной характер. Для поэта становится важным не столько сюжет произведения, его событийность, сколько душевное прозрение, размышления о мире. В центре творчества Цветаевой в это время — мир человека, мир природы, мир высших духовных ценностей, которые она соотносит с различными временными пластами. Речевым субъектом стихотворения в это время может быть не только лирическая героиня, но и различные иные субстанции — внутренний голос, голоса из внешнего мира2, а сама лирическая героиня может иметь разные степени выражения абстракции: быть то ближе к автору, почти сливаясь с ним, то представлять более отвлеченные "я", становящиеся общечеловеческими. Происходит также постепенный переход к представлению конкретных ситуаций как обобщенных, выбираются темы, которые имеют общечеловеческую значимость, свободные от пространственных или временных ограничений. В 20-е годы, как отмечает О. Г. Ревзина, в поэтических текстах Цветаевой "дискурс любви, жизни, смерти, нравственного закона, философского размышления, психологических состояний, трагедия жизни и трагедия бытия предстают как напряженнейший поиск, спор, полемика, напряженнейшее движение к истине на фоне полной эмоциональной отдачи"1. Именно теперь наиболее полно раскрывается индивидуально-авторский поэтический язык Цветаевой.
Система нравственных ценностей, стратегия поведения личности получают выражение в поэтических высказываниях с активно включенной библейской символикой. Зачастую используются прямые упоминания собственных имен из Библии (чаще всего — из Ветхого Завета): "В завтра взор межу — // Есмь! — // Адамово!"; "Сарру-заповедь и Агарь-сердце — бросив..."; "Но и в смертный бой — // Неверующим Фомой!"; "Ввысь, где рябина // Краше Давида-царя..."; "Не о сокровище, Суламифь: // Горсточке красной глины!".
Словарь собственных имен поэтического идиолекта М. Цветаевой, согласно данным О. Г. Ревзиной2, насчитывает около 800 единиц. Здесь можно выделить три временных пласта: 1. актуальный синхронный срез жизни поэта (например, имена близких, имена Райнер (Рильке), Борис (Пастернак)); 2. русский и европейский культурный и исторический контекст (например, Лжедмитрий, Марина Мнишек, Гамлет, Эмпедокл, Вертер, Петр Великий и т. д.); 3. библейские источники, античная, славянская мифология и фольклор.
Вводя в свои стихотворения имена из столь разных временных пластов, Цветаева ставит перед собой задачу преодолеть разрыв времен, использовать сюжеты, связанные с собственными именами, для показа внутреннего мира современного человека. Для того чтобы выполнить эту задачу, она пользуется самыми разными литературными приемами: от передачи права голоса лицу, названному собственным именем ("Трудно Марфой быть, // Марией — просто...") до представления целого сюжета, связанного с собственным именем, с включением оценки, которую высказывает скрытый "я"- субъект (ср. с уже упоминавшимися строками из стихотворения "Иосиф": "И глотает — с улыбкою — вой // Молодая жена царедворца"). Постепенно Цветаева стремится к слиянию разных временных пластов, "к представлению "я"-субъекта как выходящего за рамки определенного ему жизнью пространственно-временного локуса, к универсальности человеческого самосознания"1. Таким образом, в творчестве Цветаевой интерпретируются уже не только литературные источники, но и исторические события, природные явления, эсхатологические категории, что приводит ее к широкому философскому обобщению как новых для ее творчества проблем, так и тех, которые уже поднимались ею ранее. Упоминание библейских собственных имен поддерживает в контексте значение исторической необратимости, неравности, нетождественности разных этапов исторического развития, что отражает эволюцию взглядов Цветаевой на исторический процесс.
Общая проблематика
К концу поэмы также появляется мотив плача героя над героиней, что вполне может быть соотнесено с русскими народными плачами как жанром, но представляется более тесно связанным со сценой снятия с креста и оплакивания Иисуса. Здесь же дан намек на Воскресенье:
В слезах. Лебеда — На вкус. — А завтра, Когда Проснусь? (СС, 3, 49) Таким образом, неприятие героиней быта (т. е. "жизни, как она есть") разрастается до метафизического отрицания земного мира. Финал "Поэмы Конца" — символический уход героини в смерть: "...И в полые воды // Мглы — сгорблен и равн — // Бесследно, безмолвно — // Как тонет корабль".
В заключение следует сказать, что при разборе поэм "Горы" и "Конца" мы ограничились самыми характерными, узловыми моментами, непосредственно вытекающими из библейского текста. Насыщенность поэм библейскими образами, символами, мотивами предоставляет обширное поле деятельности для их толкования, осмысления, трактовки. Здесь может быть множество точек зрения, однако, как нам кажется, не следует разрушать цельность цветаевского текста, подгоняя его под те или иные исследовательские теории, что пытается, например, сделать в своей, бесспорно, интересной и оригинальной работе Т. Венцлова, когда утверждает, что четырнадцать эпизодов "Поэмы Конца" явно имеют сакральный смысл, соответствуя этапам крестного пути, Via Cruris, католической традиции (хотя он предусмотрительно отмечает, что не следует однозначно соотносить с этапами Via Cruris отдельные (!) части поэмы)1.
Последнее, что хотелось бы отметить — это то, что поэмы "Горы" и "Конца", при всем сходстве их тональности, разрешаются весьма противоположным образом: "Поэма Горы" заканчивается пророческими проклятиями и молением о возмездии, в то время как "Поэма Конца" — плачем, прощением и катарсисом.
Необходимо отметить романтические тенденции в создании образа лирической героини поэм "Горы" и "Конца": в центре поэм — яркая, самобытная личность, для которой переживание любви — это предельное, конечное переживание, которое обусловлено конфликтом с бездуховным началом; личность, способная творить свой собственный мир с его законами. В сознании лирической героини Цветаевой присутствует характерное для романтических героев двоемирие: мир любви как истинного бытия в прошлом и мир быта, "жизни, как она есть" в настоящем. Лирическая героиня Цветаевой отторгается реальным миром, жизнью, вытесняется ею. Образ "вечного жида" органично передает это чувство отверженности. В поэмах "Горы" и "Конца" нет социальной конкретности. В них выражен романтический взгляд на чувства и страсти: одиночество души в несовершенном мире. Цветаевская героиня не ставит перед собой задачу преобразования реальности. В. М. Хаимова объясняет это тем, что Цветаева "была вскормлена немецким романтизмом", вот почему "область духовного утверждается у нее в качестве высшей реальности"1.
Т. о., обе пражские поэмы М. Цветаевой, перекликаясь друг с другом, дополняя друг друга, создают особую шкалу человеческих ценностей, задают новый масштаб человеческой личности, в них складывается новая система гармонии. Н. И. Шлемова по этому поводу пишет: «"Поэма Горы" и "Поэма Конца" как лирически выраженная идея горнего единения становятся одновременно этапом духовного пути М. Цветаевой и укоренением ее внутренней трагедии».
В своей лирике (как ранней, так и зрелой) Цветаева очень часто обращается к религиозному наследию христианства как к богатому источнику образов и мотивов. Имена библейских и мифологических персонажей, конфессиональная лексика, названия религиозных атрибутов появляются в ее творчестве еще в первой половине 1910-х годов. В произведениях этого периода часто встречаются религиозные образы, стихи датируются названиями церковных праздников, что свидетельствует, хотя бы внешне, о религиозном подходе к жизни. Уже в некоторых заключительных стихотворениях "Юношеских стихов", для которых характерны специфические русские народные элементы, начинают доминировать аллюзии на русскую литературу, православие и Библию.