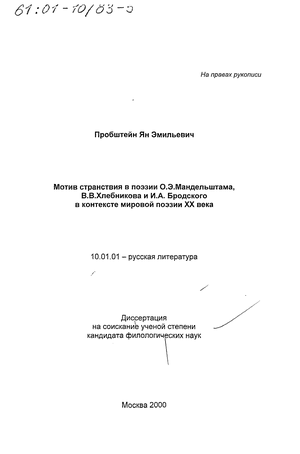Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Мотив странствия как преодоление разорванности времени и «тоски по мировой культуре» С. 16-79
I. Мотив странствия в творчестве Мандельштама С. 16-32
II. Борьба с хаосом . С.33-35
III. Русский футуризм и авангард С.35-41
IV. Хаос и космос у Хлебникова С.41 -62
V. Поздний Мандельштам и Хлебников С.62-79
Глава вторая. Мотив странствия в поэзии Бродского в контексте русской и мировой поэзии XX века. С. 80-119
I. «Одиссея» в поэзии Бродского С.88-103
II Странствия, пространство и время у позднего Бродского С. 103-119
Заключение С. 120-121
Приложения С. 122-152
- Мотив странствия в творчестве Мандельштама
- Борьба с хаосом
- «Одиссея» в поэзии Бродского
- Странствия, пространство и время у позднего Бродского
Введение к работе
Данная работа посвящена исследованию мотива странствия в поэзии Мандельштама, Хлебникова и Бродского и выявлению непосредственных и скрытых связей их творчества с современной мировой поэзией, а в некоторых, исключительных, особо оговоренных случаях, и с эссеистикой и прозой. Целью исследования является доказательство того, что мотив странствия в поэзии Мандельштама, Хлебникова и Бродского служит постижению времени-пространства и бытия и преодолению духовной и культурной разобщенности человечества.
В последнее десятилетие появился ряд работ, в частности, Вяч.Вс.Иванова, Ю.И.Левина, О.Ронена и других1, указывающих на близость поэзии позднего Мандельштама и Хлебникова. Не впадая в крайности, как например, французский исследователь Ж.-К. Ланн, поставивший вопрос о зауми у Мандельштама2, или В.П.Григорьев, утверждающий в своей недавно изданной монографии, что Мандельштам - единственный продолжатель и чуть ли не ученик Хлебникова3, нельзя недооценивать как личного интереса друг к другу, проявленного поэтами во время встреч в 1922 г., так и их родственного отношения ко времени-пространству, о чем писал сам Мандельштам. Кроме того, Мандельштам не только внимательно следил за прижизненными публикациями Хлебникова, но и был знаком с пятью томами Собрания сочинений, которые были изданы под редакцией Ю.Н.Тынянова и Н.Л.Степанова в 1928-1933 гг.
Хотя во многих исследованиях отечественных и западных славистов сравнивается творчество Мандельштама и Хлебникова, Бродского и Мандельштама, Хлебникова и Бродского, знаменательно, что среди множества работ, посвященных творчеству Мандельштама, Хлебникова и Бродского нельзя указать практически ни одной, которая бы специально была посвящена означенной нами теме.
Мы пользуемся понятием поэтического мотива, которое было впервые введено Вильгельмом Дильтеем, а в отечественном литературоведении разрабатывалось
1 Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету О.Э. Мандельштама / О. Мандельштам. Слово и Судьба. -
М., 1991.-С. 183-203.
2 Ланн Ж.-К. Мандельштам и футуризм. Вопрос о зауми в поэтической системе Мандельштама / Столетие
Мандельштама. Материалы симпозиума / Tenafly: Эрмитаж, 1994. - С.216-227.
3 Ср. Григорьев В.П. Хлебников и Мандельштам // Будетлянин. - М., 2000. - С. 637-700.
Веселовским1, Богатыревым, Б. Гаспаровым2, Б.В.Томашевским3, В.Микушевичем4, В.Рудневым5 и другими6. Различая «лейтмотив» и «поэтический мотив» и цитируя Вильгельма Дильтея («Мотив есть не что иное, как жизненное отношение, поэтически понятое, во всей его значительности»), Микушевич развивает эту мысль и продолжает: «...Искусство начинается с жизненного отношения, с материала. Но необходима личность, чтобы поэтически понять значительность этого отношения. <...> Личность и материал - две ипостаси поэтического мотива» . Следует также уточнить значение слова «мотив»: «мотив -есть побудительная причина, повод к действию» - такое определение дает даже Краткий словарь иностранных слов. В свое время слово «мотив» было заимствовано из французского. Значение французского слова - «основная тема, лейтмотив, главная тема». Поэтический мотив или мотив художественного произведения неизмеримо шире как лейтмотива, так и понятия мотивировки, как ее трактовали представители формальной школы: это и основная тема, и побудительная причина к его написанию, и отношение личности художника к действительности, «поэтически понятое», то есть не имитация реальности, но создание особой, поэтической, художественной реальности. Таким образом, личность художника, его отношение к пространству и времени, а если шире, - к бытию является доминантным признаком поэтического мотива. Воплощение поэтического мотива - есть его словесно-синтаксическая реализация в конкретном произведении, «разыгранная при помощи орудийных средств» (Мандельштам). Развивая идею «поэтического мотива», Владимир Микушевич пришел к выводу, что это - «персоналистический архетип или прафеномен, реализующийся в разных контекстах». Действительно, если смотреть на поэтический мотив художественного произведения как на воплощение духа и того, что было в начале, то есть Слова, он архетипичен и в этом смысле понимание Микушевича близко к тому, что Джордж
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. - М.: Высшая школа., 1989.
2 Следует заметить, что данная трактовка поэтического мотива, несмотря на ряд сходств, отличается от того,
как характеризует это понятие Б. Гаспаров в работах «Литературные лейтмотивы» (М., 1994) и «Поэтика
"Слова о полку Игореве"» (М, 2000), а также от упомянутых им Веселовского, Богатырева, Леви-Стросса.
3 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 1999.
4 Микушевич Вл.Б. Поэтический мотив и контекст// Вопросы теории художественного перевода. - М., 1971. -
С.41.
5 К перечисленным выше именам В.Руднев добавляет также З.Фрейда: "Чрезвычайно сходным Гаспаровскому
пониманию мотива и методу мотивного анализа является техника свободных ассоциаций, примененная
З.Фрейдом в психоанализе, когда якобы случайно употребленное слово и сочетание слов по ассоциации с
другими словами и их сочетаниями развертывало картину подсознательно скрываемой психологической
травмы пациента". (В.Руднев. Структурная поэтика и мотивный анализ // Даугава, 1990. - №1.)
6 Среди ученых, изучавших не столько художественную литературу, сколько мировую мифологию, кроме
названного выше К.Леви-Стросса, необходимо назвать также имена ряда отечественных исследователей,
прежде всего — Е.М.Мелетинского [см. ниже], а также В.Н.Топорова как автора работ по изучению
мифопоэтической образности, в частности: Пространство и текст / Текст: семантика и структура. - М., 1983.
7 Микушевич Вл.Б. Поэтический мотив и контекст / Вопросы теории художественного перевода. - М., 1971. -
С.41.
4 Стайнер (George Steiner) называет «непредсказуемое движение духа» (contingent motion of
the spirit), и к мифологическому и архетипическому мышлению канадского литературоведа
Нортропа Фрая (Northrop Frye). Но поскольку художник несет в себе Божье и человеческое,
то, что Т.С.Элиот в «Четырех квартетах» назвал «точкой пересечения времени с вечностью»,
поэтический мотив обращен одновременно к двум мирам - горнему и дольнему и включает в
себя и дух, воплощенный в языке, и личность художника, выявленную в материале, в данном
случае в стихотворно-языковой ткани произведения. Поэтический мотив в нашем понимании
это - единство многообразия: он сочетает в себе то, что в античности называли enargaia
(движение поэтической мысли или повествования сквозь образ) и одновременно - energeia в
трактовке средневековья, а затем Гумбольдта - сгусток поэтической мысли, дух,
воплощенный в языке, при этом сам язык, по Гумбольдту, есть не произведение (Ergon), а
деятельность (Energeia), то есть «вечно обновляющаяся работа духа, направленная на то,
чтобы сделать артикулированный звук выражением мысли». Мотив поэтического
произведения - это дух, воплощенный в языке. Выявить его можно, проследив движение
образа и (или) повествования через стихотворную ткань.
Следовательно, понятие поэтический мотив интерпретируется в данной работе как совокупность основной темы, побудительной причины к написанию произведения, и, главное, отношение личности художника к действительности, "поэтически понятое", то есть не имитация реальности, но создание особой, поэтической, художественной реальности. Личность художника, его отношение к пространству и времени, а если шире, - к бытию является доминантным признаком поэтического мотива как мы его понимаем. Воплощение поэтического мотива есть его словесно-синтаксическая реализация в конкретном произведении, "разыгранная при помощи орудийных средств" (Мандельштам).
Кроме понятия поэтического мотива, мы пользуемся понятием мифологизма, как его понимают Е.М.Мелетинский и В.Н. Топоров (см. ниже), а также лейтмотива. Помимо данных категорий, мы пользуемся понятием темы как ее понимал Б.В.Томашевский, однако не считаем, что «заумное произведение не обладает темой»1.
С древнейших времен поэтический мотив странствия вошел и в мифологию, и в литературу. В русской литературе, на наш взгляд, данная традиция берет исток в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина и в странничестве как духовном поиске; генезис же мотива странствия, если употреблять эти термины, как их понимал Ю.Тынянов2, в современной русской поэзии помимо мифологии, следует, по нашему мнению, искать как в Ветхом Завете,
1 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 1999. - С.176.
2 Тынянов Ю.Н. Тютчев и Гейне// Поэтика, литература, история, кино. - М.: Наука, 1977. - С.29.
5 Гильгамеше, «Одиссее» Гомера, «Божественной комедии» Данте, «Потерянном рае»
Мильтона, так и в современной западной литературе; это в особенности относится к поэзии
И.Бродского, творчеству которого в данной работе посвящена отдельная глава.
Мифологический мотив странствия-поиска обычно предполагает, как верно указал Е.М.Мелетинский, «посещение царства мертвых и символику посвящения, а обряды инициации развертываются в мифологические картины посещения иных миров и соответствующих испытаний...»1. Так как значительное место в данной работе уделено тому, как преломляется мотив странствий Одиссея в творчестве Мандельштама и Бродского, какие изменения претерпевает миф и как перекликается этот мотив с современной западной поэзией, связь творчества с мифом весьма важна для нашего исследования.
Как известно, слово «поэзия» в древнегреческом означало «творить», а слова «миф» и «мысль» восходят к одному древнегреческому корню. Поэт творит из мифа-мысли, как скульптор из глины, рождая звукосмысл.
Понятие «миф» трактуется по-разному: одни считают миф преданием, легендой, в частности, Чейз полагает, что «миф - это литература и должен рассматриваться как эстетическое создание человеческого воображения», другие, как например, Джейн Харрисон, Кук и Теодор Гастер говорят о связи мифа и ритуала и приводят древнегреческое определение мифа: «То, что говорится во время ритуальных действ». Джамбатиста Вико («Новая Наука», 1725) был одним из первых, кто отметил важность связи мифа с поэзией, говоря о том, что восприятие первобытного человека было в основе своей метафорическим, то есть поэтическим и «наделение неодушевленных предметов жизнью, волей и чувствами является самой возвышенной задачей поэзии». Одним из первых Вико также высказал мысль
0 том, что каждая метафора или метонимия является по происхождению «маленьким
мифом». Он выдвинул предположение, что «все тропы... считавшиеся до сих пор
хитроумными изобретениями писателей, были необходимым способом выражения всех
первых поэтических наций и что при своем первом возникновении они обладали всем своим
подлинным значением. Но как вместе с развитием человеческого ума были найдены слова,
обозначающие абстрактные формы или родовые понятия, обнимающие свои виды или
соединяющие части их с целым, то такие способы выражения стали переносами»2.
Небезынтересна также и виконианская концепция развития поэтического языка из мифа («из
божественных и героических характеров») и прозаического языка из поэтического, в
частности, мысли Вико о превращении метафор в языковые знаки, о языке символов в
1 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1995. - С.315.
2 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. - Л., 1940. - С.149.
греческую эпоху. Эти идеи развивали также Гердер, Гегель (а в XX веке, по замечанию Е.М.Мелетинского, циклическая теория культуры Вико была возрождена и продолжена в модернистском истолковании Шпенглера и Тойнби1), немецкие и английские романтики, в частности, П.Б. Шелли. В «Защите поэзии» Шелли говорит о том, что «язык поэта жизненно метафоричен, то есть он подмечает прежде неизвестные отношения между вещами и сохраняет их понимание, пока слова, выражающие их, не превращаются со временем в знаки определенного рода или класса мыслей вместо того, чтобы запечатлевать образы мыслей в их цельности, и поэтому, если не появятся новые поэты, чтобы, обновляя, восстановить распавшиеся связи, язык умрет для всех благороднейших целей человеческого общения»2. (Выделено нами. - Я. П.). Стало быть, обновляя язык, расширяя его границы, поэт тем самым связывает явления и мысли, бытие и время воедино, поэт не только запечатлевает следы прошлого, но и провидит будущее сквозь настоящее. Вот почему Шелли заявил, что «поэты - учредители законов и основатели общества»3. Не ограничиваясь стихотворством, Шелли находит истинную поэзию в истории и философии, во всех видах человеческой деятельности, озаренной воображением, любовью, величием помыслов и духовными устремлениями. «Подлинная поэзия Рима жила в его гражданских установлениях, ибо все прекрасное, что в них было, могло порождаться только тем началом, которое творило самый этот порядок вещей»4, - пишет Шелли и, выделив кульминационные моменты римской истории, заключает: «Все это - эпизоды циклической поэмы, которую Время пишет в памяти людей. Прошлое, подобно вдохновенному рапсоду, поет ее вечно сменяющимся поколениям»5. Поэзия же - квинтэссенция памяти, истории, воображения, любви, -утверждает Шелли. Говоря о том, что Данте первый пробудил Европу, даровал ей видение, философию, из «хаоса варваризмов создал язык, который сам по себе был музыкой и красноречием», Шелли заключает: «Поэзию Данте можно считать мостом, переброшенным через поток времени и соединяющим современный мир с античным»6. Отдавая дань философии и деятельности Локка, Хьюма, Гибббона, Вольтера, Руссо и их последователей «в защиту угнетенного и обманутого человечества», Шелли пишет: «Однако невозможно себе представить нравственное состояние мира, если бы не было Данте, Петрарки, Бокаччо, Чосера, Шекспира, Кальдерона, лорда Бэкона и Мильтона, если бы никогда не жили Рафаэль
1 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1995. - С. 16.
2 Shelley Р.В. A Defence of Poetry I Shelley's Poetry and Prose. A Norton Critical Edition /Donald H. Reiman and
Sharon B. Powers, eds. New York-London: 1977.-P. 482. (Перевод мой-Я.П.)
3 Там же. С.508.
4 Шелли П.Б. Защита поэзии / Литературные манифесты западноевропейских романтиков. - М, 1980. - С.331.
5 Там же. С.331.
6 Там же. С.339.
7 и Микеланджело, если бы не была переведена древнееврейская поэзия, если бы не
возродилось изучение греческой литературы, если бы образцы античной скульптуры не дошли до наших дней, если бы поэзия античных богов исчезла вместе с их культом»1. Одна лишь поэзия и способна пробудить человеческий разум, освободить человека от рабства и возвысить дух. Развитие наук, которое «расширило власть человека над внешним миром, из-за отсутствия поэтического дара, соответственно сузило его внутренний мир, поработив стихии, человек сам при этом остается рабом»2.
Эти мысли, по мнению автора исследования, созвучны тем, которые высказывали русские поэты - Осип Мандельштам в «Разговоре о Данте» и наш современник Иосиф Бродский в «Нобелевской лекции», творчеству которых в данной работе посвящены отдельные главы, в которых, в частности, устанавливается генетическое родство между русской и западной поэзией.
Дальнейшее развитие теория и философия мифа нашла продолжение, как верно заметил Мелетинский, в работах Хр.Г. Гейне, друга Гете К.Ф.Морица, братьев Шлегелей и др., и была завершена Ф.В.Шеллингом3, который, в частности, высказал мысль о том, что «мифология есть необходимое условие и первичный материал для всякого искусства»4.
Эрнст Кассирер, применяя кантовский принцип, говорит о том, что в момент восприятия все знания человека переплавляют синтезирующую деятельность разума в миф. Он полагает, что «введение оппозиции профанного и священного, (т.е. мифически релевантного, концентрированного, с особым магическим отпечатком) служит для артикуляции главных средств и стадии для объективации пространства, времени, числа. Каждый атрибут, прикрепленный к определенному фрагменту пространства или времени, превращается в данное в этом фрагменте содержание, и наоборот, особенности содержания придают специфический характер соответствующей точке в пространстве и во времени. <.. .> Мифическая концепция времени соотносится с тем, что миф всегда подразумевает генезис, становление, жизнь во времени, действие, историю, повествование. Прошлое, как выражается Кассирер, является в мифе причиной вещей, их «почему»; святость бытия восходит к святости происхождения. Время, таким образом, выступает, как первая оригинальная форма духовного оправдания. Первичное время превращается...в реальное, эмпирическое время с помощью выражения пространственных отношений. Простейшие пространственные отношения дифференцировались своего рода перпендикуляром Север -
1 Шелли П.Б. Защита поэзии / Литературные манифесты западноевропейских романтиков. - М., 1980. - С.343.
2 Там же, с.343.
3 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1995. - С. 17.
4 Шеллинг Ф.В. Философия искусства. - М., 1966. -С.105.
8 Юг (с этим-то и связаны оппозиции дня и ночи, света и тьмы). <...> Космическое время
само выступает сначала как жизненный процесс. <...> Природные феномены, в частности
небесные светила, становятся знаком времени, периодичности, универсального порядка,
судьбы. Время придает бытию, по мнению Кассирера, регулирующий, упорядочивающий
характер (при этом оно само приобретает сверхперсональный характер); возникает связь
между астрономическим и этическим космосом1. Данные мысли Кассирера о взаимосвязи
мифа, времени и пространства имеют, на наш взгляд, решающее значение для понимания
поэзии вообще и новейшей поэзии, в частности, это касается творчества Мандельштама,
Хлебникова и Бродского.
Карл Юнг выдвигает понятие коллективного подсознательного и трактует миф как архетип, то есть трансиндивидуальные идеи, стремящиеся найти выражение в форме образов. В статье «Об архетипах коллективного и бессознательного», по верному замечанию Мелетинского, Юнг «отличает архетипы от архетипических идей, тем самым удаляя это понятие от платоновского и кантовского, подчеркивая формальную сторону»2. Идеи Юнга (равно, как и Дж.Вико) важны для понимания творчества таких выдающихся писателей современности, как Джойс и Борхес, с которым устанавливаются генетические связи творчества И.Бродского в соответствующей главе.
Для интерпретации мотива странствия в современной поэзии важны также взгляды современного исследователя Дж.Кэмпбелла, который, по наблюдению Мелетинского, в своей монографии «Герой с тысячью лиц» (1948) «подчиняет методику ритуализма психоанализу и, отталкиваясь от теории Ван Геннена о переходных обрядах, реконструирует некий «мономиф» - универсализованную историю героя в виде единой цепи событий, начиная с ухода из дому, через приобретение сверхъестественной помощи, посвятительные испытания, овладение магической силой, и кончая возвращением»3. Нам важно будет проследить, как эта схема деконструируется (термин Ж.Деррида), демифологизируется (В.Н.Топоров) или, по выражению Мелетинского, неомифологизируется в новейшей русской (И.Бродский) и западной поэзии и литературе (Кавафис, Джойс, Милош, Венцлова и других, творчество, которых, по нашему предположению, созвучно поэзии Бродского).
Для данного исследования важны также идеи В.И. Иванова и, в особенности, А.Ф.Лосева. Вячеслав Иванов считает, что миф - это «объективная правда о сущем» и «отображение реальностей». А.Ф.Лосев, во многом перекликаясь с В.И.Ивановым, в
1 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1995. - С.51.
2 Там же. С.63.
3 Там же. С. 69.
«Диалектике мифа» говорит о том, что миф конкретен, реален, это «не фантастический
вымысел, но логически, т.е. прежде всего диалектически, необходимая категория сознания и бытия вообще. Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность»1. Отграничивая миф от «частично совпадающих с ним форм сознания и творчества», то есть от науки вообще и от метафизики в частности, и говоря о том, что «миф гораздо более чувственное бытие, чем сверхчувственное»2, Лосев пытается отграничить миф также и от поэзии, находя между ними немало общего, но полагая, что «поэтическая действительность есть созерцаемая действительность, мифическая же действительность есть реальная, вещественная и телесная, даже чувственная, несмотря ни на какие ее особенности и даже отрешенные качества»3.
В задачи данной работы входит выявление мифологизма в поэзии, который понимается нами не как воспроизведение мифологических сюжетов или образов, не то, что говорится во время ритуальных действ, даже не символ или архетип, а способ мышления, позволяющий выявить в образе, символе или архетипе такое отношение ко времени, пространству и бытию, благодаря которому воссоздается картина мира и бытия. Не достоверность пересказа мифологических сюжетов, а трансформация, метаморфоза или даже транспонирование мифа, то есть как бы разыгрывание мифа в другом месте и времени и даже деконструкция мифа (что, в частности, характерно для творчества Бродского, Джойса, Паунда, Элиота, Уолкотта и многих других современных авторов, о чем говорится ниже) выявляет неизменное в вечно меняющемся, утверждает неделимость времени и культуры, облекает плотью символ и архетип. В.Н.Топоров отметил, что «мифопоэтическое являет себя как творческое начало эктропической направленности, как противовес угрозе энтропического погружения в бессловесность, немоту, хаос», принадлежит «к высшим проявлениям духа» и «является одновременно участником двух различных процессов, работающих на одно общее»: мифологизацию В.Н. Топоров интерпретирует как «создание, наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов действительности» и демифологизацию как разрушение стереотипов мифопоэтического мышления, утративших свою «подъемную» силу»4.
Нельзя не согласиться с Мелетинским, что «мифологизм является характерным явлением литературы XX века и как художественный прием, и как стоящее за этим приемом
1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Публикация А.Тахо-Годи // Новый журнал. - Нью-Йорк, 1990. - №181. - С.258.
2 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Новый журнал. - Нью-Йорк, 1990. - №180. - С. 315.
3 Там же, С.248.
4 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. - М., 1995. - С.5.
10 мироощущение»1, а также и с тем, что «мифологизм повлек за собой выход за социально-исторические и пространственно-временные рамки»2. Отодвигая границы, пределы, раздвигая мир, поэт вбирает его в себя, растворяясь в нем. Прожить заново то, что было «до» - значит раскрыть смысл корней. Осмысление времени есть восстановление его, распадающегося под гнетом злобы дня, в единстве и таким образом, восстановление истории, в которой происходит становление человека, становящегося самим собой. Хайдеггер писал, что «мысль лишь дает в своей речи слово невыговоренному смыслу бытия. Употребленный здесь оборот «дает слово» надо взять теперь совершенно буквально. Бытие, высветляясь, просит слова. Слово тем самым выступает в просвет бытия. Только так язык впервые начинает быть своим таинственным и, однако, всегда нами правящим способом. Поскольку тем самым в полноте возвращенный своему существу язык историчен, бытие сберегается в памяти. Экзистенция мысляще обитает в доме бытия». «Язык, - по выражению Хайдеггера, - это - дом бытия»3. Поэт - хранитель языка, хранимый им. Таким образом, мы приходим к выводу, что язык - инструмент постижения времени и бытия. Следовательно, и нарекание, как одна из функций поэзии, связано с постижением времени, пространства и бытия, а мифологизм связывает индивидуальное с универсальным, древность и современность - это средоточие, где человек предстает цельным, соединяясь с корнями прабытия, осознает самого себя одновременно как продолжение, конец и начало всего сущего, понимает и определяет себя в связи с прошлым и будущим.
Осмысление времени и бытия приводит поэта к словомыслию, к соединению корней и крон: корнесловию (взгляд в прошлое) и кронословию (взгляд в будущее, преобразование языка, про-зрение, словотворение). На этом пути неотделимы друг от друга Восток и Запад, Европа и Русь, этот путь есть мироогляд, мировоззрение и миропрозрение. Все есть мир и мир во всем так же, как все есть Бог и Бог во всем. Бог един и безымян. В восточной религии и философии (дзэн-буддизм, Лао-Цзы) имя - начало жизни, мать всех вещей. Безымянное -Отец, неизреченное, будущее. А. Лосев в «Философии имени» пишет: «Имя есть та смысловая стихия, которая мощно движет неразличимую бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу»4. Стало быть, «если сущность - имя и слово, то, значит, и весь мир, вселенная есть имя и слово или имена и слова. Все бытие есть то более мертвые, то более живые слова. Космос - лестница разной степени словесности. Человек - слово,
1 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 1995. - С. 295.
2 Там же. С. 296.
3 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / Время и бытие. - М., 1993. - С.219.
4 Лосев А.Ф. Философия имени. - М., 1927. - С. 180.
животное - слово, неодушевленный предмет - слово. Ибо все это - смысл и его выражение. Мир - совокупность разных степеней жизненности или затверделости слова»'.
Будущее каждый час, каждый миг узнается, нарекается. Обретшее имя будущее становится настоящим. Обретая имя, вещь овеществляется - проявляется в бытии как вещь и сберегается в памяти (у Мандельштама в «Нашедшем подкову», эта мысль выражена открыто, о чем подробно говорится ниже). Даль и тьма веков - есть утрата имени, поэт должен оживить прошлое, чтобы восстановить его. Не случайно ведь сказано у Гесиода в «Теогонии», что именно Память была матерью всех муз и богиней поэтов. Корнесловие, корнезрение, прозревание корней, слогов, звуков - вот один путь, а другой - нащупывание темного прошлого, закрытого от нас наслоившимися друг на друга эпохами - есть домысливание, перевоссоздание мифа, в котором вновь и вновь, и каждый раз по-разному видится и осмысляется основное событие бытия - Сотворение Мира и разыгрывается драма бытия. Примечательно, что Сотворение Мира, отделение света от тьмы, а воды от суши, сотворение всего живого и человека - является началом и основой книги Бытия, Священного Писания. Бог с самого начала выступает - вступает в нашу жизнь - как Творец. Ни Зевс, ни отец его, Кронос, ни иное верховное божество языческого пантеона не является создателем вселенной, мира, в полной мере творцом. В Священном Писании Бог - не правитель, не громовержец, не справедливый судья, воздающий всем по делам их, не каратель, даже не благодетель, а прежде всего Творец.
Уверовать в могущество и непогрешимость человека, поставить его в центре бытия и космоса - значит разрушить связь между Творцом и творением. Подобная самоуверенность человеческого разума привела к веку Просвещения, замкнувшему человека в самом себе, надолго изолировавшему его от всего Сущего и от самого себя. Бердяев в «Смысле творчества» пишет: «Пафос всякого гуманизма - утверждение человека как высшего и окончательного, как бога, отвержение сверхчеловеческого. Но лишь только отвергается Бог и обоготворяется человек, человек падает ниже человеческого, ибо человек стоит на высоте лишь как образ и подобие высшего божественного бытия, он подлинно человек, когда он сыновей Богу»2.
Вступая в бытие как творец, человек следует воле Бога, становится подобным ему. Именно отношение к бытию как к созиданию отличает поэзию от описания и летописания, весьма достойных, но принципиально иных занятий. Не стремление запечатлеть
' Лосев А.Ф. Философия имени. - М., 1927. - С. 166.
2 Бердяев Н. Смысл творчества / Философия творчества, культутры, искусства. - М., 1994. - С. 104.
12 ускользающее мгновение, а пере-осмыслить бытие, восстановить корни, и есть творчество
в полном и главном смысле этого слова: созидание, позволяющее заглянуть в будущее.
Мысль эта приобретает еще более глубокий смысл и объем в свете понимания времени и бытия новейшей философией, в частности, Хайдеггером: «Если время каким-то еще потаенным образом принадлежит к истине бытия, то всякое понимание бытия, бросающее себя в открытость истины бытия, должно заглядывать во время как возможный горизонт понимания бытия» и - «интерпретация времени как возможного горизонта всякого понимания бытия есть вообще его предварительная цель»1.
Американский литературовед Джордж Стайнер писал в книге «После Вавилона»: «В каждом языковом акте имеется детерминант времени. Нет ни одной вневременной семантической формы. Обращаясь к слову, мы пробуждаем эхо, в котором отображена вся история этого слова. Текст врезан в конкретное историческое время; он обладает, как говорят лингвисты, диахронической структурой»2. Ссылаясь на гипотезы представителей одного из современных направлений семантики, Стайнер пишет, что язык «является наиболее характерной моделью Гераклитова потока. Он изменяется в каждое мгновение воспринимаемого нами времени»3. Примеры, которые приводит Стайнер, выявляют важнейшие взаимоотношения между языком, временем и историей: «В грамматике книги пророка Исайи явлен глубокий метафизический скандал - давление будущего времени, простирание языка над пределами времени. Открытие противоположного порядка оживляет Фукидида: в его трудах открыто выражено то, что прошлое воссоздано языком, что прошедшее время является единственным гарантом истории»4.
Цель данного исследования - проследить, как развитие мотива странствия, неразрывно связанное со временем-пространством и бытием, выявляет глубинные, коренные связи между временем и языков в современной поэзии.
Новизна работы.
В представленной работе впервые предпринята попытка связать мифологический мотив поиска-странствия с поэтическим мотивом преодоления духовной и культурной разобщенности человечества, его разорванности во времени и пространстве, что сближает не
1 Хайдеггер М. Введение к Что такое метафизика? / Время и Бытие. - М., 1993. - С.ЗЗ.
2 Steiner George. After Babel. Aspects of Language and Translation. - Oxford UP: 1975. - С 24. (Перевод наш. -
ЯЛ.)
3 Там же. С. 18.
4 Там же. С.22.
13 только творчество таких поэтов, как Мандельштам и Бродский, что верно отмечено в ряде
работ о поэзии Бродского, в частности, В.Полухиной, Л. Зубовой, В.Куллэ, П.Вайля,
Дж.Кляйна, Д.Бетеа и некоторых других, о чем подробно говорится в главе, посвященной
творчеству Бродского (ссылки даются в соответствующей главе и в библиографии), но также
Мандельштама и Хлебникова, Аполлинера, Паунда, Йейтса, Элиота, а в случае Бродского,
устанавливается генетическое родство поэтического мотива странствия (в нашем
понимании) с творчеством У.Саба, Ч.Милоша, Т.Венцловы, о чем уже упоминалось в
некоторых работах В.Куллэ, а также с К.Кавафисом, Паундом, «Улиссом» Джойса, что,
насколько нам известно, еще не рассматривалось исследователями творчества Бродского, в
частности, сходное отношение к истории как к повторяющемуся кошмару и к мифу (своего
рода метамифологизм или деконструкция мифа в стихотворениях Бродского «Одиссей
Телемаку» и «Итака»), дают основание говорить о созвучии творчества Бродского с
"Улиссом" Джойса.
Несмотря на то, что поэтическому мотиву странствия-поиска в творчества Бродского, в особенности в связи с темой изгнания, было посвящено несколько исследований, в частности, кроме упоминавшихся выше, главы из книги М.Крепса, работы П.Вайля, Дж.Кляйна, Д. Бетеа, Л. Бернетта и других, данный мотив у Бродского в контексте современной мировой поэзии почти не исследован.
В упоминавшейся работе Мелетинского «Поэтика мифа» дается обзор современной прозы, в котором среди прочих, упоминается и мотив поиска-странствия, однако о современной поэзии вообще и русской поэзии в частности не говорится ни слова, и лишь упоминаются фамилии Паунда и Элиота.
М.Бахтин ввел в литературоведение понятие «хронотоп», применив его исключительно на материале прозы и исследуя формы хронотопа в романе. Мы полагаем, что время в поэзии «сгущается, уплотняется, становится художественно зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории»1 еще больше, нежели в прозе, поскольку время в поэзии и даже физическое пространство страницы в поэзии более сжато, нежели в прозе, а у слова в поэзии больший удельный вес, нежели в прозе. Бахтин не случайно, на наш взгляд, избегал поэзии, развивая теорию хронотопа на материале прозы. Поэзия - это искусство, тайна, магия. Она не поддается пересказу, как писал Мандельштам, и лишь до известной степени поддается анализу. Помня
1 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. - С.235.
14 об этом, автор данной работы стремился следовать за текстом, а не подгонять поэзию под
уже сложившуюся концепцию.
Автор связывает мотив странствия с мифологизмом, пространством и временем,
рассматривает, как они реализуются в различных поэтических контекстах, и на основании
этого не только устанавливает сходство между поэтами разных эпох и течений (к примеру,
между французским авангардом и русским футуризмом), стран (между Мандельштамом и
ирландским поэтом Йейтсом, между представителями авангарда и модернизма -
Хлебниковым и Аполлинером, между творчеством Бродского и целым рядом поэтов, стихи
многих из которых он сам переводил на русский), но и выявляет различие между поэтами,
принадлежащими к одному направлению.
Актуальность исследования.
Несмотря на то, что количество исследований поэзии, посвященных творчеству Хлебникова, Мандельштама и Бродского, огромно, остаются лакуны прежде всего в комплексном исследовании мотива странствия в творчестве данных поэтов, а также в выявлении генезиса и традиции их творчества. Данная диссертация призвана частично заполнить эти пробелы.
Методология.
Методологическим основанием диссертационного исследования является комплексный, междисциплинарный подход. Наше исследование, охватывая целый комплекс дисциплин, как то: история литературы, литературоведение, компаративистика, история, философия, и т.п. и т.д., пытается решить эту задачу. Это тем более актуально, что, как было отмечено выше, мотив странствия связан с целым комплексом мотивов, с постижением времени, истории и бытия, и требует целостного подхода. При систематизации обширного фактического материала нами был также использован метод сравнительного анализа источников.
Источники.
Эмпирической основой настоящей работы послужило интертекстуальное и хронологическое изучение творчества Мандельштама, Хлебникова и Бродского в контексте
15 русской и мировой поэзии, с одной стороны, и исследование литературоведческих и
критических работ, посвященных их творчеству, с другой. Помимо поэтического творчества,
была рассмотрена также эссеистика и проза данных авторов, а также тех западных поэтов и
прозаиков, в чьем творчестве были обнаружены родственные поэтические мотивы.
Практическое значение.
Результаты нашей работы призваны стимулировать развитие новых литературоведческих исследований.
Полученное в результате работы новое знание существенно обогащает наши представления как о творчестве рассматриваемых поэтов, так и о мотиве странствия-поиска в современной поэзии.
Проанализированный в работе материал может быть использован в учебных курсах по истории литературы, сравнительного литературоведения, теории литературы, в спецкурсах по этим предметам, а также при подготовке соответствующих учебных пособий. Основные идеи и выводы исследования излагались на международных научных конференциях: Рим (1989), Нью-Йорк (1990, 1991, 1992), Коктебель (1993), Хобокен (Нью-Джерси, 1996), а также опубликованы в виде статей в ряде изданий России и США.
Структура работы.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложения, в которое включены большие по объему тексты, выбранные и переведенные нами, и списка используемой литературы.
Мотив странствия в творчестве Мандельштама
В раннем стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» цепь назывных предложений, «разыгрывающих», по выражению Мандельштама, поток сознания, является в то же время цепью метонимий пространства, истории, культуры. Список кораблей - «сей выводок, сей поезд журавлиный» соединяет эпохи; «и море, и Гомер - все движется любовью», - та метаморфоза, которая «сопрягает далековатые идеи» (Ломоносов), делая их зримыми, это своего рода ответ на вопрос: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?»: Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, -На головах царей божественная пена, -Куда плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер - все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море Черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. (1915, М 1:104-105) Последние два стиха окончательно размывают границу между бессонной ночью в Коктебеле и осадой Трои, два мира объединились, этот стык знаменует собой сдвиг во времени-пространстве, неделимость которых, равно как и истории, становится явной, ощутимой. Море является не только метафорой любви1, но и времени, истории. В другом известном стихотворении Мандельштам писал: Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный. (1917;М1:116) Поэтический мотив странствия, воплощенный в мифе, у Мандельштама, равно, как и у большинства поэтов, чье творчество рассматривается в данной работе, связан с плаванием, с водной стихией, являющейся для них метафорой времени. Плавание символизирует не столько преодоление пространства, сколько времени2. Для Мандельштама мотив странствия связан с предвкушением, с тягой к дороге, с будущим, реализация которого являет пространственную, пластическую, звуковую картину настоящего, когда все пять чувств, прежде всего зрение и слух, неуемно вбирают оглушающее и ослепительное настоящее, как в цикле «Армения». Мотив же возвращения у Мандельштама обычно выражается прошедшим: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», «В год тридцать первый от рожденья века // Я возвратился, нет - читай: насильно// был возвращен в буддийскую Москву». (Выделено нами. - Я.П.). Будущее же в поэзии Мандельштама нередко выражает тревогу, предчувствие испытаний: «Я буду метаться по табору улицы темной...», «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:!! Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить...», ибо «И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,// Получишь уксусную губку ты для изменнических губ». (Выделено мной - Я.П.). В этом пророческом стихотворении 1933 г. будущее усилено повелительным наклонением, однако из подтекста стихотворения ясно, что все запреты здравого смысла бессильны помешать этой, ставшей в тоталитарном государстве «преступной» тяге к мировой культуре, и «За беззаконные восторги лихая плата стережет». Средством преодоления разорванности времени и разобщенности человечества для Мандельштама является «соединение несоединимого», «синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий», как заметил, цитируя Мандельштама, В.Микушевич в статье «Принцип синхронии в позднем творчестве Мандельштама». Особо выделив другую «формулу» из «Разговора о Данте»: «Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени - сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его», Микушевич заключает: «Совместным держанием времени утоляется тоска по мировой культуре»1. В свете этого стихи Мандельштама 1920 г.: «У меня остается одна забота на свете: // Золотая забота, как времени бремя избыть» наполняются особым смыслом: избыть - значит быть, осуществиться, одолев смертность не физически, а духовно - «совместным держанием времени», тем самым наполняя время содержанием и преодолевая раздробленность времени, прийти к целительной цельности времени и бытия. Поэтому у Мандельштама мотивы преодоления разорванности бытия, времени-пространства, разобщенности человечества и разъединенности культуры неразрывно связаны с творчеством: Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. (М 1:145) Флейта, как заметил Е.Г. Эткинд, - метонимия искусства, поэзии1. (К этому образу Мандельштам вернется в Воронеже, где изолированный, «невольный отщепенец», будет вынужден заговаривать пустоту, растворяясь в безотзывности: «И невольно на убыль, на убыль / Равно действие флейты клоню», ССДП, 135.) Связать «узловатых дней колена» -значит, сродни Гамлету, восстановить «вывихнутое», распавшееся время. Эта связь и вязь наиболее зрима в стихотворениях 1923 года «Нашедший подкову» и «Грифельная ода». «Нашедший подкову» являет собой исключительный пример свободного, открытого стиха в творчестве Мандельштама не только в смысле ритмическом, но и в смысле связанности, открытости метафор и аллюзий, мостиков-ассоциаций, обычно разрушаемых Мандельштамом (что наиболее ярко выражено в «Грифельной оде» и в «Стихах о Неизвестном Солдате»). Связь времени-пространства в этом стихотворении нерасторжима, связь явлений воплощена в образе сосен, «до самой верхушки свободных от мохнатой ноши», «слаженных в переборки», а до того «стоявших на земле, // неудобной, как хребет осла».
Борьба с хаосом
Родственный Мандельштаму поэтический мотив плавания как преодоления разорванности времени и разобщенности человечества, «соединения несоединимого», «синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий», воплощен в творчестве ирландского поэта Иейтса, в частности, в его знаменитом стихотворении «Плавание в Византию» (1927). Лирический герой Иейтса покидает «сейчас и здесь»:
Здесь старикам не место. Молодых, Сплетающих объятья, славят птицы, И смертные в своих путях земных -Кишит макрель в морях и нерестится Лосось, - моря, леса подвластны гимнам их, -Все, что с рожденья к смерти устремится, Забудет ради чувственного лета Нетленные творенья интеллекта.
Как пугало в обносках, вот - старик, Но лишь душа проглянет из обличья, Запев, захлопает в ладоши - вмиг Ничтожество исполнится величья. Наукой пенья тайны не постиг, Но смог урок наследия постичь я, И потому, преодолев стихии, Приплыл в святую землю Византии. (Перевод Яна Пробштейна.) Старик в этом чувственном мире похож на огородное пугало, ничтожен, пока душа не проглянет из обличья, «Запев, захлопает в ладоши - вмиг/ Ничтожество исполнится величья»: творчество помогает преодолеть бренность, постичь урок наследия, преемственности культур. Постигнув урок наследия, приобщившись к нетленным творениям духа, лирический герой стихотворения, образ которого в данном случае трудно отделить от самого поэта, отплывает в Византию: плавание это знаменует собой не просто сдвиг во времени-пространстве, но прежде всего - в культуре. Это поиски цельности культуры, неделимости истории, жажда обретения гармонии, утрата которой остро ощущалась такимипоэтами XX века, как Элиот, Паунд, Готфрид Бенн. Элиот, писавший в «Четырех квартетах»:
«История может быть рабством,/ История может быть и свободой», особенно высоко ценил «чувство своей эпохи», равно, как и чувство историзма, выделяя его у Данте, Шекспира, Вийона, Стендаля, Флобера, Бодлера, Джойса и Йейтса.
Сам Йейтс писал, что если бы ему было дано прожить месяц в античности, он бы выбрал Византию незадолго до той поры, как Юстиниан построил церковь св. Софии и закрыл Академию Платона. В те времена художнику, златокузнецу, поэту удавалось передать «видение всего народа» в искусстве столь цельном, что оно производило впечатление единого образа.
Почему же Мандельштам и Иейтс так устремлены к Средиземноморью, Византии? Вспомним, что Айя-София метафора одного из «Восьмистиший», а стихотворение 1912 г. называется «Айя-София»: Айя-София - здесь остановиться Судил Господь народам и царям! (М 1:83)
Как известно, церковь Софии была построена императором Константином, но во время так называемого восстания «Ника» (532 г.н.э.) при Юстиниане она сгорела, и на ее месте Юстиниан воздвиг величественный храм. Стало быть, Йейтса привлекает время более раннее, чем Мандельштама, для которого, как заметил, К.Тарановский, важнее была связь между «вторым» (Константинопль) и «третьим Римом» (Москва), которая «всем миром правит»1. Однако в этой тяге к Элладе и Византии у Мандельштама и Йейтса были и сходные мотивы. Византийская империя, просуществовавшая дольше Западной Римской империи, объединила в себе Восток и Запад, культуру древней Греции и современную ей культуру всего Средиземноморья, это была «эпоха сложного цветения», как об этом писал русский мыслитель XIX века Константин Леонтьев1, именно из вновь открытого культурного наследия Византии появилось европейское Возрождение. Потому вослед за Данте, Гете,
Гельдерлином, Мандельштам и Иейтс «стремятся к неделимому небу Европы» (выражение Вл.Микушевича). Ю.И. Левин заметил, что все стихи «крымско-эллинского» цикла вызывают «ощущение единства времени и пространства»2. Хотя В.Н.Топоров в книге «Эней - человек судьбы» писал об эпической поэзии и эпическом герое, формулировка «локус конкретного пересечения двух вышеназванных тем,
Вергилия и Средиземноморья, - пространство, время, сфера духа»3, на наш взгляд, вполне выражает поэтический мотив как Мандельштама, так и Йейтса.
«Одиссея» в поэзии Бродского
По мнению Зубовой, Бродский смешивает два эпизода из «Одиссеи»: когда Улисс стал пленником Цирцеи, а его спутники были превращены в свиней, и эпизод, когда Улисс, потерявший уже всех спутников, становится пленником Калипсо , к тому же, Зубова приводит и эпизод возвращения Улисса на Итаку, когда в первый момент не узнает своего родного острова. Куллэ же придерживается мнения, что Одиссей у Бродского шлет свое послание с острова Цирцеи2. На наш взгляд, картина времени-пространства намеренно размыта: таковы «итоги странствий, странные итоги»: «все острова похожи друг на друга». Одиссей, подобно самому поэту, - изгнанник, но изгнанник невольный, а в данном случае -пленник. В эпической поэзии, в поэзии Гомера и Вергилия у времени-пространства отчетливое, хотя, быть может, и не открыто прямолинейное, движение вперед к достижению героем своей цели. Анализ стихотворений, приведенных выше, приводит к выводу, что Бродский -поэт анти-эпический. (В «Путешествии в Стамблул» [V, 285-287] он открыто признается в антипатии к Виргилию и любви к лирическим поэтам, элегикам Овидию и Проперцию»3.) У Одиссея из стихотворения Бродского цель утрачена, либо ее не было вовсе. Сам лирический герой явно анти-гомеровский: Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Эти строки могли быть обращены не Одиссеем к Телемаку, но автором стихотворения к собственном сыну - так, скрываясь за маской (вспомним строки из стихотворения «Прощайте, мадемуазель Вероника: «...Греческий принцип маски / снова в ходу»), поэт исподволь выражает собственные чувства, когда это понимаешь, осознаешь, каким трагизмом дышит это современное прочтение мифа. Миф перестал быть иллюстрацией, неким безопасным упражнением на известную тему, он заставляет по новому увидеть и почувствовать реальность - современность. Образы Мандельштама - «Морские тяжелые волны», «шероховатая поверхность морей», «влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново» и «виноградное мясо стихов» трансформировались в «водяное мясо», чтобы затем, как заметил Куллэ1, еще раз появиться уже в переводе «Песни Одиннадцатой» Томаса Венцловы [IV, 243-244], выполненном Бродским. Стихотворение Венцловы, которое также является остраннением «Одиссеи» и в этом смысле деконструкцией мифа, начинается, как замечает Куллэ, «обычным приморским пейзажем, перекликающимся, кстати, со стихотворениями «литовского цикла» самого Бродского»2: Все было, видимо, не так. Сквозь ветви открылся нам большой заглохший порт. Бетон причальной стенки безмятежно белел в зацветшей илистой воде. У Гомера, как известно, иначе: ...Весло, корабельное взявши, отправься Странствовать снова и странствуй, покуда людей не увидишь, Моря не знающих, пищи своей никогда не солящих, Также не зревших еще ни в волнах кораблей быстроходных, Пурпурногрудых, ни весел, носящих, как мощные крылья, Их по морям, - от меня же узнай несомнительный признак: Если дорогой ты путника встретишь и путник тот спросит: «Что за лопату несешь на блестящем плече, иноземец? - В землю весло водрузи - ты окончил свое роковое Долгое странствие. У Венцловы - «рассохшиеся сваи», «каркасы барок», «дюны», «выгоревший флаг / жары подрагивал над горизонтом», «хлопец, / плот мастеривший из подгнивших досок, / чтоб переправиться через протоку», который, как предполагает Куллэ, и был Эльпенор, но вся картина намеренно размыта: хотя говорится, что «опричь него/ людей там не было», однако из финала стихотворения следует, что хлопец и друг, один из «тех, с кем свидеться дано лишь после смерти», - два разных персонажа. «Исколотый огрызками бессчетных / мачт и стреноженный канатом воздух...» отнюдь не напоминает местность, где люди моря не знают. Далее у Венцловы: .. .Уже не помню, кто пробормотал, что эта местность тоже отчасти с Итакой имеет сходство. Был полдень, сердцевина дня. Минувшая война и годы странствий Отягощали мозг наш, как вода, Пловцу неловкому пробравшаяся в бронхи. Это, по наблюдению Куллэ, уже из самого Бродского - «и водяное мясо застит слух». Далее Куллэ, как уже отмечено выше, полагает, что «как Бродский дописывал «тетрадь, где есть стихи о Телемахе», в своем переводе Умберто Саба, Венцлова продолжает стихотворение Бродского. (Он же, кстати, перевел его в свое время на литовский язык)»1. Затем происходит встреча-разминовение:
Странствия, пространство и время у позднего Бродского
В своем программном стихотворении «К Урании», в честь которого названа и русская (Ардис, 1987), и английская (Farrar, Straus & Giroux, New York, 1988) книги, Бродский демонстративно игнорирует Историю. Урания старше и, очевидно, важнее Клио. Урания, символом которой для поэта является глобус, в свою очередь, сама является символом пространства для поэта. Урания, которая считалась в античности музой астрономии (и именно таковой представлялась Баратынскому: «Поклонникам Урании холодной / Поет, увы! он благодать страстей» [«Последний поэт»1], а кроме того, как заметил Барри Шер, ассоциировалась с Афродитой, а в позднейшие времена, в поэзии Спенсера и Мильтона - с музой христианской поэзии2. Другое стихотворение из книги «К Урании» - «Муха» поражает удивительным сходством с одноименным стихотворением Уильяма Блейка из «Песен опыта»: Блейк: Бродский (III) Мошка малая, игру А нынче, милая, мой желтый ноготь Резвую твою в жару брюшко твое горазд потрогать, Неосмысленным движеньем и ты не вздрагиваешь от испуга, Прервала рука моя. жужжа, подруга. (V) Но, сравнивая с тем и овом тебя, я обращаю в прибыль твою погибель, подталкивая ручкой подлой тебя к бесплотной мысли, к полной неосязаемости раньше срока. Прости: жестоко. (VIII) Не такой ли точно я, И только двое нас теперь - заразы Не подобен ли вполне разносчиков. Микробы, фразы Мошке? Ты ли, тварь живая, равно способны поражать живое. Не подобна разве мне? Нас только двое... Бродский проводит параллели между мухой и лирическим «я», от лица которого ведется повествование, между мухой и Музой. Именно поэтому так трагично звучат стихи из XII строфы: Не умирай! Сопротивляйся, ползай, Существовать не интересно с пользой. Тем паче, для себя: казенной. Честней без оной 105 смущать календари и числа присутствием, лишенным смысла, доказывая посторонним, что жизнь - синоним небытия и нарушенья правил. Будь помоложе ты, я б взор направил туда, где этого в избытке. Ты же стара и ближе. Пространство сведено к плоскости, мир - к микромиру, время - к микровремени, последнее подтверждается таким высказыванием, как: «По мне, /движущееся вовне/ время не стоит внимания» [IV, 75] из стихотворения «Fin de Siecle», о котором речь пойдет ниже. Лирический герой «Мухи» все время балансирует на краю небытия и приходит к следующему выводу: «Жизнь - /синоним небытия и нарушенья правил» - таким образом поэт, быть может, выражает свою жажду жизни, ностальгию не по существованию, а по жизни, свою ностальгию... Согласно геометрии Лобачевского, параллельные линии пересекаются. Подобным образом пересекаются и концовки обоих стихотворений для того, чтобы разойтись в полярно противоположных направлениях: Блейк: Если мысль, дыханье, сила -Жизнь, что даровал Господь, -Что же, смерть тогда бескрыла, Мысли ей не побороть. Бродский (XXI): ...я тебя увижу весной, чью жижу Мошка, что ж, тогда и я Тварь, как ты счастливая, Жив ли буду или впредь Мне случится умереть. (Перевод Я.Пробштейна) топча, подумаю: звезда сорвалась, и, преодолевая вялость, рукою вслед махну. Однако не Зодиака то будет жертвой, но твоей душою, летящею совпасть с чужою личинкой, чтоб явить навозу метаморфозу. Перевоплощение происходит не «в агонии бесплотного огня», когда «в крови стихает ярости возня» (Йейтс), место реинкарнации, согласно Бродскому - навоз. Читателю «Мухи» остается не ясно, будет ли рад лирический герой стихотворения обрести новую жизнь и новую смерть. Трагизм поздней поэзии Бродского заключается, на наш взгляд, в том, что автор видит землю плоской, вселенную конечной, а человека павшим и лишившимся бессмертия. Ощутимая разница в отношении поэтов (в данном случае Блейка и Бродского) к бытию, не просто к реальности, воплощается в различных интонационных системах и поэтиках.