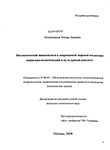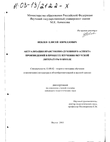Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Краткая история фэнтези как социально-культурного явления и проблематика его изучения 8
1. Дефиниции фэнтези: история вопроса и определение явления 8
2. Классификация направлений фэнтези и понятие «метасюжет» 25
3. Краткая история фэнтези в литературе и культуре: Запад 49
4. Краткая история фэнтези в литературе и культуре: Россия 52
Глава 2. Славянский метасюжет в русской культуре нового и новейшего времени 58
1. Славянская тема в современной массовой культуре 58
2. Славянский метасюжет в советской культуре (1920-е - 1950-е гг.) 63
3. Славянский метасюжет в советской массовой культуре (1960-е -1980-е гг.) 69
4. Образцы и модели славянского метасюжета в культурном производстве позднего советского периода 76
5. Советское неоязычество: от родных богов к панрусизму 88
Глава 3. Формулы славянской фэнтези 102
1. Героико-эпическая формула славянской фэнтези 105
2. «Альтернативно-компенсируюшая» формула славянской фэнтези 123
3. «Родноверская» формула славянской фэнтези 130
4. Деконструкционистская формула славянской фэнтези 135
Заключение
Приложение 1. Библиография художественных произведений по тематике и топике славянской фэнтези
Приложение 2. Избранная библиография современных паранаучных исследований в суб-поле славянской фэнтези
Библиография
- Дефиниции фэнтези: история вопроса и определение явления
- Краткая история фэнтези в литературе и культуре: Россия
- Советское неоязычество: от родных богов к панрусизму
- Деконструкционистская формула славянской фэнтези
Дефиниции фэнтези: история вопроса и определение явления
В современном русском языке, равно обиходном и литературном, отмечается ускорение процесса лексического заимствования. Причем заимствования характерны не только для профессиональных областей, прежде не существовавших или по идеологическим причинам пребывавших вне общемировых тенденций, но и для тех, которые обладают давно сложившимся и устоявшимся лексиконом, - например, для культурологии. Одним из таких заимствованных слов является слово «фэнтези», которым в литературоведении обозначают определенное литературно-тематическое единство, а в культурологии - совокупность объединенных тематикой сюжетов, приемов и социальных практик.
В отличие от многих других современных заимствований, для которых русский язык предлагает адекватные синонимические соответствия, необходимость данного заимствования, на наш взгляд, очевидна: русская культура столкнулась с совершенно новым для себя явлением, не имевшим четкого обозначения. В отечественном литературоведении, которое первым отметило это событие, предпринимались усилия предложить различные «описательные» термины4, но все эти попытки потерпели неудачу, - не в последнюю очередь благодаря политике российских книгоиздателей, калькировавших англоязычный термин в названиях серий и на обложках книг5, и журналистов, в своих статьях и заметках воспроизводивших эту кальку. После того как, стараниями издателей и журналистов, слово «фэнтези» закрепилось в обыденном языке, его был вынужден признать и академический мир6.
Однако, при всей своей лаконичности, слово «фэнтези» до сих пор не получило строгого терминологического толкования, причем как в российской науке, так и в западной; это не столько термин, сколько удобное обозначение культурного явления. Само понятие «фэнтези» трактуется весьма широко, а определения, содержащиеся в научных работах, зачастую противоречат друг другу.
Западное литературоведение выделяет четыре основных подхода к определению понятия «фэнтези»; здесь мы опираемся на схему, предложенную английскими исследователями Ф. Мендлесон и Э. Джеймсом, а также на концепцию социального поля, выдвинутую французским философом и социологом П. Бурдье7.
Первые три из них можно назвать прагматическими: эти подходы используют сложившуюся практику словоупотребления, благодаря чему к фэнтези становится возможным отнести значительное количество художественных текстов, начиная едва ли не с поэм Гомера (и тем самым как бы легализовать это направление в литературе), а также множество кинофильмов, произведений искусства и ролевых и компьютерных игр.
Так, один подход признает отличительным признаком фэнтези в литературе и культуре наличие элемента невозможного и необъяснимого; это позволяет четко отделить фэнтези от научной фантастики, которая также описывает невозможное, но признает его принципиально объяснимым. Порой даже в рамках этого подхода к фэнтези относят все, что повествует о «нереальном», не имеет значения - возможном или невозможном. Тогда, если использовать литературные примеры, получится, что южноамериканский «магический реализм» - это фэнтези, а «реальным» оказывается, допустим, разве что производственный роман. Подобная трактовка обеспечивает фэнтези как литературному направлению весьма внушительную «родословную», восходящую к древнейшим мифологическим текстам; здесь очевиден, если обратиться к работам П. Бурдье, символический интерес агентов поля литературы (точнее, суб-поля фэнтези), связанный с легитимацией статуса фэнтези в литературе8.
Другой подход к определению фэнтези Ф. Мендлесон и Э. Джеймс именуют ретроспективным: фантастический элемент рассматривается как антитеза рациональности эпохи Просвещения и «современному расцвету литературного и артистического мимезиса». Чем шире раздвигаются границы человеческого познания, тем чаще фантастическое оказывается правдоподобным. Впрочем, здесь очевидна опасность чрезмерной ретроспекции, когда исследователь, вольно или невольно, приписывает авторам и аудитории прошлого современные взгляды и эмоции. Тогда, к примеру, становится возможным утверждать, следуя критику Б. Стейблфорду9, что в «Макбете» Шекспир, «сам нисколько не веривший во всякую чертовщину, как и его публика, всего-навсего тонко потешался над королем Яковом I, известным своей верой в колдовство». Этот подход автоматически исключает из фэнтези все тексты, действие которых происходит в вымышленном мире, не имеющем отношения к реальному (следовательно, основная масса нынешних произведений фэнтези оказывается вне данного суб-поля и попадает - поскольку к научной фантастике их тоже не отнести - в какое-то иное суб-поле, название которому еще предстоит придумать).
Третий прагматический подход к фэнтези - это визуальный подход потребителей, издателей и продавцов соответствующих носителей, будь то книги, кассеты, диски и пр. Для большинства потребителей особым образом оформленная обложка книги или диска (дракон, седобородый чародей, брутальный варвар с мечом и т.п.) служит явным опознавательным знаком: это - фэнтези10. Подобная художественная стилистика, к слову, восходит к творчеству визионера-предромантика У. Блейка, художников «готического стиля», скажем, Г. Фюзели, и, конечно, прерафаэлитов, прежде всего, Э. Берн-Джонса (на отечественный «визуальный ряд» сильное влияние оказали такие художники, как Б. Вальехо, Л. Ройо, Р. Мэтыос и, в меньшей степени, советский «славянский китч» Палеха и Хохломы; подробнее о последнем см. в главах 2 и 3). Книги и диски с таким оформлением на полках магазинов помещаются обычно в разделах «Фэнтези и научная фантастика».
Наконец четвертый подход к определению фэнтези - это подход научный. Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайным разнообразием точек зрения, гипотез и теорий; это несколько удивляет, поскольку понятие «фэнтези» - во всяком случае, в западном литературоведении - используется уже с 1970-х гг. (а в издательской практике - и того ранее, с 1930-х). Тем не менее, общепринятая дефиниция фэнтези отсутствует даже на Западе; отечественные же литературоведы и культурологи, как говорилось выше, обратили внимание на фэнтези совсем недавно и во многом следуют западным определениям и трактовкам. Разумеется, мы говорим об академической дефиниции; литературная критика писала и пишет о фэнтези много и часто, в значительной степени восполняя недостаток внимания к этому явлению со стороны науки.
Как правило, критика анализирует какое-либо отдельное произведение либо цикл произведений, намного реже — топику внутри тематического единства, и практически не стремится (возможно, сознавая, что это не ее задача) описать историю и состояние этого единства и явления в целом. Любопытно, что первыми исследования предпринимали сами писатели: так, Г. Ф. Лавкрафт написал обзорную работу «Сверхъестественный ужас в литературе» (1925-1927), дабы «на все времена утвердить подлинность и достоинство таинственного, ужасного повествования как литературной формы»; Б. Олдисс пытался анализировать причины популярности «Хроник Нарнии» и произведений, написанных в подражание К. С. Льюису («если читаешь фантастику, значит, ты несерьезный человек»); М. Муркок предложил язык и стилистику произведений фэнтези как критерий отличения этого литературно-тематического единства от прочих («"Властелин колец" по своему стилю - это эпический провал, а никак не фэнтези»)11; и, конечно, после публикации «Властелина колец» и стремительного увеличения символической ценности этого произведения стали одна за другой выходить критические статьи, посвященные творчеству Дж. Р. Р. Толкина (аналогичная ситуация наблюдалась и в России после выпуска в начале 1990-х годов знаменитой трилогии на русском языке)12. Нелишне, пожалуй, напомнить, что и сам Толкин в эссе «О волшебных историях» попытался определить принципы литературы о «мирах, где правит волшебство»; с его точки зрения, волшебная история есть способ восстановления душевного равновесия человека и способ романтизации действительности: «Восстановить душевное равновесие хорошо помогают волшебные истории. И только любовь к сказкам может сохранить в нас или вернуть нам детство, то есть детский взгляд на мир»13. Причем романтизацию Толкин понимал как синоним понятия «эскапизм», в которое отнюдь не вкладывал негативного значения.
Академический интерес к фэнтези оформился во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов. Из крупных фигур следует упомянуть прежде всего структуралиста Ц. Тодорова, опубликовавшего работу «Введение в фантастическую литературу», в которой была предложена теория фантастического как эстетической категории. По Тодорову, фантастическое в целом есть «неуверенность», «колебание» человека, которому предстоит решить: «или это обман чувств, иллюзия, продукт воображения, и тогда законы мира остаются неизменными, или же событие действительно имело место, оно — составная часть реальности, но тогда эта реальность подчиняется неведомым нам законам... Фантастическое существует, пока сохраняется эта неуверенность... Фантастическое - это колебание, испытываемое человеком, которому знакомы лишь законы природы, когда он наблюдает явление, кажущееся сверхъестественным». Жанр фэнтези, следуя этой логике, занимает соседнее положение с фантастическим: «как только мы выбираем тот или иной ответ, мы покидаем сферу фантастического и вступаем в пределы соседнего жанра - жанра необычного или жанра чудесного»14.
Краткая история фэнтези в литературе и культуре: Россия
Предыстория современного российской фэнтези будет подробно рассмотрена и проанализирована в главе 2, а здесь мы по необходимости коротко обозначим основные этапы развития данного направления в нашей стране в 1990-х - 2000-х годах.
Почему задаются именно такие хронологические рамки? По той причине, что до начала 1990-х годов российской фэнтези - в том понимании термина, который предлагается в настоящей работе, то есть, как направления массовой литературы — попросту не было. В современной российской литературе (и шире - в культуре) фэнтези появилась как заимствование с Запада; ее локальная предыстория была обнаружена и осмыслена значительно позднее.
Формально датой «первого контакта» фэнтези как явления с российской литературой и культурой, на наш взгляд, следует считать 1982 год, когда московское издательство «Детская литература» опубликовало сокращенный перевод первой части «Властелина колец» Дж. P.P. Толкина97. При тираже 100 000 экз. это издание практически мгновенно стало библиографической редкостью и тиражировалось далее в самиздате, а то обстоятельство, что издательство отказалось от перевода следующих частей трилогии, привело к появлению множества любительских переводов и пересказов, также распространявшихся в самиздате. (Среди российских поклонников творчества Толкина довольно долго была популярна такая шутка: «У каждого уважающего себя фэна Профессора лежит в столе начатый перевод ВК»98.) Более того, помимо переводов, появление этого текста породило волну самостоятельного литературного творчества — и спровоцировало позднее всплеск интереса к ролевым играм «по Толкину». В 1996 году один из участников российского толкиновского движения, скрывшийся за говорящим псевдонимом «Семен Ганжин» , вспоминал: «Катализатором для возникновения движения стала странная история, случившаяся в начале 80-х с первым русским переводом "Властелина колец": издательство... внезапно отказалось от выпуска остальных частей... 10 Неудовлетворенное любопытство сотен тысяч заинтригованных читателей породило самиздатские переводы, в том числе и других книг Толкина, его стихов и поэм. А от перевода стихов — один шаг до собственного поэтического творчества "по мотивам". Так рождались лирические стихи от лица героев Толкина, рисунки и картины, а также бесчисленные пародии, анекдоты... Субкультура "толкинистов"... была поначалу поиском социальной альтернативы, поиском своего измерения в мире, своей скромной свободы от общества... самое неожиданное влияние на зарождающуюся субкультуру оказали выходцы из военно-исторических клубов, принесшие с собою идею костюмированной ролевой игры»101.
Первые «Хоббитские игрища» состоялись в 1990 году под Красноярском; по воспоминаниям участницы игры Р. Авдониной, «в Красноярске игроки со всего Союза поселились на пару дней в гостинице "Турист", пугали народ прикидами, мечами и боями у парадного подъезда, раскупили в соседнем универмаге алюминиевые "тарелки"-ледокаталки на щиты...»102.
Движение быстро сделалось весьма популярным у молодежи, превратилось в полноценную субкультуру103 и даже выработало собственную гражданскую позицию (в том же 1996 году московские толкинисты вместе с экологами протестовали против застройки Нескучного сада, например), а «Игрища» продолжаются и по сей день и в 2013 году состоялись под Екатеринбургом.
Среди участников «Игрищ» и толкиновского движения в целом было достаточно много людей с литературными талантами, в том числе переводчиков «Властелина колец», чьи работы впоследствии увидели свет (В. А. Маторина, А. В. Немирова) и будущих авторов российской фэнтези (А. Л. Мартьянов, Н. В. Некрасова, О. А. Чигиринская и др.). Да и первое литературное произведение современной российской фэнтези тоже многим обязано Толкину и его книгам: это «Кольцо Тьмы», «свободное продолжение» «Властелина колец» авторства Н. Д. Перумова, широко известного под псевдонимом «Ник Перумов», - черновой вариант «Кольца» распространялся в самиздате еще в конце 1980-х годов, а в 1993 году отредактированный текст был опубликован в печати и вскоре переиздан массовым тиражом. Примерно в те же годы, в начале 1990-х, в Сети стала распространяться «Черная книга Арды», еще одно произведение «по Толкину», на сей раз — от имени Темных сил (первое книжное издание — 1995, окончательный вариант - 2008, в 2 т.). Позднее К. Ю. Еськов в романе «Последний кольценосец» (1999) попытался переосмыслить романы Толкина как литературно обработанный героический эпос народов-победителей и раскрыть «истинную подоплеку» описываемых в них событий от лица проигравших, то есть орков : «Наше повествование целиком основано на подробных... рассказах Цэрлэга [орка. - К. К], которые хранятся в его роду как устное предание... любой желающий может со спокойной совестью объявить все это бредом выжившего из ума орка, которому вздумалось на старости лет переиграть финал Войны Кольца; в конце концов, на то и придуманы мемуары - чтобы ветераны могли задним числом обратить все свои поражения в победы»104.
Кроме того, популярность «Властелина колец» у читателей (вторая и третья части романа были опубликованы, в переводе Кистяковского и Муравьева и только Муравьева соответственно, в 1992 г.) и литературное творчество участников толкиновского движения привели к появлению и распространению, в самиздате и в печатной форме, многочисленных пародий, как переводных («Тошнит от колец» Д. Кении и Г. Бэрда, 1969, первое русское издание 1993), так и отечественных («Звирьмариллион» А. В. Свиридова, 1994).
В целом, не будет преувеличением сказать, что «внедрение» фэнтези в российскую словесность и российскую культуру началось именно с Толкина. Многие произведения других западных авторов фэнтези тоже «ходили в самиздате» (в частности, «Хроники Нарнии», «Хроники Амбера», романы А. Нортон и П. Андерсона), а с началом «перестроечного» книгоиздательского бума западная фэнтези уверенно закрепилась на российском книжном рынке, и петербургское издательство «Северо-Запад» запустило отдельную книжную серию под названием «Fantasy». Заметными событиями стали и еще две серии, «Конан» и «Приключения Ричарда Блейда», причем в каждом случае все начиналось с переводных произведений, а в дальнейшем издательство (тот же «Северо-Запад») привлекло к сотрудничеству отечественных авторов, которые публиковали свои произведения в этих сериях под иностранными псевдонимами (Дуглас Брайан — Е. В. Хаецкая, Майкл Мэнсон — М. Ахманов, Кристофер Грант — Д. В. Ивахнов, Олаф Бьерн Локнит — А. Л. Мартьянов, и др.). Как признавалась впоследствии Е.В. Хаецкая, «при работе над издательским проектом "Конан", уже не переводным, а вполне русским, по воле издательства родился американский писатель-авангардист, помешанный на своем кельтском происхождении, — некий Дуглас Брайан, который, как сообщалось в аннотации, совершенно неожиданно для себя написал несколько романов о Конане»105. Даже вне сериальных проектов российские писатели публиковались под англоязычными псевдонимами, чтобы читатель обратил внимание на их книги (самый известный пример - роман «Меч и радуга» Е. В. Хаецкой в стилистике героической фэнтези, изданный в 1993 году от имени «Мэделайн Симмонс»).
Впрочем, понадобилось всего несколько лет, чтобы насытить массовый читательский спрос на западную массовую литературу. Во второй половине 1990-х годов в российском общественном сознании произошел перелом: усиленное впитывание после падения «железного занавеса» западной массовой культуры, прежде всего в ее американизированном варианте, обернулось пресыщением этой культурой и породило ответную реакцию — политики и интеллектуалы заговорили о поисках национальной идеи, способной объединить социум, о необходимости возрождения нации и «приобщения к корням». Вполне возможно, что это связано в том числе и с изменением государственной политики, с отказом от «слепого подражания» Западу и формулированием (точнее, воскрешением) идеи «собственного пути» — причем этот путь виделся в восстановлении традиции, прерванной «лихими девяностыми», и восходящей едва ли не к временам Киевской Руси 106, то есть в повторном обретении самоидентификации через восстановление преемственности культурно-исторических периодов (по Р. Брубейкеру107).
По большому счету, налицо была как осознанная (шедшая от властных институтов), так и «инстинктивная» (ощущаемая массами) потребность создать новое — или воссоздать былое — «воображаемое сообщество», поскольку произошло «глубинное изменение в способах восприятия мира» 08.
Советское неоязычество: от родных богов к панрусизму
Русский культурный национализм 1960-х годов с характерным для него интересом к поискам «национальных корней» отчасти заполнил идеологический вакуум, образовавшийся вследствие догматизации и «бюрократизации» государственной коммунистической идеологии. Причем показательно, что в качестве идей-«заместителей» были выбраны концепции, фактически отрицающие друг друга, однако успешно сочетавшиеся в мировоззрении культурных националистов: с одной стороны, это возрождение православия и монархических ценностей и символики (ср. выше воспоминания А. Л. Янова, а также см. автобиографию И. С. Глазунова225), а с другой стороны - это отрицание православия и христианства в целом как не соответствующих «национальному духу» и стремление восстановить дохристианские традиции русского народа, в том числе почитание «родительских богов».
Данную аморфность мировоззрения русских культурных националистов отмечает, к примеру, Н. А. Митрохин, но не уделяет ей достаточного внимания, сосредотачиваясь на изучении форм самоорганизации националистического движения. Между тем осознание указанной аморфности, единственным системообразующим принципом которой выступает приоритет «русской традиции», что бы под последней ни понималось, является принципиально важным для понимания националистического дискурса поздней советской, равно как и постсоветской, массовой культуры: в преломлении массовой культуры православие (и в некоторой степени монархизм) становится выразителем национальной идеи и одновременно как бы санкционирует реконструкцию дохристианских, языческих практик, поскольку они выражают ту же самую национальную идею. Это современное «двоемыслие» отчетливо прослеживается в произведениях массового искусства, прежде всего в литературных обработках славянского метасюжета (примеры см. в главе 3).
В других исследованиях (см. работы В. В. Прибыловского, М. Каганской, У. Лакера) русский культурный национализм позднего советского периода рассматривается исключительно как очередное проявление антисемитизма, якобы «исконно» свойственного титульному населению России, и именно в антисемитизме вышеназванные авторы видят причину возникновения неоязыческих течений и движений (как реакции на «засилье сионизма»), в том числе в форме христианства и коммунистической идеологии), и именно антисемитизмом обосновывают влияние неоязычества на массовое сознание и массовую культуру. Как представляется, подобная точка зрения во многом обусловлена политической конъюнктурой и вряд ли может быть признана обоснованной. Во всяком случае, антисемитизм определенно не был основной причиной возникновения советского неоязычества и его постепенной популяризации226. Скорее, на наш взгляд, тут следует говорить об ощущении неизбежного «конца истории» (то есть, утопического советского проекта) и стремлении предотвратить подобный исход через актуализацию националистических настроений и реконструкцию образа «славного прошлого», которое будто бы способно вытеснить неудовлетворительное настоящее.
Кроме того, с 1960-х годов в среде городской интеллигенции началось увлечение всевозможными «восточными» идеями и практиками, как-то: буддизмом, дзэн-буддизмом, «духовной гимнастикой» цигун и т. д. Эти идеи проникали в советский социум не с Востока, а с Запада, то есть приходили уже в своем масс-культурном воплощении; так, йога в том виде, в каком ей обучали тиражировавшиеся самиздатом тексты, представляла собой теософскую духовную практику, имевшую весьма опосредованное отношение к собственно йоге. Позднее, примерно с середины 1970-х годов, это увлечение «восточной экзотикой» привело к появлению многочисленных полуподпольных «оздоровительных клубов», где преподавалась все та же теософская «выжимка» из йоги в сочетании с комплексами физических упражнений; еще позднее, в конце 1980-х годов, часть этих клубов обратилась к военно-историческим реконструкциям и «ратоборствам» (см. ниже о славяно-горицкой борьбе). Наряду с «дальневосточными» практиками советская интеллигенция увлеклась и всевозможными оккультными идеями и в целом идеологией New Age. Не удивительно, что среди тех, кто практиковал «достижение духовного просветления» вне рамок коммунистической идеологии или православной культуры, со временем сформировался интерес к неоязычеству227.
Так или иначе, советское неоязычество заявило о себе в середине 1970-х годов и сравнительно быстро приобрело популярность228. Применительно к массовой культуре эта популярность выразилась в рецепции и освоении ряда культурных артефактов, наиболее известным из которых является «Велесова книга».
Прежде чем перейти к истории советского неоязычества и его взаимодействию с массовой культурой, коротко остановимся на проблеме дефиниции этого социокультурного явления, чтобы избежать в дальнейшем терминологической путаницы. Мы разделяем точку зрения А. В. Гайдукова, который различает язычество и неоязычество на основании прерванности традиции: если язычество, «совокупность домонотеистической мифологии и обрядности», в том числе современное, сохраняет преемственность архаического мышления, то неоязычество, «совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-политических и историко-культурных объединений и движений»229, характеризуется именно тем, что стремится восстановить прерванную традицию, реконструировать ее в соответствии с собственными представлениями об этой традиции, то есть, налицо классическое конструктивистское «изобретение традиции». Причем если для идеологов неоязычества и их последователей эти представления имеют сакральный смысл, то в массовой культуре они банализируются, профанизируются и становятся стереотипами, которые начинает использовать культурное производство.
Что касается термина «родноверие», он появился сравнительно поздно, уже в 1990-х годах, и по сей день не имеет строгого толкования. Впервые это самоназвание употребил в 1998 году волхв Богумил Мурин (Д. А. Гасанов), причем в варианте «родная вера»: неоязыческое движение Богумила получило название Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры (ССО СРВ). В 2001 году глава московской общины «Родолюбие» волхв Всеслав (И. Г. Черкасов) сократил это словосочетание до одного слова «родноверие». Причем, как указывает К. Айтамурто230, сами неоязычники предпочитают определения «ведизм» (от глагола «ведать») и «православие» (произвольная этимология от «правь», «правда», и «славить»). Тем не менее, термин «родноверие» получил довольно широкое распространение в СМИ, да и часть неоязычников им все-таки пользуется (например, тот же ССО СРВ). Мы используем этот термин и его производные как синонимы определения «неоязычество».
Определив терминологию, вернемся к «Велесовой книге». По нашему мнению, проникновение неоязыческой идеологии в советскую массовую культуру началось именно с распространения этого текста в самиздате; другие, более ранние тексты националистов и неоязычников широкой известности не получили. Выше отмечалось, что научный анализ данного текста был предпринят еще в 1960-х годах Л. П. Жуковской, однако общественного внимания он не привлек, а вот в середине 1970-х годов, как упоминает в своей публичной лекции о «Велесовой книге» А. А. Зализняк, об этом тексте «вдруг заговорили журналисты и энтузиасты»231. Вероятно, внезапный интерес широкой публики к «Велесовой книге» был в известной степени спровоцирован самим фактом ее публикации в самиздате: подобная публикация подразумевала цензурный запрет на официальное издание текста, следовательно, этот текст приобретал символическую «оппозиционную» ценность. Кроме того, романтическая история находки «Велесовой книги» (в пересказе Ю. П. Миролюбова) отвечала ностальгически-монархическим настроениям части советской интеллигенции: офицер отступающей Белой армии находит таблички с непонятными письменами в разоренном поместье на Украине и с риском для жизни увозит их в эмиграцию232. Дополнительную символическую ценность тексту придавало то обстоятельство, что впервые он был опубликован в эмигрантском журнале за пределами СССР; для советского массового сознания ярлык «зарубежности» на любом товаре, материального или культурного производства, имел определяющее значение, выступал своего рода «знаком качества»233. В совокупности эти факторы обеспечили «Велесовой книге» в середине 1970-х годов успешное проникновение в советскую массовую культуру.
Деконструкционистская формула славянской фэнтези
Как отмечалось в предыдущей главе, «потешная» деконструкция славянского метасюжета в отечественной массовой культуре началась еще в советский период. Сама культурная среда, в которой воспитывался и существовал советский человек - и в которой осуществлялась постоянная актуализация и героизация образов «славного прошлого», - в известной степени провоцировала комическое и даже сатирическое (например, в «Сказке про Федота-стрельца» Л. А. Филатова или в анекдотах о трех богатырях345) переосмысление этих «навязываемых» образов в массовой культуре.
Значительную роль в демифологизации и «абсурдизации» славянского метасюжета сыграл, как тоже было отмечено выше, советский кинематограф, прежде всего - советское сказочное кино, в котором на первый план выводилась не идеологическая, а именно комическая составляющая «славного прошлого».
В постсоветский период деконструкция славянского метасюжета получила продолжение - как в массовом искусстве (литература, анимационное кино), так и в повседневной и сетевой культурах (ср. образчик современного сетевого «славянского» юмора: «Как известно, сначала славяне были язычниками. На каждый вид деятельности им полагалось по богу. Так, известен бог аппетита Жор, бог сна Масса и бог питья Поехали. Чтобы задобрить своих богов, славяне приносили им в жертву труд»346). На наш взгляд, в деконструкции славянского метасюжета как социокультурном явлении можно выделить три структурных элемента, различающихся жанровой принадлежностью: применительно к кинематографу это преемственность по отношению к традициям советского кино, равно художественного и анимационного; применительно к повседневной и сетевой культуре это реакция на активную пропагандистскую деятельность неоязыческих общин, в том числе на паранаучные и литературные публикации; наконец применительно к массовой литературе (конкретно - к славянской фэнтези) это художественный прием, позволяющий авторам противопоставить себя другим формулам славянской фэнтези и тем самым обеспечить своим произведениям дополнительную символическую ценность. В последнем случае девальвация героического пафоса, свойственного фэнтези как суб-полю массовой литературы в целом, реализуется множеством способов, от пародии и бурлеска до «романов-анекдотов»347.
Первым к деконструкционистской формуле в славянской фэнтези обратился М. Г. Успенский в своем цикле о Жихаре. В одном из интервью автор так сформулировал причины этого обращения: «У меня была сказка про Жихарку348, и однажды я подумал, почему бы не сделать этого мальчика героем романа, рассказать о том, как он вырос и что с ним случилось. Еще мне хотелось написать нечто вроде русской «Алисы», чтобы можно было обыгрывать известные сюжеты, стишки и прочее... Я просто вывел положительные черты русского характера. И поскольку у русского характера еще масса отрицательных сторон, я ими героя не стал перегружать, иначе бы второй Достоевский получился» .
Цикл М. Г. Успенского о Жихаре вообще стоит особняком — пожалуй, в современной российской фэнтези нет другого такого текста (условимся считать трилогию и примыкающие к ней, стилистически и концептуально, романы «Белый хрен в конопляном поле» и «Невинная девушка с мешком золота» за единый текст) с подобной концентрацией фольклорно-мифологических мотивов, литературных сюжетов и филологического материала, переосмысленных в стилистике и идеологии фэнтези. Языковой игры, к слову, в этом тексте столько, что периодически она затмевает собой развитие действия, а многие реплики героев Успенского за минувшие годы (первый роман цикла опубликован в 1995 году, как и «Волкодав») разошлись на цитаты; наиболее известные из них — «Всяк сироту обидеть норовит» и «Всех убыо, один останусь»350.
Трилогия, которую открывает роман «Там, где нас нет», посвящена приключениям богатыря Жихаря, по воле князя города Столенград отправляющегося в дальние и полные опасностей походы. По композиции все три романа — типичные квесты, основанные на схеме «пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что». Формально главным героем трилогии выступает богатырь Жихарь, олицетворение былинного русского витязя. Сразу оговоримся, что к настоящим былинным персонажам этот богатырь имеет весьма опосредованное отношение; скорее, его образ очевидно соответствует стереотипному представлению о былинном витязе в позднесоветской и российской масс-культуре, воспитанной кинематографом, — косая сажень в плечах, невеликий ум в сочетании с недюжинной силой, пристрастие к пирам и застольям, искренняя готовность сражаться и погибать «за Русь» и при этом демонстративное нежелание считаться с властью в лице князя и приближенных последнего, если те не оказывают богатырю подобающего уважения.
Как читатель и вправе ожидать от текста, стилизованного под фольклор, да еще высмеивающего отечественную псевдогероическую фэнтези, действующие лица романа — не самостоятельные личности, пусть каждый из них и носит собственное имя, а, скорее, типажи. При этом, повторимся, автор широко использует не фольклорные, а литературные и кинематографические источники. О Жихаре говорилось выше; его спутник Яр-Тур (аллюзия на короля Артура и одновременно на эпитет «Буй Тур» из «Слова о полку Игореве», благодаря широкой известности последнего проникший в советскую и российскую масс-культуру) — рыцарь без страха и упрека, куртуазный и справедливый, в любой ситуации принимающий решения, исходя из рыцарского кодекса чести; другой спутник, монах Лю (реверанс в сторону классического китайского романа, который М. Г.
Успенский считает образцом авантюрно-фантастической литературы351), — стереотипный китаец (в представлении, почерпнутом из западного кинематографа и приключенческих, в том числе «шпионских» романов): хитроумный, даже коварный, изъясняется весьма велеречиво, в бою дерется голыми руками и ногами и часто цитирует Конфуция. Эта троица словно списана (разумеется, не буквально) со знаменитой тройки русских богатырей — Ильи Муромца (Яр-Тур), Добрыни Никитича (Жихарь) и Алеши Поповича (Лю), причем снова приходится признать, что эти образы имеют не столько фольклорное, сколько масс-культурное происхождение.
Главный антагонист Мироед — олицетворение коварства, неудачливый искуситель, напоминающий Кощея из советских сказочных фильмов; его имя прочитывается буквально — ср. описание пасти Мироеда: «Зубы у Мироеда были белые, крупные, частые и острые. У людей таких не бывает, да и не у всякого зверя встретишь... {Внутри пасти] была чернота, усеянная мелкими звездами. Среди звезд плыли, кружась, шары разной величины и расцветки. Иные были покрыты дымом, сквозь дым проглядывали очертания морей и земель. Иногда эти шары с грохотом сталкивались..». Все прочие духи и бесы в романе изображены скорее как опасные, но уважаемые соседи, которые всегда не прочь навредить человеку, если тот совершает необдуманные поступки, однако «судят по справедливости», и «если ты к ним с почтением, и они тебя не обидят». Жихарь никогда не пренебрегает обязанностью «уважить» лешего, домового или банника, а с водяным из соседнего со стольным городом озера и вовсе поддерживает почти приятельские отношения. Конечно, он не забывает и почитать богов, от Белобога до Громовика, но «боги далеко, а нечисть-то под боком», поэтому богатырь взывает к богам в ситуациях, по-настоящему затруднительных, а с нечистью — к слову, весьма патриотично настроенной — общается по-свойски, исповедуя принцип «услуга за услугу». Единственный «бог», уважением к которому Жихарь иногда манкирует, это «дедушка Пропп», чьим кумирам на перекрестках дорог полагается рассказывать истории — «новеллы али устареллы» — за то, что «он установил все законы, по которым идут дела в мире». Введение в роман этого персонажа лишний раз подчеркивает, на наш взгляд, условно-фольклорную ориентированность текста352.
По мере чтения текста Успенского становится ясно, что настоящий главный герой его произведений — фольклорная Древняя Русь, именно фольклорная, а не историческая, причем та фольклорная Русь, представление о которой сложилось благодаря исторической беллетристике и советскому сказочному кинематографу. Что касается самого Жихаря, это — лубок, доведенное до абсурда стереотипное представление об «образцовом» былинном богатыре. Таков же, собственно, и мир, в котором Жихарь обитает. Если попытаться сравнить Жихаря с Волкодавом, к чему побуждает героико-эпическая тематика, объединяющая тексты Успенского и Семеновой, мы обнаружим, что они из разных миров: мир Волкодава условен исторически, а мир Жихаря — пародийно. Если в первом случае налицо все основания говорить о славянской фэнтези, понимаемой как творческая художественная реконструкция условного прошлого, то в случае втором славянский метасюжет предстает такой же условностью, как и мир, обрисованный в тексте. Не случайно, кстати, издатели ни разу не поместили на обложках книг Успенского слоган «русская фэнтези» или «славянская фэнтези»; эти произведения всегда рекламировались как юмористическая фантастика (или фэнтези).
М. Г. Успенский деконструирует славянский метасюжет изнутри — мир Жихаря совершенно не испытывает воздействия внешней, текущей реальности, все его трансформации осуществляются изнутри, и деконструкция — внедрение в славянский метасюжет чужеродных элементов (китайский монах Лю, золотая ложка-ваджра, история короля Артура) — носит внутренний характер. Правда, текст Успенского требует подготовленного читателя — обладающего не только багажом стереотипов и социальных шаблонов массовой культуры, но и хотя бы начатками гуманитарного образования.
Точно так же не подпадает под стандартные издательские дефиниции и роман Е. Ю. Лукина «Катали мы ваше солнце». Преподаватель русского языка по образованию, Лукин известен интересом к истории родного языка. Свой условно-славянский мир Берендеева царства он строит, опираясь, подобно М. Г. Успенскому, на языковые средства — буквально прочитывая идиоматические выражения (как, например, то, которое вынесено в название романа), «овеществляя» пословицы и поговорки, широко применяя приемы языковой игры и лексическую полисемантичность и грамматическое многообразие форм русского языка (река Вытекла, река Сволочь, город Сволочь-на-Сволочи, тресветлое солнце — изначально было три светила, но одно рухнуло, и осталось два, четное и нечетное, и т.д.), умеренно используя историзмы и архаизмы. В итоге псевдославянское окружение создается именно посредством языка: «За ночь горенка выстыла, пробирал озноб. Либо огонь вздуть? Кудыка встал и в черной, как сажа, тьме сошел крутой двенадцатиступенной лесенкой в подклет, где потрогал чуть теплую печку и хмыкнул довольно. Печью своей Кудыка гордился. Сложенная из греческого кирпича и лишь сверху обмазанная глиной, жар она держала, почитай, всю ночь. В двух шагах от Кудыкиной подворотни по речке по Вытекле пролегал путь из варяг в греки - ну как тут не попользоваться такой оказией!»