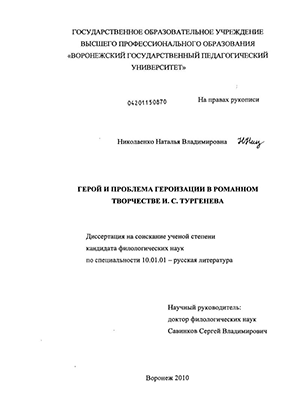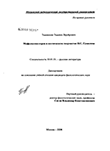Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Герой и героическое в философско-эстетической рефлексии тургеневской эпохи и критическая рецепция творчества Тургенева в 1850- 1870-е годы 19
Глава 2. Герой и судьба в «культурно-героических» романах Тургенева 48
2.1. Слово и судьба Рудина 48
2.2. Любовь и смерть в сюжете тургеневского Героя 57
2.3. Герой и «лишний человек» 84
Глава 3. Герой и поколение в романном творчестве Тургенева 92
Заключение 119
Список использованной литературы 124
- Герой и героическое в философско-эстетической рефлексии тургеневской эпохи и критическая рецепция творчества Тургенева в 1850- 1870-е годы
- Слово и судьба Рудина
- Любовь и смерть в сюжете тургеневского Героя
- Герой и «лишний человек»
Введение к работе
Острота восприятия тургеневских романов прежде всего была обусловлена тем, что Тургенев затрагивал в них не просто важную, а, можно сказать, животрепещущую для его времени тему «героя времени». Развернувшаяся вокруг романов Тургенева полемика главной точкой приложения своих критических сил сделала вопрос о том, насколько созданные Тургеневым герои могут претендовать на звание героя. То, что современниками Тургенева воспринималось по преимуществу как неудавшаяся попытка создать характер героя, для писателя имело и другое измерение: несостоявшаяся героизация означала на деле обнаружение новой субстанции героического.
Степень разработанности проблемы. Первой в списке важной для нашего исследования работ должна быть названа статья Л.В. Пумпянского «Романы Тургенева и роман «Накануне» (Историко-литературный очерк)». По сути, эта давняя статья Пумпянского остается и до сих пор единственной работой, в которой проблема романного жанра и проблема героического начала в творчестве Тургенева оказались в тесном и непосредственном между собой сопряжении. И об этом прежде всего свидетельствует то определение, которое ученый дал тургеневскому роману: «Роман «Накануне», как и все тургеневские романы, принадлежит к особой разновидности этого жанра, которую вернее всего было бы назвать «героическим романом»» (Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собр. тр. по истории русской литературы. М., 2000. С. 381).
Как полагает Л.В. Пумпянский, отличительной особенностью этого типа романа, имеющего и европейскую традицию, является следующее обстоятельство: «В героическом романе совершается непрерывный суд над лицом, - не над поступками, а над лицом, так что поступки имеют лишь симптоматическое значение. Вопрос идет не о качестве отдельных действий, а об общей социальной качественности героя». При этом Пумпянский считает необходимым особо подчеркнуть, что слово «герой» следует понимать не в «похвальном», а в формально-терминологическом смысле. Правда, несмотря на категоричность, с которой Пумпянский отказывается от понятия героичности в «похвальном» значении, тем не менее, это значение в его рассуждениях все равно присутствует. Ведь герой, который подвергает себя неизвестности суда не в формально-техническом смысле,
а в конкретике своего романного бытия, не может не обрести героического ореола хотя бы потому, что далеко не каждый на такое испытание способен. Это должен быть персонаж, наделенный так или иначе выраженной исключительностью. Так что объективно из рассуждений Пумпянского следует, что герой в «техническом» смысле непременно должен обладать и героическими чертами в «похвальном» смысле.
Герой, что тоже принципиально важно для Пумпянского, у Тургенева оценивается с позиции его социальной востребованности. Некоторые наблюдаемые у Пумпянского неувязки и поправки в определении героя и героического связаны еще и с тем, что ученый рассматривает роман и с учетом исторической поэтики, согласно которой этот жанр не может и не должен оперировать такими категориями, как герой и героическое.
Герой принадлежит эпическому миру. Мир эпопеи - место обитания героя - характеризуется М.М. Бахтиным как мир недосягаемого героического прошлого: «начал» и «вершин» национальной истории, отцов и родоначальников, «первых» и «лучших» (М.М. Бахтин. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 246).
Отношение автора к недосягаемому для него героическому прошлому и героическому герою может быть только благоговейным отношением потомка. Мир эпического героического прошлого «можно только благоговейно принимать, но к нему нельзя прикасаться, он вне района изменяющей и переосмысливающей человеческой активности» (М.М. Бахтин. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 260).
Акт героизации, как его обрисовывает Бахтин, тесно сопряжен с «манипуляциями» временем и временной перспективой. У Бахтина выявляются три возможных типа героизации: героизация прошлого, героизация героя и героизация современности.
Как представляется, мысль о новом способе героизации или, лучше сказать, о поисках нового способа героизации героя имеет самое непосредственное отношение к Тургеневу, и потому для нашей работы она обрела значение одной из важнейших методологических опор.
Другой аспект рассмотрения героической темы в современной отечественной научной литературе был задан В.М. Марковичем (в книге «Человек в романах Тургенева»), который за точку отсчета взял не культуру и жанр, а тургеневского человека и родовую сущность тургеневского романа.
Для Марковича «тургеневский герой-идеолог - не воспитанник соответствующей нравственно-философской культуры, а ее творец ... тип культуры, с которым связан в романе главный герой, не предшествует его личности, воздействуя на нее извне. Не она его формирует, а он ее - отсюда возможность его внутренней свободы по отношению к ней» (В.М. Маркович. Человек в романах И.С.Тургенева. Л., 1975. С. 96).
Относящийся к «высшей категории» тургеневский герой, - это «эпохальный человек в самом высоком смысле этого слова. Через него реализуются высшие возможности эпохи, через него входят в мир творческие импульсы прогресса» (В.М. Маркович. Человек в романах И.С.Тургенева. Л., 1975. С. 105 - 106). Даже свойства его характера непосредственно историчны: они придают определенную окраску важнейшим явлениям современной культуры.
Как ни различны тургеневские герои «высшей категории», их сближает особая выделенность сюжетной роли и общность целеполагания. «Жизненная цель тургеневских героев и героинь не имеет позитивных оснований вне их собственных личностей. Цель задана герою его внутренними стремлениями и потребностями, все обоснования, идущие извне, явно «вторичны»». Мысль о трагическом начале в романах Тургенева получила развитие в монографии В.М. Марковича «Тургенев и русский реалистический роман XIX века» и прежде всего в главе «Между эпосом и трагедией».
Однако не было еще работы, в которой давалось бы полномасштабное исследование романных героев И.С. Тургенева с точки зрения определения того, можно ли назвать их героическими личностями и почему. Этим обстоятельством и определяется актуальность данного исследования. Настоящая работа включена в современный проект по исследованию характерологии русской литературы.
Новизна настоящей работы заключается в том, что в ней героическая тема в романах Тургенева рассматривается в нескольких взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектах. Во-первых, она рассматривается как отвечающая духу времени, нацеленному на переосмысление таких категорий, как «герой» и «героическое».
Во-вторых, новизна предлагаемой работы состоит в том, что подверженный героизации в романах Тургенева герой рассматривается с учетом историко-литературной перспективы.
В-третьих, героизация героя в романах Тургенева рассматривается с точки зрения собственно тургеневской сюжетики и характерологии. Причем специфику данной работы составляет и присутствующий в ней динамический аспект, учитывающий тенденции, приведшие к трансформациям героической парадигмы в творчестве самого Тургенева.
Таким образом, материалом исследования настоящей работы является творчество И.С. Тургенева и связанные с проблемой героического литературно-критические и отчасти философско-эстетические тексты современников писателя; объектом диссертации - прежде всего те из романов Тургенева, которые, по классификации Л.В. Пумпянского, относятся к «культурно-героическому» типу («Рудин», «Накануне», «Отцы и дети»), а предметом - характер героя и логика героизации в тургеневских романах.
Соответственно, цель диссертации заключается в раскрытии «героической» характерологии Тургенева и в освещении проблемы героизации в романном творчестве писателя, взятом в литературно-критическом горизонте эпохи.
Движением к этой цели определяются основные задачи работы:
Очертить контуры проблематики взгляда на героя и героическое в тургеневскую эпоху, особенно применительно к истолкованию романного творчества писателя в литературной критике.
Выявить онтологическую сопряженность героя и судьбы в романах Тургенева.
Проследить со- и противопоставления героя и «лишнего человека» в тургеневской картине мира.
Соотнести характер тургеневского героя и образно-смысловой комплекс «любовь - красота - смерть».
Обозначить место тургеневского героя в формации и динамике поколений.
В работе были использованы такие основные методы исследования, как сравнительно-исторический, структурно-типологический и мотивный.
Методологию работы составили труды М.М. Бахтина, Л.В. Пумпянского, Ю.М. Лотмана, Ю.В. Манна, В.М. Марковича, М.В. Авдеева, Н.Ф. Будановой, Л.Я. Гинзбург, Г.Б. Курляндской, Ю.В. Лебедева, В.И. Сахарова, В.Н. Топорова, а также такие работы А.А. Фаустова и СВ. Савинкова, как «Очерки по характерологии русской литературы» и «Аспекты русской литературной характерологии».
Теоретическое значение исследования состоит в применении к изучению творчества отдельного писателя последовательного теоретически обоснованного характерологического анализа с учетом историко-литературной перспективы.
Практическое значение работы. Полученные при изучении тургеневской героической характерологии наблюдения и результаты могут быть использованы при изучении вузовского курса истории литературы XIX века, в спецкурсах и спецсеминарах, посвященных творчеству Тургенева, при изучении творчества писателя в образовательных учреждениях различного уровня.
Положения, выносимые на защиту:
1) Переосмысление героя, совершающееся в тургеневскую эпоху
(прежде всего в связи с пониманием персонажей тургеневских романов),
происходит по двум основным линиям: во-первых, герой перестает репре
зентировать некую целостность (народ или поколение), во-вторых, дейст
вительно героической оказывается не жизнь героя, а его смерть.
То, что современниками Тургенева воспринималось по преимуществу как неудавшаяся попытка создать характер героя, для писателя имело и другое измерение: несостоявшаяся героизация означала на деле обнаружение новой субстанции героического.
Тургеневского героя (и в этом писатель следует традиционному, архетипическому взгляду на него) констируирует избранность судьбою.
Любовь оказывается для тургеневского героя таким испытанием, которое ставит под сомнение подлинность всеобщего, к которому он был обращен (служение общей идее для Рудина или освобождение Болгарии для Инсарова).
Тургеневский герой находит себя, приобщаясь к иному модусу сверхличного, отрицающему возложенную героем на себя героическую миссию, - приобщаясь к любви и к открываемой благодаря ей красоте.
Герой и «лишний человек» у Тургенева оказываются двумя ликами одной и той же фигуры, которую отличает отмеченность судьбою и ис-ключенность из целого жизни. Если «лишнего человека» смерть только избавляет от его отторженности и «сверхштатности», то герою она дает возможность примириться со сверхличным и в этом уничтожении и расширении границ своей самости обрести себя.
Тургеневскому герою свойственна «вывихнутость», невключенность в свое поколение и выпадение из органического хода времени, не позволяющих ему сделаться истинным «героем времени».
Динамика героического характера в тургеневских романах заключается в том, что герой постепенно вытесняется и замещается противостоящими ему «не-героическими», «обыкновенными» персонажами, которые парадоксально принимают на себя под конец его роль.
Апробация работы. Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета и кафедры русской литературы Воронежского государственного университета.
Основные положения исследования докладывались на конференциях различного уровня: Международной конференции «Эйхенбаумовские чтения» (Воронеж, 2008, 2010), итоговых научных сессиях кафедры истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета (2008 - 2010), Межвузовском семинаре, посвященном 150-летию со дня рождения А.П. Чехова и 100-летию со дня смерти Л.Н. Толстого (Воронеж, 2010).
По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей, в том числе 3 - в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура диссертационной работы. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка литературы, включающего 208 наименований.
Герой и героическое в философско-эстетической рефлексии тургеневской эпохи и критическая рецепция творчества Тургенева в 1850- 1870-е годы
Примечательно, что ни один роман Достоевского, ни одно произведение Толстого не становились общественным событием сразу, в момент выхода в свет. Такие величайшие творения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы», были поняты и восприняты со значительным запозданием, очень медленно; даже самый факт значительности этих произведений был усвоен обществом не сразу.
Между тем литературная судьба Тургенева тем и замечательна, что значительность, нужность, интерес каждого его романа был ясен всем и каждому, друзьям и врагам буквально с первых дней напечатания романа в журнале. Спорили вокруг романа по существу, но все сходились на том, что спорить нужно [ 143; 3 84].
Чем же была обусловлена такая острота восприятия? Дело в том, что в своих романах Тургенев затрагивал не просто важную, а, можно сказать, животрепещущую для его времени тему «героя времени». Развернувшаяся вокруг романов Тургенева полемика главной точкой приложения своих критических сил сделала вопрос о том, насколько созданные Тургеневым герои могут претендовать на звание героя. Мнения на этот счет разделились.
Для того чтобы ответить на вопрос - герой или не герой? — нужно было выработать критерии, с опорой на которые можно было бы провести операцию идентификации. Но именно проблема меры и способа оценки и разделила спорящих на тех, кто признавал в главных героях Тургенева подлинно героических личностей (или личностей, стремящих стать таковыми), и тех, кто категорически отрицал это. Прежде чем говорить об этой полемике конкретно и обстоятельно, необходимо обратиться к источникам, которые во многом подпитывали и об 20 щественно-критическую мысль тургеневского времени, и мысль самого Тургенева. В 1842 году английский публицист, историк и философ Томас Кар-лейль, выпустил книгу «Герои, почитание героев и героическое в истории», в которой дал свое толкование тому, кто есть герой. По Карлейлю, всемирная история есть история великих людей. «Все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир» [80; 7]. Определяемые провидением законы мира открываются лишь «избранным», «героям» - единственным действительным творцам истории, а массы -«толпа, орудие в их руках». Героическое начало в обществе периодически ослабевает, и тогда скрытые в толпе слепые разрушительные силы вырываются наружу, пока общество снова не обнаружит в себе «истинных героев» (например, Кромвель, Наполеон). Таков, по мнению Карлейля, замкнутый круг истории. Карлейль описал и то, какими качествами должна обладать героическая личность. Первую характерную черту великого человека, проявляющего тем или иным образом свой героизм, составляет глубокая, великая, подлинная искренность, которая проявляется в его речах. «Мы можем называть его поэтом, пророком, богом; так или иначе, но все мы чувствуем, что речи его не похожи на речи всякого другого человека» [80; 107]. Однако Карлейль сделал существенную оговорку, что речи великого человека «не являются известного рода «откровением»... Ведь он приходит к нам из самого сердца мира; ведь он представляет частицу первоначальной действительности вещей!» [80; 215]. Герои, по мнению Карлейля, знают о своем великом предназначении и ощущают его, что делает невозможным их спокойное существование в мире. «Великий факт существования велик для него. Куда бы он ни укрылся, он не может избавиться от страшного присутствия самой действительности. Его ум так создан; в этом прежде всего и заключается его величие. Вселенная представляется ему страшной и удивительной, действительной, как жизнь, действительной, как смерть» [80; 217]. Самой же главной чертой героя является то, «что он сквозь внешнюю видимость вещей проникает в самую суть их» [80; 175]. Для Карлейля геройство оказывается воедино связанным не только с личностными качествами великого человека. Он делает вывод о том, что такого человека выделяет из всех других людей способность действовать: «Мужество, геройство — это вовсе не красиво говорящая, непорочная аккуратность; это, прежде всего, доблесть, отвага и способность делать» [80; 189]. Другой источник, оказавший большое влияние на характер интерпретации героической темы в эпоху Тургенева - это, безусловно, «Эстетика» Гегеля. Годы учения в Берлинском университете, в котором одновременно с И.С. Тургеневым слушали курс лекций Т.Н. Грановский, Я.М. Неверов, М.А. Бакунин, Н.В. Станкевич, отмечены повышенным увлечением «гегелизмом». Поколению пятидесятых годов стала, безусловно, близкой гегелевская мысль о том, что в современную эпоху «вся система жизненных отклонений удалилась от гармонии». И виновата в этом, с точки зрения философа, прозаичность современного общества, проявляющаяся в сложном опосредовании каждого произведения разделением труда, машинным трудом в производстве, формальными предписаниями, на которых стала зиждиться жизнь государства.
Организованный таким образом мир перестает быть областью, в которой человек отражался бы, в которой он имел бы свой зеркальный образ в продуктах своей деятельности и в общественной организации. Современный человек не живет «в своей ближайшей среде тем образом, который являет ему эта среда как его собственное произведение», не живет так, как это было в эпоху Гомера: герои Гомера окружены предметами, которые либо сделаны ими самими, либо происходят из непосредственного жизненного окружения.
Современный мир перестал быть органически целым, он стал механистическим и прозаичным. Он, отдав себя на откуп понятийному мышлению, перестал быть доступным непосредственному созерцанию, без которого не может существовать никакое искусство. Искусство перестало восприниматься как адекватная форма истинного познания. {
Другой гегелевский довод, свидетельствующий о прозаичности современной эпохи, связан с его представлением о современной индивидуальности. Современный человек ориентирован на множество интересов, обязанностей и видов деятельности. А это, по Гегелю, разрушает цельность личности, которой человек обладал в героическом веке.
Слово и судьба Рудина
В монографии «Человек в романах Тургенева» В.М. Маркович отметит, что уже в «Рудине» сюжетная «жизнь» героя противостоит всем прямым характеристикам, от кого бы они ни исходили: «Буквально после каждого эпизода с участием Рудина до нашего сведения доводятся различные истолкования его действий, побуждений, душевных качеств .. . «Очень ловкий человек» - такова оценка Пандалевского, явно увидевшего в Рудине потенциального фаворита и приживальщика ... Формулы Лежнева - «актер», «кокетка», «деспот в душе» - подкрепляют и одновременно дополняют оценки Пигасо-ва. Суть утверждений Лежнева в том, что Рудин - законченный эгоист, который в сущности никого, кроме себя, не любит. Секрет его «опасной игры» в энтузиазм («холоден как лед... и знает это и прикидывается пламенным») усматривается в деспотизме, в жадном стремлении властвовать, покоряя себе чужие души. В пределах обобщенной характеристики Лежнев твердо придерживается этих оценок, и только переход к фактам, к рассказу о молодости Рудина заставляет его несколько усложнить свои выводы» [107; 55 - 56].
К рассуждениям В.М. Марковича следует добавить только то, что главным камнем преткновения для единообразного представления о Рудине является язык этого героя, его красноречие, его слово. Именно рудинское слово прежде всего и противостоит всем относящимся к Рудину «прямым характеристикам». Ясно, что судьба героя тесно связана с его словом, но ясно также и то, что между рудинским словом и самим Рудиным есть определенный зазор, который, не позволяя напрямую отождествить Рудина с его словом, и потому провоцирует на всевозможные разноречия.
К примеру, Пигасов будет оценивать Рудина по его слову как позера и демагога. О манере рудинского словоупотребления он скажет как об особого рода умничаний: «Не люблю я этого умника... выражается он неестественно... скажет: "Я", и с умилением остановится... "Я, мол, я..." Слова употребляет всё такие длинные. Ты чихнешь - он тебе сейчас станет доказывать, почему ты именно чихнул, а не кашлянул...» [1; Т. 5; 288].
Надо сказать, что отмеченная Пигасовым речевая манера Рудина не является исключительной его принадлежностью: она выработалась в поглощенных изучением германской диалектики философских кружках 1830-х годов. В книге М.В. Авдеева «Наше общество в героях и героинях литературы за пятьдесят лет» (о которой речь шла в первой главе) можно найти любопытные сведения по поводу того, каким языком и какими словесными приемами в это время пользовались русские идеалисты: «В наше время трудно поверить, как процветало тогда искусство словесного фехтования, именуемое диалектикою. Были мастера, не обладающие знаниями, бедные идеями, но с которыми нельзя было совладать в споре: они вас забрасывали темными словами, сбивали, вызывали на определение и, пользуясь маленькой неточностью, подшибали вас по ножку. — «Возьмем какую-нибудь вещь, ну хоть стол», — говорит какой-нибудь прямодушный человек. «Позвольте! Что вы называете столом? — прервал его ловкий диалектик. Простодушный человек останавливался: «Как что? Ну да известно стол! — ну вот хоть этот стол», - и он ударял по столу. - Нет, вы потрудитесь определить, что вы называете столом!» - настаивал диалектик. И если простодушный человек говорил, например, что стол - это доска на четырех подпорах, то диалектик немедленно доказывал ему, что тот не имеет понятия, о чем говорит...» [5; 65].
Рассказ Лежнева о положении Рудина в кружке Покорского тоже направлен на создание образа Рудина как философа-оратора, но такого, который относится к слову как к орудию покорения: «Он всячески старался поко 50 рить себе людей, но покорял их во имя общих начал и идей и действительно имел влияние сильное на многих».
Ораторское слово Рудина — слово не русское. И это тоже специально отмечается Лежневым: «Спору нет, он красноречив; только красноречие его не русское» [1; Т. 5; 252]. Лежнев прав: красноречие Рудина не русское, а германское. Не зря, конечно, говорится и о погруженности Рудина в «туманную» Германию: он «был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее [Наталью Ласунскую. — Н.Н.] за собой в те заповедные страны» [1; Т. 5; 290]. И этот «германский» код дает повод для еще одного сравнения с одним известным героем, который «...из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые мечты, / Дух пылкий и довольно странный...» [149; 33]. Перекличка между Рудиным и пушкинским Ленским заставляет вспомнить не только о всегда восторженной речи Ленского, но и о ее элегической темности: «он говорил умно, горячо, дельно, высказал много знания, много начитанности» [1; Т. 5; 264], «говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно... но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам» [1; Т. 5; 269].
Нерусская речь Рудина напрашивается на сравнение с другой нерусской речью — речью знаменитого литературного предшественника тургеневского героя - Александра Андреевича Чацкого. Если нерусскую речь Рудина выдают отмеченные Пигасовым длинноты, то нерусскую речь Чацкого выдает ее по-французски сглаженный речевой стиль, требующий, говорить по-книжному («говорить, как писать»), говорить так, как не говорят обыкновенные люди в жизни. И поэтому речь Чацкого, декларативного борца за возвращение к славянской традиции, напоминает «культурный» перевод с французского [13; 50-51].
Однако в случае с Рудиным важным обстоятельством оказывается не сама его нерусская речь, а что-то другое. И то, что представляет собой это другое, дает возможность понять уточнение, сделанное Лежневым по поводу различия между Рудиным и Покорским. Лежнев говорит, что к Покорскому тянулись потому, что его любили, а к Рудину - потому, что завораживались его словом: «Правда никто его не любил ... . Его иго носили... Покорско-му все отдавались сами собой» [1; Т. 5; 256]. Иными словами, в отличие от Покореного, не сам Рудин (как личность, как индивидуальность) притягивал к себе своих слушателей, их притягивало к нему его слово. Наталью Ласунскую тоже покоряет не Рудин, а его (соединившее энтузиазм Чацкого и элегическую темность Ленского) слово. Во время общения с Рудиным «в сердце её... тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга». «Она жадно внимала его речам, она старалась вникнуть в их значение, она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения; он был её наставником, её вождём» [1; Т. 5; 240].
В письме Рудина к Наталье Ласунской есть любопытное признание: «Я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор... Первое препятствие — и я весь рассыпался...». Рассыпающееся, неоконченное существо — очень точное самоопределение героя, говорящего в другом месте о своей неудачливости в деле строительства: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится свой фундамент создавать!» [1; Т. 5; 357]. В контексте достаточно обильной архитектурной метафорики романа самооценки эти предстают не как локальные и случайные, но как ключевые для понимания героя-идеолога.
Любовь и смерть в сюжете тургеневского Героя
Не раз (и совершенно справедливо) говорилось о том, что любовь становится для тургеневского героя его главным испытанием. Но в чем смысл этого испытания? Ясно, что это испытание имеет какое-то иное значение и играет какую-то иную роль по отношении к тем испытаниям, которые должен пройти мифологический или сказочный герой - архетип любого героя. Линия героического поведения у Тургенева явно нарушается.
Согласно мифу о герое6, герой, отправляющийся освобождать из-под власти чародея деву, должен был сразиться со своим могущественным врагом7 и получить за это заслуженную награду — добытую им в героической схватке жену. С точки зрения юнгианского психоанализа, и путь героя, и сражение с противником, и награда (союз с освобожденной пленницей) - все это архаические символы инициации, необходимой для обретения героем того, что и должно было бы стать его настоящей наградой, - его обособленности и самодостаточности, Самости.
Однако есть и другая, предлагаемая герою, модель поведения. Согласно этой, условно говоря, романтической модели, Герой есть тот, кто, будучи всецело поглощенным самим собой, в своем крайнем эгоизме думает, что является самим собой только тогда, когда удовлетворяет свои желания. Таков лермонтовский Печорин. Целиком и полностью обращенный на самого себя, он никак не может помышлять о браке: «надо мной слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь!.. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие...» [98; 330].
Но суть дела заключается не в женитьбе самой по себе. Печорин испытывает врожденный страх ко всему тому, от чего исходит хотя бы какой-то намек на необходимость самопожертвования, потери самого себя. Как только он начинает подозревать о возможности своей включенности в некие требующие от него самоотдачи — дружеские или любовные — отношения (неизбежно сопряженные с определенного рода зависимостью), душа его тут же охлаждается («мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова... свободы моей не продам...» [98; 330].
Нежелание Печорина приносить себя чему-либо в жертву, в конечном счете, оказывается обусловленным его смертельным страхом перед возможностью иметь любые отношения, налагающие на него цепи обязательств и задающие его поведению определенную колею.
У Тургенева все происходит и не по сказочно-мифологической, и не по романтической моделям. Главным испытанием для тургеневского героя становится не сражение с грозным противником за девицу, а сражение с самой девицей, приобретающее характер любовного испытания. И это испытание тургеневский герой, претендующий на звание Героя, как правило, не проходит: его героическая «оболочка» не выдерживает силы того воздействия, которое на него оказывает любовь.
Можно сказать и иначе: любовь для тургеневского героя становится на его героическом пути таким препятствием, которое он не в состоянии преодолеть. Наталкиваясь на любовь-преграду, он (как об этом говорится у Тургенева) или, как Рудин, «рассыпается», или, как Инсаров, «разбивается», или, как Базаров, «ломается». В письме к Наталье Ласунской признается: «Я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор... Первое препятствие - и я весь рассыпался...» [1; Т. 5; 294].
Любовь разбивает «железного» Инсарова: «А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятьями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди ее новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу...» [1; Т. 5; 236].
Любовь ломает Базарова, или, если быть точнее, заставляет его сломать самого себя: «— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. — Он повернулся на бок. - Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!» [1; Т. 7; 119].
Базарова охватывает чувство, с которым он оказывается неспособным справиться: «...Чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь ... намекнул ему на возможность того, что в нем происходило» [1; Т. 7; 87]. Тщетно пытается «самоломанный» герой уничтожить в себе и это чувство: «В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами .. . , браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай...» [1; Т. 7; 87].
Тургенев был убежден в непреодолимой, сверхчеловеческой силе любви. В повести «Переписка» он прямо заявляет, что «любовь даже вовсе не чувство - она болезнь ... , обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли - ни дать ни взять холера или лихорадка» [1; Т. 5; 47]. В повести «Вешние воды» первая любовь уподобляется революции: «Первая любовь - та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье» [1; Т. 8; 323].
Базаров воспринимает силу любви как пришедшую извне, чужую и враждебную - «что в нем происходило», «что-то другое в него вселилось», «точно бес его дразнил» [1; Т. 7; 87 - 88]. У Базарова кардинально меняется взгляд на мир и людей, недавно с такой убежденностью им высказываемый. Каждый человек, что дерево в лесу, заниматься им бесполезно и скучно. Это до встречи.
Герой и «лишний человек»
В своем понимании характера «лишнего» человека мы будем следовать за концепцией, изложенной в книге А.А. Фаустова и СВ. Савинкова «Очерки по характерологии русской литературы», к положениям которой мы обратимся.
«Лишний» человек как характер обретает в русской литературы второй половины XIX века главенствующее положение, а «лишний» человек как речевое выражение — статус широко употребляемой идеологемы. Термин стал применяться к весьма разнородным персонажам и сделался именем целого ряда литературных типов. В литературной критике той поры «лишность» «лишнего» человека могла оцениваться полярным образом: у В.А. Зайцева «лишний» - синоним ненужного [73; 173], а у А.А. Григорьева - антоним [59; 340].
При этом, однако, и те и другие сходились на одном — на том, что «лишний» человек - принципиально негероический тип. Согласно наиболее распространенной версии, выражение «лишний человек» восходит к Тургеневу. Герой тургеневского «Дневника лишнего человека» дает себе такое определение: «...про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний - да и только. Сверхштатный человек — вот и всё». И чуть раньше: «...я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, лишней птицей» [1; Т. 4; 173].
Такое положение, в конечном счете, — продукт того, что герой с самого начала был отмечен смертью, словно не позволяющей ему занять на свете какое-либо устойчивое место: «...Я весь отяжелел, но чувствовал, что со мной совершается что-то страшное... Смерть тогда заглянула мне в лицо и заметила меня» [1; Т. 4; 171]. Поэтому Чулкатурин «во все продолжение жизни... постоянно находил свое место занятым...» [1; Т. 4; 173] и неизбежно оказывался в роли «третьего лишнего». Основная часть дневника — история неудавшейся любви — призвана подтвердить эту фатальную неспособность Чулкатурина отыскать себе место, свить гнездо. Такая неспособность овладеть женским сердцем - мотив, проходящий через целый ряд тургеневских текстов и восходящий еще к раннему стихотворению:
В «Дневнике...» такая неспособность возводится в универсальную степень: «О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни» [1; Т. 4; 169]. «Лишность» «лишнего» человека здесь - оборотная сторона лишенности его жизненных сил, и это состояние воспринимается героем как болезнь. «Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные...» [1; Т. 4: 173]. Чулкатурин ведет свой дневник, ожидая приближения смерти, ранний приход которой осмысливается им как следствие его изначальной болезненной нежизнеспособности..
Лишенный в мире своего места, Чулкатурин чувствует себя безнадежно отделенным от мира. Поэтому единственное, что ему остается, — обратиться внутрь себя, окончательно обособиться от природы и тем самым отдать себя во власть смерти: «Я разбирал самого себя до последней ниточки...» [1; Т. 4; 174] (в другом месте герой сравнит свое состояние с состоянием «...того молодого лакедемонца, который, украв лису и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха...» [1; Т. 4; 189]). И в этом смысле жизнь героя можно рассматривать как замаскированное растянутое самоубийство, в чем-то предвосхищающее судьбу героя последнего тургеневского романа Нежданова.
С другой стороны, самообращенность героя «Дневника...» — еще и условие его хотя бы относительной сохранности, защищенности от растекания. Та минута, когда герой узнает в князе Н своего счастливого соперника, рисуется так: «Удар был решительный: последние мои надежды рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит...» [1; Т. 4; 190].
Метафорическое уподобление «лишнего» человека льду суммирует в себе признаки колкого, а при других условиях текучего вещества. В этой же «ледяной» перспективе прочитывается и испытываемое Чулкатуриным ощущение внутреннего холода и тяжести в сочетании с чувством собственной «неестественности» и «натянутости». «Ледяная» форма - то, что позволяет существовать, как бы не занимая никакого места, жить — не живя.
(В «Фаусте» акцент на «защитной» функции такого состояния еще более отчетлив. «Ледяной панцирь» (под которым Вера долгое время даже не старела) надежно защищал героиню до тех пор, пока ею не был нарушен материнский запрет: «Ты как лед: пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь и следа от тебя не останется» [1; Т. 5; 112]. И действительно, предсказание сбывается: судьба настигает Веру, и она, как Снегурочка, весной истаивает.)
Не случайно, конечно, что смерть и к Чулкатурину приходит именно весной. «Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? Бог весть!» [1; Т. 4; 166]. Весна — пора торжества стихийных сил, на котором нет места нежизнеспособному существу. Тургеневский герой, выпадающий из ритма не только человеческой, но и природной жизни, оказывается «космически» лишним (о чем верно писал В.М. Маркович [105; 126]).