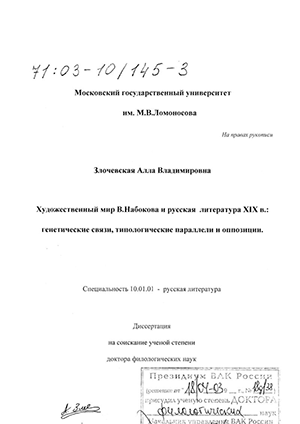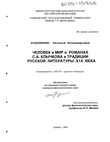Содержание к диссертации
Введение
Часть I Владимир Набоков и экспериментальные тенденции в поэтике русской классической литературы 29
Часть II. Владимир Набоков и другие 115
Глава I. В. Набоков и А.С. Пушкин . 115
Глава 2. В. Набоков и А.П. Чехов 158
Глава 3. В. Набоков и Ф.М. Достоевский. 206
Глава 4. В. Набоков и Н.Г. Чернышевский . 267
Глава 5. В. Набоков и феномен русской сатиры. 295
Часть III Эстетическая концепция Владимира Набокова в контексте идей русской литературной критики XIX - XX веков 369
Заключение 429
Библиография 443
- Владимир Набоков и экспериментальные тенденции в поэтике русской классической литературы
- В. Набоков и А.С. Пушкин
- В. Набоков и Н.Г. Чернышевский
- Эстетическая концепция Владимира Набокова в контексте идей русской литературной критики XIX - XX веков
Владимир Набоков и экспериментальные тенденции в поэтике русской классической литературы
Говоря о русской литературной традиции в творчестве Набокова, исследователи обычно обращают внимание на преемственность тем, мотивов или образов героев, иногда -этических решений, но гораздо реже - на поэтику и принципы художественного воссоздания мира1.
Восполнить этот пробел представляется особенно важным. И вот почему.
Достоин удивления укоренившийся в сознании критиков миф о том, будто настоящей русской литературе эстетизм чужд изначально. А какие-либо оригинальные новации в области формы даже и заподозрить грешно. И это как бы даже составляет предмет нашей национальной гордости. Именно здесь следует искать истоки недоверчивого отношения большинства критиков к «русскости» Набокова: не может русский писатель быть столь эстетичным, так много внимания уделять играм с «формой» и отточенности стиля. Замечательно, что даже один из немногих поклонников таланта В.Сирина среди критиков русской эмиграции, Н.Андреев, хотя и осмелился причислить его к славной плеяде русских писателей, - но исключительно по внутреннему «содержанию», а никак не по «форме». «У Сирина, - писал он, - синтез русских настроєний с западноевропейской формой»2. Что же мешает Сирину быть русским по «форме»? А вот что: «Блеск мастерства, отступление от канонов, увлекательная игра сюжетом, частая перетасовка частей произведения, остроумный обман читателя, ложный след, ведущий к неожиданности, обновление языка, образов и изумительная слаженность общего хода повествования - все это прекрасное совершенство литературного искусства несет на себе определенные веяния Запада. ... Русской литературе всегда чужд был внешний блеск технической обработки (А Пушкин? - А.З.). Мы любили и любим крепость, простоту, нутро, горячее пламя встревоженной мысли и тоскующей души. Мы не одобряем сдержанности, нам чужда ирония (А Чехов? - А.З.). Мы любим пророков и псалмопевцев. И чем взволнованнее и страстнее, может быть, даже бесформеннее их прорицания, тем быстрее и ближе они освояются нами»3. Одним словом, настоящая русская литература дика как по темпераменту, так и по стилю.
Хотелось бы оспорить этот утвердившийся, но, безусловно, поверхностный и оскорбительный стереотип. Анализ генетических и типологических параллелей между поэтикой Владимира Набокова и русских писателей XIX в. предоставляет к этому богатейший материал.
Генетические истоки творческого метода В.Набокова восходят к концепции фантастического реализма. Основные принципы ее были сформулированы еще Достоевским: «"Надо изображать действительность, как она есть", - говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального ... Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность» (Д.;21.75-76).
Достоевский пришел к уникальной для своего времени, пророческой формуле новой фазы в развитии реализма: «У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве) , и то, что большинство называет фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного» (Д.;29, 1.19) . Реалистом мистическим назвал Достоевского Н.Бердяев4. Теоретически концепция мистического реализма была осмыслена в работах А.Белого о символизме5.
Среди русских писателей XX в. (таких, как Ф.Сологуб, А.Белый, Л.Андреев, М.Булгаков и др.) В.Набоков, бесспорно, один из самых талантливых последователей эстетической концепции фантастического, или мистического реализма. «Великая литература идет по краю иррационального» (HI.; 1.503), - утверждал он. «Набоков, - пишет Б.Бойд, - отдает себе отчет в том, что он не может прямо знать, существует ли невидимый субъект за пределами нашего мира, но нечто в неистощимости этого мира, которую он трактует как щедрость, и в его сложности, которую он интерпретирует как дизайн (дизайн, видимо, скрытый для того, чтобы наши умные взоры могли обнаружить и разгадать его), позволяет ему предположить, что существует некий сознаниеподобный субъект, все же таящийся за миром видимого»6.
Для Набокова, как и для Достоевского, искусство есть творческое пересоздание реальности (а отнюдь не отображение ее) , цель которого - проникновение за видимую поверхность жизни в некую идеальную сущность вещей. «В моем случае, - сказал Набоков в интервью А.Аппелю, - утверждение о существовании целостной, еще не написанной книги в каком-то ином, порою прозрачном, порою призрачном измерении является справедливым, и моя работа состоит в том, чтобы свести из нее на землю все, что я способен в ней различить, и сделать это настолько точно, насколько оно человеку по силам. Величайшее счастье я испытываю, сочи-нительствуя, когда ощущаю свою способность понять - или, вернее, ловлю себя на такой неспособности (без допущения об уже существующем творении) , - как или почему меня посещает некий образ, или сюжетный ход, или точно построенная фраза» (HI.;3.596)7.
Генезис «художественного двоемирия» - модели, соединившей материальный и трансцендентный уровни бытия, восходит к романтическому «двоемирию», а ее отечественные истоки критики начала XX в. (В.Розанов, Д.Мережковский, В.Брюсов, С.Шамбинаго и др.) находили в творчестве Гоголя. В трансцендентно-иррациональном ключе интерпретировал его и Набоков в книге «Николай Гоголь».
В системе «двоемирия» все совершается на грани яви и сна, когда сны едва ли не более реальны, чем явь, а «жизнь действительная» призрачна, абсурдна и фантастична. Так живут многие герои Достоевского, Гоголя, Вл.Одоевского, но прежде всего - Набокова. В романе «Прозрачные вещи» писатель наиболее четко формулирует свою мысль о том, что ему для воссоздания истинной картины мира «без кавычек ("действительность", "сон") ... обойтись не под силу» (HI.;5.8 б) .
Первичен и истинен в художественной модели «двоемирия» уровень идеальный, наименее действителен, как ни парадоксально, - материальный («такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало», - утверждал Достоевский) , а удел сочинителя, - «угадывать и ... ошибаться» (Д.;13.455), проникая в сокровенный подтекст «жизни действительной». И если художнику посчастливится «угадать», то сотворенная им «вторая реальность» может оказаться более «действительной», чем сама жизнь. «Мой идеализм - реальнее ихнего реализма », - писал Достоевский (Д.;28,2.329).
А Набоков, словно в развитие размышлений своего предшественника, однажды сказал: «Реальность - вещь весьма субъективная. Я могу определить ее только как своего рода постепенное накопление сведений и специализацию ... Можно, так сказать подбираться к реальности все ближе и ближе; но все будет недостаточно близко, потому что реальность -это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима ... Стало быть, мы живем в окружении более или менее призрачных предметов» (Н1.;2.568).
В. Набоков и А.С. Пушкин
Реминисцентная ориентация на Пушкина - одна из доминантных в прозе Набокова. И это закономерно. Ведь «русская культура идет через Пушкина, - пишет современный пушкинист В.Непомнящий, - такое уж место отвела ему национальная история; и подобно тому как существует, предположим, при всех отклонениях, порой поражающе резких, некий несокрушимо общий национальный тип мышления и миро-чувствования, характер оценок и идеалов, - так равнодействующая различных и подчас противоположных культурных тяготений устремлена к Пушкину, идет через него» .
Один из лучиков, соединивший век девятнадцатый с двадцатым, протянулся от Пушкина к Набокову. «Созвучие» дат рождения - 1799-й и 1899-й гг.2, проявилось и в «созвучии» их творческих индивидуальностей, ибо «отзвук» Пушкина изумительно полно и гармонично слышен во всей личности Набокова-художника3.
Ноты безоглядной мальчишеской влюбленности звенят в каждом высказывании о Пушкине - единственном его бесспорном литературном кумире. «Те из нас, кто действительно знает Пушкина, поклоняются ему с редкой пылкостью и искренностью, - писал Набоков в эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие»; - и так радостно сознавать, что плоды его существования и сегодня нам наполняют душу» (HI.;1.541). Мог меняться характер использования пушкинских реминисценций - от серьезного в русскоязычной прозе до гротесково-пародийного в американский период4, но неизменным оставалось одно: размышляя о Пушкине на страницах интервью и эссе, играя пушкинскими мотивами на страницах художественных произведений, Набоков словно находит и радостно узнает себя «в этом великом русском».
Феномен Пушкина более всего позволяет прикоснуться к тайне специфики русской национальной культуры. Еще Гоголь почувствовал скрытую парадоксальность национальной природы пушкинского гения. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» (глава «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность») он интуитивно подошел к важной мысли об общечеловечности поэтического дара великого правнука арапа Ганибала: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, - что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего ... Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо» (Г.;6.345) .
Но если уникальность личности Пушкина-художника в его вненациональности, то как быть с сугубо русской природой его таланта? Ведь «при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте, - писал Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине». - ... В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. ... В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла» (Г.,-6.63). Гоголь подчеркивает, что не предмет изображения определяет национальность художника: «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами своего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» (Г.,-б.64).
Но стоит обратить внимание и на национальность творца: ведь дифирамбы «русскому духу» обращены не к выходцу из исконно русской семьи Тульских или Рязанских дворян, а к не столь дальнему потомку Ганибала - уроженца Абиссинии. Взрывоопасную парадоксальность сего феномена почувствовал и замечательно сформулировал Набоков: «Обезьяна и негр, - остроумно заметил он, - таились в этом великом русском» (HI.;1.543).
Более того, именно Набоков в наиболее полной мере осознал единство общечеловечности и русскости в творческой индивидуальности Пушкина. «Парадокс набоковского видения Пушкина, - как справедливо отмечает В.П.Старк, тем-то и характерен, что, рассматривая творчество поэта сквозь призму достижений ведущих европейских писателей, Владимир Владимирович именно возвеличивает Пушкина тем, что не оставляет его особняком на мировой литературной обочине»5.
Гоголь подошел к осознанию того, что сам национальный дух русской культуры, гениальным выразителем которого и был Пушкин, заключается в его всечеловечности. Пушкин -«это звонкое эхо ... И как верен его отклик, как чутко ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком - грек, на Кавказе - вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу - он русский с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем» (Г.;6.345,347). Личность Пушкина-творца всеобъемлюща и неуловима: «Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. ... Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика» (Г.,-б.345).
Достоевский, в развитие гоголевских рассуждений, говорил о том, что русскому человеку вообще, а Пушкину по преимуществу, присущ дар перевоплощения в инонациональное миросозерцание. «В значении Пушкина, - писал он, - ... есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения - способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного» (Д.;2 б.130) . Достоевский развивает и мысль Гоголя о даре «протеического» перевоплощения в «чужое» сознание, присущее Пушкину в высшей степени: «Не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось . Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-настоящему и пророческое, ... ибо тут-то и выразилось наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески» (Д.;26.146-147).
Пророчество это в полной мере, как то мечталось Достоевскому, а до него Гоголю6, до сих пор не осуществилось . Но вот Набокову, как никакому другому писателю, удалось выразить «всечеловеческое в национальном» и сказать «русское слово о всечеловеческом».
Впрочем, легкость и беспроблемность перехода от одной культуры к другой - лишь миф, созданный нашим самолюбивым соотечественником, не желавшим признавать себя обездоленным изгнанником. И вот известный отрывок из «Других берегов»: «Выговариваю себе право тосковать по экологической нише - в горах Америки моей вздыхать по северной России» (Н.;4.170). Чтобы прочувствовать скрытый страдальческий пафос этой парафразы из Пушкина, ее внутреннее напряжение, надо вспомнить первоисточник:
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! - взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря,
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил (П.;5.25-26).
В. Набоков и Н.Г. Чернышевский
Параллель Набоков - Чернышевский, в отличие от предыдущей, с Достоевским, представляется однозначно негативной. Однако и она таит в себе немало неожиданного.
В романе «Дар» В.Сирин написал на автора «Что делать?» скандальную карикатуру, и в высшей степени эпатирующим выглядел, конечно, сам факт изображения в сатирическом духе и стиле властителя дум прогрессивно мыслящей демократической интеллигенции XIX в., по наследству перешедшее к интеллигенции русской эмиграции XX в.131 Когда же первый шок (в том числе и у советского читателя, познакомившегося с романом в «самиздате») прошел, наступил этап осмысления. И тогда выяснилось, что все закономерно: Набоков разрушает миф о Чернышевском - общественно-политическом деятеле, кумире русской интеллигенции либерально-социалистического толка, ибо именно в его идеях видит истоки революции, которая погубила Россию в XX в. Одним словом, «Чернышевский заинтересовал автора как предтеча Ср. с сочувствием цитируемую Годуновым-Чердынцевым мысль из рецензии Кончеева на «Жизнь Чернышевского»: критик «привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника. "Вот таким портретом (писал Кончеев) является для русской интеллигенции и образ Чернышевского, который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию вместе с другими, более нужными вещами" ...» (Н.;3. 275) .
Ленина и большевиков»132. Понятно, что вызывает у Набокова отторжение и Чернышевский-писатель, ибо в нем автор «Дара» видит совершенный пример тенденциозного сочинителя, анти-художника (в этом смысле выстраиваются антитезы: Го-дунов-Чердынцев - Чернышевский, Пушкин - Чернышевский и др.)133.
Появились, однако, в набоковедении и наблюдения прямо противоположного смысла. Неожиданно обнаружилось, что образ Чернышевского в «Даре» не столь уж и отрицательный. Финальные строки композиционно организующей формы сонета возвращают нас к его началу и отбрасывают неожиданный отсвет симпатии на всю личность героя скандальной четвертой главы134. Ибо ощутимы в ней элементы сострадания, сочувствия и даже исторического оправдания и приятия.
Из этого сам собой напрашивается весьма тривиальный вывод о том, что набоковская интерпретация и трактовка личности Чернышевского - общественного деятеля и сочинителя, сложна и, по меньшей мере, неоднозначна. Вывод, однако, слишком банальный, чтобы быть правильным.
Хотелось бы понять причины явного творческого интере са Набокова-писателя к исторической фигуре очевидно ему чуждой, которая, как кажется, ничего, кроме иронического или даже саркастического неприятия, вызывать не могла.
«Жизнь Чернышевского» - художественная биография исторического лица. Но какой вообще, по мнению Набокова, должна быть книга об исторической личности? Каково соотношение правды исторической и художественной в таком сочинении? Эти вопросы автора «Дара» занимали всерьез.
Ключевая мысль писателя по этому поводу высказана в эссе о Пушкине: «Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в этом; думается, уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, ее неизбежно искажает. Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем» (HI.;1.542). Итак, правда - это то, что «мы чувствуем», а значит, она всегда субъективна. Поэтому, «в сущности, не имеет значения, если то, что мы представляем в своем воображении, всего лишь большой обман ... Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы он сыграл его роль. Какая разница! Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в нее поверил. Одно другим сменяются видения ...» (HI.; 1.543) .
Перед нами позиция воинствующего агностика-субъективиста. Позиция в высшей степени парадоксальная, если не сказать на грани абсурда, ибо, казалось бы, отрицает саму возможность написания достоверной биографии, будь то научная или художественная. Однако зерно истины в позиции Набокова, безусловно, есть. Просто художник ясно отдает себе отчет в том, что образы вымышленных героев рождаются в его воображении точно по тем же самым принципам, по которым возникают и образы «реальных» исторических лиц. И еще он твердо знает, что правда художественного вымысла безусловно выше правды фактической. Ведь правда художественная проникает в сокровенный подтекст «жизни действительной». Вспомним слова Достоевского: «сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства».
Итак, «проникнуть в мечтах в мир» (HI.;1.542) своего героя - персонажа вымышленного или реально бывшего. И если сам герой - писатель, то написать книгу о нем - в стиле его собственных сочинений. «Жизнь поэта как пародия его творчества» (HI.;1.542). Сочинить историю жизни художника, осветив ее лучом его собственного индивидуального стиля.
И вот что замечательно: основополагающие принципы написания книги об обожаемом, восторженно любимом Пушкине или искренне почитаемом Гоголе, по существу, те же, что и о презираемом Чернышевском. Так же, как и о вымышленном (или остраненно автобиографическом?) Себастьяне Найте. И в этом смысле у Набокова есть предшественник - Л.Толстой. Ибо не таков ли и «странный» историзм автора «Войны и мира»? Ведь, как это уже давно было замечено критиками, его Наполеон, Кутузов или Александр I такие же литературные герои, как Андрей Болконский, Пьер Безухов или Наташа Ростова.
Но (и в этом существенное отличие от Л.Толстого) суть творческой сверхзадачи, поставленной и решаемой писателем Федором в его «странном» романе о Чернышевском, сам он сформулировал так: «я хочу все это держать как бы на самом краю пародии ... А чтобы с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее» (Н.;3.180) . Речь, таким образом, идет о двойной пародии: на реальную, историческую фигуру Чернышевского и одновременно - на свою версию этой личности. В подтексте своей художественной версии личности Чернышевского у писателя Федора неизменно ощущается скрытая ироническая усмешка, пародийно окрашивающая ее, но не отрицающая, а как бы намекающая читателю на то, что перед ним не истина в последней инстанции, а все же комедиант, которому автор платит, чтобы он сыграл роль1 5. У Л.Толстого такой скрытой усмешки, конечно, никогда не было. Автор «Войны и мира» со свойственным ему деспотизмом неизменно настаивал на том, чтобы его версию, его правду художественную принимали за правду историческую и никак иначе.
Какова же объективная ценность художественной правды Владимира Набокова? И есть ли она вообще? Ведь перед нами просто игра - в историю, в правду и т.д. Но истина рождается, по-видимому, и в игре тоже. Ведь, как сказал булга-ковский мастер, настоящий писатель, сочиняя, угадывает «то, чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было» (Б.;5.355) . Так, первую и лучшую читательницу романа, возлюбленную писателя Федора Зину Мерц, «совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды, - она принимала это на веру, - ибо, если это было не так, просто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен, и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, который немедленно следовало вытравить» (Н.;3.184-185) .
Эстетическая концепция Владимира Набокова в контексте идей русской литературной критики XIX - XX веков
Литературное наследие Набокова являет собой редкий, если не уникальный случай, когда писатель проявил себя как критик и исследователь творчества других авторов не менее ярко и оригинально, чем как художник. Более того, эти две сферы у Набокова нераздельны, они - в органическом единстве: художник отражается в критике, а критик осмысливает практику творца.
И так же, как сочинитель Набоков в своем творчестве, так и Набоков - литературный критик, синтезировал различные эстетические тенденции и историко-культурные традиции .
Первое впечатление от его лекций и эссе о мировой литературе - ошеломляющее. Настолько здесь все - идеи, оценки, наблюдения и выводы - кажутся оригинальными и прежде неслыханными. При более внимательном и спокойном рассмотрении, однако, проясняется другое: автор этих, во многом эпатажных исследований обладает удивительным даром повторять «чужое» как свое. Скажем точнее: он обладал удивительным даром, пропустив «чужие» идеи сквозь горнило своей индивидуальности художника и критика, сделать их «своими».
Оригинальное в эстетике Набокова неотделимо от переосмысленной традиции.
Отношения жесткой оппозиции к современной критике -отличительная черта литературной деятельности Набокова.
Уже при чтении отзывов о романах В.Сирина обращает на себя внимание удивительная их особенность: молодой писатель собрал на свою голову, кажется, все претензии, какие критика предъявляла его великим предшественникам в XIX в. В.Варшавский автора «Подвига» и «Отчаяния» обвинял в отсутствии реального содержания при высоких достоинствах художественного стиля - как в свое время Д.И.Писарев -Пушкина («Пушкин и Белинский»), а позднее В.В.Розанов -Гоголя («Гений формы»). Ю.Терапиано - в пристрасти к германскому «психоанализу», в бессмысленном «копании» в психологии человека и в негуманном отношении к человеку1 -это уже как Н.К.Михайловский - Достоевского («Жестокий талант»)2. И, наконец, в безыдейности и холодности таланта обвиняли В.Сирина и В.Варшавский, и Г.Адамович3 - совершенно, как Чехова - Михайловский («Об отцах и детях и г.Чехове», «Кое-что о г.Чехове») и А.М.Скабичевский («Есть ли у г.Чехова идеалы?») . Так что в смысле претензий к нему современной критики молодой сочинитель оказался, без сомнения, в обществе весьма престижном.
Агрессия критиков имела, по-видимому, свои отдаленные последствия. Критик - интерпретатор творчества или биограф писателя - стал антигероем романов Набокова (как, например, м-р Гудмен в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» или безумный литератор Кинбот в «Бледном пламени»), а резко полемическая окраска - доминантой его литературно-критических работ.
«Меня никогда не расстраивали желчь или жалость критиков и я ни разу в жизни не попросил о критическом отзыве и не поблагодарил за него» (HI.;3.577), - гордо заявил Набоков в Интервью журналу «Playboy». Таково было возмездие мастера его прежним гонителям.
Но, помимо факторов субъективных, полемический задор набоковских эссе о литературе имел и объективные причины. Одна из них, бесспорно, общественно-политическая неангажированность автора, о чем сам он заявлял не раз и не без гордости .
Но главное все же заключалось в том, что Набоков своей творческой практикой создавал новое искусство. Литература, и в первую очередь в лице Набокова, «меняла кожу». Прежние критерии оценки изжили себя - новое искусство требовало выработки новых принципов анализа. Точно так же, как писатель Набоков пропускал через себя творческие тенденции предшествующих эпох, - так и Набоков - исследователь и интерпретатор литературы, вырастал из прежних критических концепций, бескомпромиссно отторгая одни положения, переосмысливая или усваивая другие.
Критическая концепция Набокова во многих отношениях предваряет стратегию постмодернизма: она также «представляет собой высмеивание, варьирующееся от снисходительной иронии до желчного трагифарса», но не «трех одинаково неприемлемых для него форм эстетического опыта: модернизма, реализма и массовой культуры»5, а лишь двух последних, ибо автору «Дара» свойственно вполне лояльное отношение к искусству модернизма6. Все же позиция Набокова - это еще скорее «позиция модерниста, - как отмечает И.Паперно, - с характерным для эпохи антипозитивистским и антиреалистическим пафосом» .
Теория реализма в литературе - неизменный, явный или скрытый, объект саркастических выпадов Набокова. Прогрессивные для своего времени, в XX в. основные положения ее устарели, стали своего рода «общим местом», набором глубокомысленных банальностей. Как говорил Достоевский, «идея вышла на улицу». В глазах Набокова реалистическая концепция - выражение пошлого взгляда на искусство.
Главный адресат полемики автора «Дара» - критики и ими воспитанные читатели, желающие видеть в произведении искусства отражение «жизни действительной». Все те, кто думают почерпнуть из сочинений писателя полезную информацию о реальном положении дел и «любит, чтобы их литература была познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло» (Н1.;1.434). Кто читают французские и русские романы, «чтобы что-нибудь разузнать о жизни в веселом Париже или в печальной России»8. Для Набокова подобный взгляд на искусство - не что иное, как вопиющая пошлая чушь (Н1.;3. 575). «Только очень темный читатель, - писал он в Послесловии к американскому изданию «Лолиты», - изучает беллетристическое произведение для того, чтобы набраться сведений о данной стране, социальном классе или личности автора» (Н1.;2.384). Как всякая пошлость, эта имеет международное распространение: те же расхожие мнения с одинаковым апломбом повторяет и «училка из Огайо», и «прогрессивный осел из Нью-Йорка» (HI.;3.575), и ученый критик из Советской России.
Однако автору «Дара» был чужд сам принцип реалистического творчества, и не только в пошлом его варианте. «Литература - это выдумка, - утверждал он. - Вымысел есть вымысел. Назвать рассказ правдивым значит оскорбить и искусство, и правду»9.