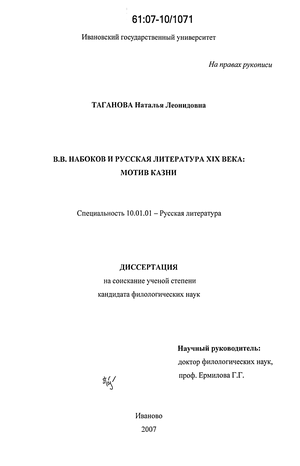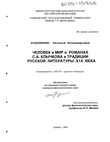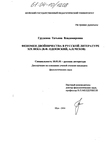Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Мотив казни: история и предыстория 17-36
1. К проблеме отражения мотива казни в фольклоре, древнерусской, ритуальной и современной литературе 17
2. Обоснование понятия «игра» как знакового в поэтике В.Набокова 29
ГЛАВА II. Мотив казни в поэзии и ранней прозе В.Набокова 37-69
1. Мотив казни в лирике В.Набокова 37
2. Мотив казни в рассказах В.Набокова 43
3. Мотивы, сопутствующие мотиву казнив «Приглашении па казнь» 51
ГЛАВА III. В.В. Набоков, И.С. Тургенев, Н.В.Гоголь 70-98
1. «Приглашение па казнь» В.В. Набокова и «Казнь Тропмана» И.С. Тургенева: точки пересечения 70
2. В.В. Набоков и Н.В.Гоголь: объедипепность абсурдом 79
ГЛАВА IV В.НАБОКОВ и Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ: диалог «вне времени и пространства» 99-131
1. В.Набоков-критик о Ф.М. Достоевском 99
2. Богу Ф.М. Достоевского 107
3. Ф.М. Достоевский и философия гностицизма 111
4. Богу В.Набокова 114
5. Реминисценции Ф.М. Достоевского у В.Набокова 117
6. Мотив казни у Ф.М. Достоевского 120
Заключение 132-135
Список использованной литературы 136-149
- К проблеме отражения мотива казни в фольклоре, древнерусской, ритуальной и современной литературе
- Мотив казни в лирике В.Набокова
- «Приглашение па казнь» В.В. Набокова и «Казнь Тропмана» И.С. Тургенева: точки пересечения
- В.Набоков-критик о Ф.М. Достоевском
Введение к работе
Путь признания в России В. Набокова, бесспорного классика мировой литературы, называемого еще в 30-е годы XX века самым крупным явлением эмигрантской прозы и вместе с тем практически неизвестного на родине, был неправдоподобно долог. После первого и во многом случайного упоминания в статье В. Волина («На посту», 1925) и издевательского отклика Демьяна Бедного на одно из стихотворений Сирина, на протяжении следующих шестидесяти лет - до волны «возвращенной» литературы и эпохи книжно-журнальной эйфории - имя Набокова было фактически вычеркнуто из истории официальной русской литературы.
В советской печати отзывы о В. Набокове — «писателе, лишенном корней, отвернувшемся от великих традиций родной литературы»1, — были весьма немногочисленны и не отличались вдумчивостью и адекватностью оценки: «Набоков охотно подхватывает все модные веяния Запада, поклоняясь космополитизму, порнографии, абсурду. Свой вклад он внес и в антисоветскую пропаганду. В своей «эстетической программе» Набоков отрицает гражданственность творчества, пытается отгородиться от реальности в вымышленном мирке, с помощью формалистических ухищрений и ошеломляюще непристойных ситуаций утвердить свою «независимость» художника. На деле же его творчество рассчитано на обывательские вкусы буржуазного читателя<...>. Враждебность к социализму прорывается во многих произведениях Набокова. Перемены на Родине, великие подвиги ее народа он не замечает, ограничивается лишь ядовитыми сарказмами<...>. Набоков ощущает иррациональность буржуазного бытия, но от поисков позитивного отказывается. Его безыдеальные романы с замкнутой структурой, алогичностью сюжетов и малоправдоподобными характерами — это камера абсурда, где нет места ничему живому»2.
В годы «перестройки» переосмысление подобного отношения происходило сложно и медленно. О.Дарк замечает, что рецензенты Набокова «смутно понимали, что в Сирине начинается новая литература на русском языке, с иным отношением к миру и человеку, не укладывающимся в привычный пафос «любви к человеку». В этом следовало разобраться. Эстетическое чувство не мирилось с таким странным заявленным противоречием: талантливо, но бессодержательно, красочно, но бесцельно»3.
В одной из разгромных статей Д. Урнова конца восьмидесятых годов, красноречиво озаглавленной «Приглашение на суд», Набоков не только интерпретируется как «представитель декаданса, упадка» и, более того, эпигон Ф. Сологуба и преемник худших, слабейших его сторон, но и позиционируется чуть ли не графоманом: «Ясно, что этот человек изначально не владел языком, что он не мог писать, а раз уж все-таки стал писать и сделался писателем, даже знаменитым, это означало, что он всеми способами скрывал свою неспособность и, как безнаказанная выходка, это ему сошло с рук, удалось!»
Все возрастающий интерес к творчеству Набокова и постепенное отстранение литературоведения от догм политических и теоретико-литературных доктрин привели к возникновению бесчисленного количества исследований, посвященных наиболее известному и читаемому произведению автора: речь идет, разумеется, о «Лолите» (так, например, на обложке английского издания «Приглашения на казнь» capricon books5 написано: «от создателя «Лолиты»). Ажиотаж вокруг «Лолиты» во многом отвлек внимание от таких повестей и романов Набокова, как «Приглашение на казнь», «Пнин», «Бледный огонь», а также от его литературного наследия, представленного многими превосходными рассказами, такими как, например, «Знаки и символы», «Рождество» и др.
В последнем десятилетии XX века отмечено, наконец, возникновение пристального интереса к этим текстам. Роман «Приглашение на казнь» (написанный в 1935 году и переведенный автором на английский язык в
1959) становится предметом исследования, например, в рамках монографического анализа всего творчества Набокова, как это происходит в масштабных работах Н. Анастасьева , А. Долинина и др.
Остановимся на одном принципиальном вопросе, поставленном в этих работах и весьма существенном в контексте выбора парадигмы нашего исследования: следует сказать несколько слов о жанровой отнесенности «Приглашения на казнь» во избежание возможных недоразумений, могущих проистекать из неверной интерпретации жанровой специфики произведения.
Тезис об антиутопической природе «Приглашения на казнь» в набоковедении принимался a priori; общим местом стало включение Набокова с его романом в ряд Замятин - Хаксли - Оруэлл. «На одном, весьма поверхностном уровне он [роман. - Н. Т.] может быть прочитан как политическая сатира или, вернее, антиутопия в духе романа «Мы» Замятина и «Прекрасного нового мира» О. Хаксли, обличающая подавление личности в тоталитарном государстве (курсив мой. - Я. Г.)» , -осторожно замечает А. Долинин.
«В заглавии романа «Приглашение на казнь» цитата (в исследовании Н.В. Семеновой рассматривается возможность кафкианского пре-текста -Н.Т.) не только определяет тему, но и маркирует жанр: абсурдный мир, абсурдная логика позволяют говорить об усвоении жанровой традиции антиутопии»9, - пишет Н.В. Семенова, анализируя переклички названия текста Набокова с новеллой Франца Кафки «В исправительной колонии» и делая подобный вывод на основе совпадения слова экзекуция в переводе С. Апта («Да и в исправительной колонии предстоящая экзекуция большого интереса, по-видимому, не представляла»10), «der Exekution» подлинника и заглавия романа Набокова.
«Подобно Хаксли и Замятину (роман «Мы» скорее всего был прочитан Набоковым еще в 1927 году, когда он впервые был опубликован на страницах эмигрантского журнала «Русская воля»), писатель изображает
пустое пространство всеобщей заменимости<...>, - более категорично заявляет Н. Анастасьев в главе под названием «Сатиры и антиутопии» и продолжает соотнесение: - В безымянной стране<...> помимо иных установлений, существует одно, центральное, и это тоже роднит его роман с иными антиутопиями XX века. У Замятина окна без штор, у Оруэлла — простреливаемое рентгеновскими лучами сознание, в «Приглашении на казнь» - закон всеобщей прозрачности (курсив мой. - Н.Т.) Система поработала и поработила Цинцинната» .
С последним замечанием вряд ли можно согласиться, если (и в первую очередь!) принимать во внимание слова самого Владимира Набокова. На вопрос А. Аппеля - «Есть ли у Вас какое-либо мнение о русской антиутопической традиции, начиная с<...> Одоевского и до брюсовской «Республики Южного Креста» и «Мы» Замятина?» - ответ весьма краток и лаконичен: «Мне эти вещи не интересны».
Будучи «самым сказочным и поэтичным» (по словам самого автора) произведением Набокова, «Приглашение на казнь» подчеркнуто игнорирует всякую временную и пространственную отнесенность (зыбкость неназванного, несуществующего мира, сужающегося до пределов камеры и расширяющегося до человеческого микрокосма с самопроизвольно замедлившейся нарисованной стрелкой часов) в отличие от антиутопической тенденции конкретизации эпохи и ее социо-политико-культурных составляющих (в «Дивном новом мире» - легко читаемый лозунг «Общность, одинаковость, стабильность», появление нового бога -Форда - и символа новой религии - огромной буквы Т (название модели автомобиля для массового пользования, произведшего в Америке революцию); у Оруэлла - полиция мысли, новояз, Старший Брат и враг народа Голдстайн, прототипы которых угадываются предельно просто).
Ничего подобного нет у Набокова. Отнесению «Приглашения на казнь» к жанру антиутопии мешает абсолютная абстрагированность хронотопа романа. Отсутствие указаний на какую-либо географическую
(громадные скалы + виноград + васильки + тополя) или
культурологическую отнесенность событий подчеркивается
«космополитическим» смешением - атрибутов культур, национальных особенностей. В пространстве текста сосуществуют даже имена: римские -Цинциннат, Диомедон, русское - Роман, типично русские - Марфинька, Родион, французские - Пьер, Полина, Эмма (обрусевшее до Эммочки), испанское - Родриг.
Всплеск особенного интереса к роману становится заметен в середине-конце 90-х годов, когда на страницах журналов появляются многочисленные статьи, посвященные непосредственно данному произведению, причем интерпретация последнего дается в принципиально новом ключе. Например, статья СМ. Козловой «Утопия истины и гносеология отрезанной головы...»13 дает представление об интересном сближении текста Набокова и философии Платона. Н. Букс в статье «Эшафот в хрустальном дворце»14 обращает особенное внимание на психологический план произведения. Дафна Меркин интерпретирует романы В. Набокова как «волшебные сказки, чистые и простые», которые следует «оценивать с точки зрения воображения и стиля»15.
Наш особенный интерес вызывает вышедшее в 1999 году исследование В.Е. Александрова «Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика»16, в котором впервые полно и убедительно выявляются гностические мотивы текстов писателя.
На наш взгляд, все эти точки зрения имеют право на существование и, более того, сосуществование, что обусловлено отсутствием в текстах Набокова однозначной «генеральной линии», могущей дать интерпретатору бесспорный ключ к истолкованию.
Игровая реальность произведения Набокова может быть понята благодаря привлечению самой, пожалуй, характеризующей категории модернистской и постмодернистской поэтики - интертекстуальности. «Всякий текст есть интертекст по отношению к какому-то другому
тексту», - замечает Р. Барт , а Набоков (на наш взгляд, уместно говорить о гипертекстовом принципе построения романа, при котором он обращается, по определению В. Руднева, «в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество текстов»19) иллюстрирует этот тезис, мозаично составляя свой роман из полуразгаданных аллюзий на читанные-перечитанные тексты (по словам самого Набокова, «Искусство - это вечное чудо, чародей, умеющий сложить два и два так, чтобы получилось пять»20).
Существует мнение, что вне привлечения категории интертекстуальности набоковское творчество не может быть осмыслено в принципе, как невозможно и адекватное проникновение в суть замысла художественной организации его пространства. Причем несомненно и то, что обширнейший пласт набоковских интертекстуальных связей на данный момент не является в достаточной степени изученным. Это справедливо и для интертекстуальных связей писателя с классической традицией русской литературы. Несмотря на то, что к связи В.Набокова с представителями классической традиции русской литературы обращались такие исследователи, как О. Дарк, Н. Букс, С. Давыдов, А. Долинин, А. Злочевская, В. Старк, Г. Левинтон, П. Тамми и др., процесс полного и адекватного осмысления взаимосвязи В. Набокова с его предшественниками бесконечен, что и обуславливает актуальность данного вопроса в общем и данного диссертационного исследования в частности.
Выбранные нами для исследования в контексте художественного творчества В. Набокова фигуры из континиума «золотого века» русской литературы - Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев - не случайны на следующем основании. Несомненная художественная и мыслительная активность В. Набокова именно в отношении этих фигур, на наш взгляд, имеет своей подоплекой не только ярко выраженный интертекстуальный контакт, но и диалогическое обоюдное взаимодействие на более глубоком вневременном уровне и взаимное тяготение, чего не прослеживается, допустим, в отношениях «В. Набоков - М. Лермонтов», «В. Набоков -
Л. Толстой», «В. Набоков - А. Пушкин» (хотя очевиден тот неоспоримый факт, что у этих авторов интересующий нас мотив казни чрезвычайно актуализирован и является плодотворным материалом для исследования -достаточно вспомнить «Песнь о купце Калашникове», «Анну Каренину», «После бала», «Николая Панкина», «Полтаву» и пр.).
Особый интерес представляет для нас связь трех обозначенных авторов с В. Набоковым в несомненной общей точке пересечения, которой стал мотив казни. Следует оговориться, что под мотивом мы понимаем некоторый устойчивый смысловой комплекс, восходящий к определенным архетипам с обязательным условием повторяемости за пределами текста одного произведения (вслед за пониманием сущности мотива, данным А.Н.Веселовским и осмысленным И.В. Силантьевым и И.П. Смирновым .
Экзистенциальность мотива казни и его востребованность мировой литературой всего времени ее существования не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений онтологический интерес человечества к смерти. Существует огромное количество исследований, как исторических, посвященных видам казни в ту или иную историческую эпоху (Лаврин А.П. «Хроники Харона. Энциклопедия смерти», «Истязания в Средние века (По материалам книги потомственного палача, бывшего исполнителя Верховных приговоров Парижского уголовного суда Г. Сансона» и т.д. ), так и политических (Фуко М. «Интеллектуалы и власть», Фуко М. «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», Гарднер М. «Казнь врасплох и связанный с ней логический парадокс», Чернорицкая О. «Смертная казнь как эротика государственного самоубийства» и пр.); сакральные, религиозные, обрядовые составляющие действа казни описаны в исследованиях Д. Фрезера, Р. Генона, М. Элиаде, Р. Грейвса, М.П. Холла, К.П. Эстес и пр.
Обязательными атрибутами казни в нашем представлении является:
1) непременная зрелищность (театрализованный характер, предполагающий как соблюдение канона публичного действа казни,
установленного социальным институтом судопроизводства («Приглашение на казнь», «Казнь Тропмана»), так и, с другой стороны, элемент «игры на публику», даже при отсутствии оной - в данном случае речь идет о «самоказни», самоубийстве с непременным расчетом на предполагаемую реакцию зрителей после - с написанием предсмертных записок и писем (Свидригайлов, Ставрогин), выбор свидетеля и «обыгрывание» для него своей казни (Свидригайлов, Кириллов)),
идеологическая подоплека (обоснованность того, во имя чего осуществляется казнь), элемент воздаяния, возмездия, искупления,
наличие дихотомии «палач - жертва», причем эти отношения могут приобретать разнообразные формы: так, в случае «самоказни», «палач» и «жертва» соединяются в одном лице или, скажем, роль «палача» частично возлагается на того, кто выносит приговор, и исполнителя приговора, причем в роли последнего может выступать и «жертва» (Свидригайлов).
Исходя из вышесказанного, подчеркнем, что в нашем исследовании большое внимание уделяется и такой разновидности казни, как «самоказни», или самоубийству (при наличии перечисленных атрибутов).
Наконец, применительно к функционированию мотива в «Приглашении на казнь» чрезвычайно существенным для нас является наблюдение, взятое из набоковского романа «Дар», где говорится, что в казни существует «странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении превращающая любого в левшу: недаром для палача все делается наоборот: <...> вино кату наливается не с руки, а через руку; <...> в Китае именно актером, тенью, исполнялась обязанность палача, то есть как бы снималась ответственность с человека, и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир»23. Эти слова являются одним из ключей как для интерпретации непосредственно акта казни в романе и дихотомии «палач -жертва», так и для понимания самой природы «Приглашения на казнь».
Актуальность диссертации заключается в том, что в ней на конкретном примере текстов В.Набокова рассмотрен принципиально важный не только для русской, но и мировой литературы мотив казни с точки зрения его функционирования, семантических составляющих и коннотаций, появляющихся при его видоизменении. Кроме того, прослежены многочисленные скрытые связи В. Набокова с такими столпами XIX века, как Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, имеющие своей основой исследуемый мотив казни.
Настоящая работа - первая диссертационная работа о творчестве В. Набокова в парадигме рассмотрения мотива казни. Ее научная новизна определяется тем, что в ней 1) впервые произведен анализ поэтики В.Набокова в контексте принципиальной значимости мотива казни; 2) обнаружен и интерпретирован ряд новых нюансов интертекстуального взаимодействия Владимира Набокова с традициями Гоголя и Достоевского, 3) представлена интерпретация специфики набоковского литературно-эстетического феномена как своеобразного сплава творческих принципов, родственных принципам Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя и относящегося к ним в отношениях «притяжения - отталкивания».
Методы исследования обуславливаются решением конкретных задач на различных этапах работы и включают: интертекстуальный, структурно-типологический (выстраивание типологии авторского сознания с точки зрения отношения к традиции), историко-генетический методы.
Предмет нашего исследования - мотив казни в его различных модификациях, вариациях, проявляющийся в фольклоре, ритуальной литературе, произведениях XIX века, литературе модернизма. Объектом исследования являются произведения В. Набокова (роман «Приглашение на казнь», лирика, рассказы 20-40-х гг.), Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя.
Теоретическую базу исследования составили идеи и труды таких исследователей, как Р. Барт, М. Бахтин, А.Н. Веселовский, Ю.М. Лотман,
И.П. Смирнов, работы о семантической наполняемости мотива казни (Р. Генон, Д. Фрезер, О.М. Фрейденбрг, М.П. Холл, М. Элиаде, К.П. Эстес). При анализе творчества В. Набокова привлекаются исследования Б. Аверина, В. Александрова, Н. Анастасьева, П. Бицилли, С. Давыдова, А. Долинина, О. Ронена. Источниками исследования являются роман В. Набокова «Приглашение на казнь», его стихи, рассказы 20-40-х гг., лекции по русской литературе, эссе, интервью; романы Ф.М. Достоевского («Бесы», «Идиот», «Преступление и наказание»), «Дневник писателя», письма, воспоминания А.Г. Достоевской, материалы по делу петрашевцев; тексты И.С. Тургенева («Казнь Тропмана») и Н.В. Гоголя («Мертвые души», «Ревизор», «Шинель»)
Цель работы - выявление семантического наполнения мотива казни, функционирования его в контексте русской литературы XIX века и творчества В. Набокова.
Нашей первостепенной задачей является, во-первых, рассмотрение романа «Приглашение на казнь» (а именно его концепции, основных мотивов, языка, перекличек с некоторыми произведениями самого Набокова) в контексте проявления и функционирования в нем мотива казни; причем особенное внимание нами уделяется и ранним текстам Набокова (стихи, рассказы 30-40-х годов и т.п.), что позволяет с очевидной наглядностью проследить динамику авторского проявления интереса к данному мотиву и определенную трансформацию его восприятия в сознании Набокова, связанную, в первую очередь, с не вызывающим сомнений отходом последнего от традиционных штампов восприятия мотива казни в сторону его гностической рецепции.
Во-вторых, это исследование текстов классиков XIX века (Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь), особенно выделяемых Набоковым, на предмет установления обоюдного вневременного диалога последнего с перечисленными авторами; причем диалог этот, по нашему мнению, строится именно в связи с интересующим нас мотивом казни и рядом мотивов, сопутствующих и соприродных ему. Таким образом, нашей
задачей становится рассмотрение интерпретации мотива казни в произведениях названных писателей XIX века в контексте набоковского «Приглашения на казнь».
Структура диссертации определяется характером задач и целей исследования. Основная часть диссертации состоит из четырех глав, причем название каждой выявляет рассматриваемую в ней проблематику.
Первая глава - «Мотив казни: история и предыстория» - частично посвящена проблеме отражения мотива казни в фольклоре, древнерусской, ритуальной и, вкратце, современной литературе, что позволяет читающему определиться с основными семантическим составляющими интересующего нас мотива, начиная с фольклора и ритуальных действ, заканчивая его модернистским и постмодернистским обыгрыванием. Здесь же затрагиваются факультативные мотивы (хождения с собственной отделенной головой, функционирования головы отдельно от тела и пр.) и символы (череп, Голгофа, голова Иоанна Крестителя и т.д.), корреспондирующие с доминантным мотивом казни и принципиально важные для нашего дальнейшего исследования.
Второй параграф первой главы связан с обоснованием понятия «игра» как принципиально важного в поэтике В.Набокова. Эта часть носит, в основе своей, теоретический характер, что объясняется необходимостью проследить историю философского истолкования необходимого для нашего исследования понятия и вычленить из него те семантические составляющие, которые становятся приоритетными для Набокова при моделировании им мира своих произведений.
Вторая глава носит название «Мотива казни в поэзии и ранней прозе В. Набокова». В ней на материале лирических произведений и рассказов, образующих с «Приглашением на казнь» определенное смысловое единство, рассматривается проявление и функционирование мотива казни, смерти, причем акцент делается на намеченных автором гностических рецепциях интересующего нас мотива, которые в дальнейшем окажутся
доминирующими в набоковском романе. Третий параграф второй главы посвящен необходимому выявлению и описанию ряда основополагающих мотивов «Приглашения на казнь», непосредственно связанных с мотивом казни (мотивы театра, масочности, цирка, двойничества, письма) и подчеркивающих его специфику.
Третья глава - «В. Набоков и русская литература XIX века» -посвящена выявлению точек пересечения И.С. Тургенева (на материале «Казни Тропмана») и Н.В. Гоголя в парадигме, в первом случае, до сих пор не выявленной в литературоведении преемственности в изображении казни и казнимого; во втором - почти идентичности принципов построения мира произведения. Общий характер отношений художественного творчества В.В. Набокова с художественным творчеством Н.В. Гоголя определяется как «притяжение-отталкивание» от художественного гения Гоголя, с преобладающим значением «притяжения». Между литературно-эстетическими феноменами В.В. Набокова и Н.В. Гоголя подчеркивается общность, основанная на методологическом принципе «фантастического реализма», понимаемого как способность сознания художника постигать трансцендентные миры, проникая «по ту сторону» феноменологически данной действительности.
Гоголевская традиция в «Приглашении на казнь» отчасти подвергается корректировке и реконтекстуализации, с упразднением трагических противоречий (о чем свидетельствует даже промежуточное между гоголевским и кэрроловским понимание абсурда), в главном же служит интертекстуальной опорой при художественной обработке и эстетическом решении определённых тем и характеров набоковского произведения.
Наконец, четвертая глава - «В. Набоков и Ф.М. Достоевский: диалог вне времени» - посвящена глубочайшему вневременному диалогу Ф.М. Достоевского и В. Набокова с предварительным выявлением истинного отношения («отталкивание-притяжение» с несомненным приоритетом «притяжения») последнего к объекту своей постоянной критики. Помимо
несомненной точки пересечения в понимании и изображении мотива казни, детально рассмотрено такое принципиальное для обоих авторов понятие, как Бог и отношение к нему; выявлены отчетливые реминисценции Ф. Достоевского в тексте В. Набокова; рассмотрено отношение первого к философии гностицизма (в контексте уже рассмотренного отношения к ней В. Набокова); подчеркнуты видоизмененные формы проявления мотива казни (самоубийство, казнь нереализованная и т.п), проявляющие себя в романах Ф.М. Достоевского.
Библиография помещена в конце диссертации и включает 166 библиографических единиц.
Материалы настоящего диссертационного исследования могут быть использованы в вузовских курсах, спецкурсах, спецсеминарах по проблемам теории литературы, истории русской литературы и литературы «русского зарубежья», что определяет практическую значимость диссертации.
Материалы исследования докладывались и обсуждались на международных студенческих конференциях и фестивалях, научно-методических региональных конференциях, международной научной конференции филологов «Александр Введенский и русский авангард» (СПб), научной конференции «Потаенная литература (Ивановский государственный университет, 2004, 2006, 2007 гг.).
Чернышев А., Пронин В. Владимир Набоков во-вторых и во-первых// Литературная газета. 1970. 4 марта. С. 13.
Там же.
Дарк О. Загадка Сирина// Набоков В.В. Собр.соч.: в 4-х томах. М., 1990. Т. 1.С. 405.
Урнов Д. Пристрастия и принципы: спор о литературе. М., 1991. С. 109, 104.
Nabokov V. Invitation to a Beheading. NY, 1965.
А Настасьей H. Феномен Набокова. М., 1992.
Долинин А. Цветная спираль Набокова// Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989.
Долинин А. Цветная спираль Набокова// Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С. 464.
9 Семенова Н.В. Цитата в художественной прозе (На материале произведений В.Набокова). Тверь, 2002.
С. 127.
Кафка Ф. Процесс. Замок. Новеллы и притчи. Из дневников. М., 1989. С. 370.
Анастасьев Н. Феномен Набокова. М., 1992. С. 178 -179.
Набоков В.В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М, 1989. С. 408.
Козлова СМ. Утопия истины и гносеология отрезанной головы... // Звезда. 1999. № 4.
Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце // Звезда. 1996. № 11.
Меркин Д. Учась у Набокова// Классик без ретуши. Классик без ретуши. Лит. мир о творчестве В. Набокова: крит. отзывы, эссе, пародии. М., 2000. С. 539.
Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. СПб., 1999.
17 Об отнесенности «метапрозы» Набокова к постмодернизму см.: Липовецкий М. Русский
постмодернизм: очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 418.
Руднев В.П. Морфология реальности: исследование по "философии текста". М., 1996. С. 56.
Набоков В.В. Смех и мечты: эссе из журнала «Карусель» // Звезда. 1996. № 11. С. 42.
Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования: проблемы теории и анализа. Новосибирск, 2001. С. 27.
22Смирнов И.П. Цитирование как историко-литературная проблема: принципы усвоения древнерусского текста поэтическими школами конца XIX - начала XX вв. на материале «Слова о полку Игореве» // Блоковский сборник. IV. Тарту, 1981. С. 246. 23 Набоков В.В. Дар // Набоков В.В. Собр.соч.: в 5 т. СПб., 2000. Т. 4. Русский период. С. 383.
К проблеме отражения мотива казни в фольклоре, древнерусской, ритуальной и современной литературе
Мотив казни и мотив отсечения головы находят свое широкое отражение в литературе, однако, с точки зрения литературоведения, являются практически неизученными. Исследования, посвященные данному вопросу, представляют собой скорее беллетризованную систематизацию существующих способов и видов казни1 или отображают связь казни с литературой, влияние казни в том или ином виде на судьбы и т.д., и т.п.
Нас же интересует семантическая наполняемость означенных мотивов, обуславливающая интерес к ним, а также частотность и повсеместность их использования в литературе.
Помимо мотивов казни и отсечения головы, нами будут затрагиваться такие семантические составляющие последнего мотива, как идущее / двигающееся обезглавленное тело, говорящая голова, тело без головы, отрубленная голова, тело, несущее в руках голову.
В своем исследовании масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии М.П. Холл пишет, что «физическое тело человека имеет пять различных и важных конечностей: две ноги, две руки и голову, последняя из которых управляет первыми четырьмя»2. Далее замечается, что руки и ноги представляют четыре элемента: две ноги - землю и воду, две руки - огонь и воздух, мозг же символизирует эфир, или «духовную материю», и объединяет остальные четыре.
Такое главенство указывает на то, что рациональная сила контролирует четыре иррациональные стихии. Однако стоит оговорить, что в терминологии герметической химии эфир есть невидимый и трансцендентный аналог физической формы, составляющий оболочку жизненной силы (или археуса), не распадающейся со смертью и происходящей из духовного тела земли.
Таким образом, голова является сосредоточием рационального (об этом говорит Р. Генон: «Мозг, в качестве органа или орудия разума дискурсивного, или рационального, реально играет роль "передатчика", "трансформатора" ... посредством которого все вещи видятся как бы в зеркале, quasi per speculum, как говорит апостол Павел»4) и метафизического одновременно, что сообщает ей особый полифункциональный статус, не поддающийся однозначной трактовке.
Кроме того, в каждой культуре и эзотерической традиции голова, череп, отрубленная голова несут на себе огромную мифологическую и инициатическую нагрузку. Именно «отрубленные головы» символизируют инициатическую смерть и переход от профанного состояния в статус посвященного в тибетском буддизме. То же значение приобретает череп при посвящении в первую степень ученика в масонском обряде. Шаманские инициации построены при помощи привлечения той же символики. Черепа неизменны в Шиваистских культах.
Череп, голова как таковая, служит своеобразным символом креационизма, эзотерической теории происхождения мира, усматривающей сотворение Вселенной в одновременном акт созидания Высшего существа. Мифологемы и семиотика креационистов связаны с символизмом черепа Адама, а тайные силы их сосредоточены в «Ордене мертвой головы».
Важнейший христианский сюжет связан с распятием Иисуса Христа на Голгофе, причем название холма в переводе с древнееврейского и означает «череп» или «мертвая голова». Это связано с тем, что, по преданию, именно на этом холме была захоронена голова первочеловека, Адама (поэтому в христианском символизме череп фигурирует в традиционном изображении креста с телом распятого Спасителя). Александр Дугин видит в этом «элемент христианской доктрины, утверждающей, что Христос есть Новый Адам (он изображен на кресте), пришедший спасти Ветхого Адама (он изображен в виде черепа под крестом). Иными словами, череп ассоциируется в христианском символизме с "Ветхим Адамом", "Ветхим Человеком", т.е. с тем состоянием человечества, в котором оно пребывало до прихода Мессии, Христа Спасителя. В богословии апостола Павла, Ветхий Адам соотносится с "эрой Закона", т.е. реальностью, подчиненной логике "Творец-Творение", а Новый Адам, Христос, с переходом к логике "усыновления".
Итак, ветхозаветное время сакральной христианской истории, период ДО Сына, имеет своей точкой отсчета череп, голову первочеловека Адама.
Вторая опорная точка ветхозаветной эпохи связана с сюжетом об отсеченной голове Иоанна Крестителя, последнего ветхозаветного пророка, проповедующего о конце эпохи закона и воцарении эпохи благодати. Важнейший сакральный момент, связанный с его фигурой - его декапитация, то есть мученическая смерть через отрубание головы. (По свидетельству А. Дугина, в иконописных изображениях Иоанна Крестителя характеризующей особенностью его становится голова. На некоторых новгородских иконах Иоанн Креститель изображен с головой на плечах, при этом взгляд пророка направлен на его же отсеченную голову. Сакральная значимость и особость его смерти подчеркивается тем, что в православном литургическом календаре как праздник отмечены три дня «обретения головы Иоанна Крестителя»).
Мотив казни в лирике В.Набокова
Перед тем, как обратиться непосредственно к «Приглашению на казнь», в котором мотив казни проявляется особенно ярко и многозначно, обратимся к произведениям В.В. Набокова, предваряющим данный роман и ставшим своеобразным его прологом, выявляющим генезис интересующей нас темы. В этом контексте мы считаем целесообразным рассмотрение лирики писателя и его рассказов 20-40-х гг. Следует отметить, что мотив смерти в лирических произведениях Набокова является одним из наименее частотных, однако принципиально значимых и знаковых. В рамках нашего исследования данного мотива в контексте последующего творчества писателя представляется важным определить семантическую наполняемость этого понятия, уделив особое внимание его совпадению с интерпретацией мотива смерти, являющегося центральным в романе Набокова «Приглашение на казнь». Можно с уверенностью утверждать, что смерть и в лирике Набокова, и в упомянутом произведении воспринимается не как фатальное умирание тела и духа, но как некое инициационное действо, переводящее «рвущуюся в путь крылатый душу» в иную, органичную для нее область из тяготящей «горячечной рубашки плоти». Рассмотрим стихотворение Набокова, написанное в 1923 году: О, как ты рвешься в путь крылатый, Безумная душа моя, Из самой солнечной палаты В больнице светлой бытия! И, бредя о крутом полете, Как топчешься, как бьешься ты В горячечной рубашке плоти, В тоске телесной тесноты! Иль, тихая, в безумье тонком Гудишь-звенишь сама с собой, Вообразив себя ребенком, Сосною, соловьем, совой. Поверь же соловьям и совам, Терпи, самообман любя, - Смерть громыхнет тугим засовом И в вечность выпустит тебя1. Данная ситуация схематически повторяется в «Приглашении на казнь», где тело приговоренного к смерти ЦинциннатаЦ. интерпретируется как решетка тюрьмы, ограждающая его субстанцию от выхода в сферу чистого творчества и бессмертия, метафора внешнего по отношению к «Я» художника сугубо феноменального мира. Предваряя следующие замечания, стоит коснуться вопроса об отношении Набокова к философии гностицизма, апеллируя к явным параллелям с основными ее доктринами в романе «Приглашение на казнь». Писатель сам намекнул на угадываемые в его романе гностические элементы, переменив определение совершенного Цинциннатом преступления: «гносеологическая гнусность» русского оригинала превратилась в «гностическую гнусность» английского перевода2. Мотив полета, ставшего первым свидетельством инаковости героя, также имеет отчетливые гностические отзвуки. В. Александров в своем исследовании «Набоков и потусторонность» пишет: «Детская прогулка Цинцинната по воздуху ... прообразом своим имеет гностическое разделение человечества на индивидов духовных и телесных, а также миф об изначальном пленении человеческого духа»3. Одним из центральных убеждений гностиков является вера в то, что пробудить душу избранного от дремотного состояния в земной юдоли может некий духовный избавитель или какое-то знамение, посланное положительной, одухотворенной силой света. У Набокова это гностическое представление воплощается в таинственном послании о неведомом отце, которое приносит Цинциннату мать. Рассказывая о его отце, о котором никогда не узнали, ни кто он, ни откуда, Цецилия Ц., с которой они внезапно встретились и так же внезапно расстались, говорит, что слышала «только голос - лица не видала»4. Этот мифологический отец настолько развоплощен и слит со своей тайной стихией, настолько по ту сторону материального, что реальным остаётся только голос. В свою очередь, «Цецилии назначена роль более «развитой», с позиции гностицизма, личности, чем её сын. В её душу заронена божественная искра, больше того, она в любой момент готова обнаружить этот дар ... Рассказывая о «нетках», странных предметах, которые кажутся бесформенными и бессмысленными, но, отражаясь в особенных, кривых зеркалах, складываются в «чудный и стройный образ», она как бы намекает, что ей открыты тайны бытия и непримиримого различия миров материи и духа ... Можно понять, что на этих высотах, где она пребывает, будущее Цинцинната тайны не представляет», - замечает В. Александров . Уже в стихотворении 1923 года намечается гностическая триада, описывающая духовное прозрение как последовательное прохождение ступеней гилического, психологического и пневматического; причем в стихотворении речь может идти лишь о первоначальном интенционном нащупывании пути гностика через разрушение телесной субстанции, выражающееся в ряде метафор и в исходе стихотворения. Герой стихотворения, равно как и Цинциннат Ц., вплоть до последних страниц «Приглашения на казнь» находится в отношениях самоидентификации и референции с окружающим пространством палаты, или тюрьмы. Тем самым оба они центрированы и прикованы к психическому уровню (т.е второй ступени гностической триады), и исход в пневматическое (т.е децентрированное) им закрыт. Однако, в отличие от стихотворения, в амбивалентном финале романа (который будет подробно рассмотрен ниже), по словам С. Давыдова, «вслед за реинтеграцией всей духовной субстанции и ее воссоединением с первоисточником, наступает эсхатологический момент, ознаменованный уничтожением лишенного пневмы и света материального космоса ... К концу романа Цинциннат доходит до окончательного, всезавершающего познания смерти, он разоблачает карнавальную мистерию смерти и открывает истинную, гностическую тайну о ней»6, и роман рядом исследователей7 прочитывается как гностическая эпифания, намеченная и не реализованная в стихотворении и утверждающая слияние с пневмой и вечностью.
«Приглашение па казнь» В.В. Набокова и «Казнь Тропмана» И.С. Тургенева: точки пересечения
Стоит остановиться на прочих общих моментах, роднящих два произведения, о которых уже говорилось в предыдущей главе. Речь идет о статье И.С.Тургенева 1870 г. «Казнь Тропмана» и романе В.В.Набокова «Приглашение на казнь», на первый взгляд объединенных лишь сосредоточенностью на теме казни в совершенно разных, казалось бы, ракурсах. Однако в самом «метафорическом» (по мнению А.Аппеля1) романе Набокова и в злободневной для своего времени статье Тургенева, выражающей политический и этико-моральный взгляд интеллигенции на смертную казнь, обнаруживаются явные параллели, которые дают основание предполагать, что Набоков во многом имел в виду «Казнь Тропмана» во время работы над своим романом. Стоит обратить внимание на восприятие Набоковым И.С.Тургенева, чтобы проверить, обосновано ли, документально или текстово, последнее наше предположение. Несомненно сложное отношение Набокова к русской литературе и традиции русской классики 19 века. «Ему претил безумный, с его точки зрения, гиперморализм русской литературной традиции, то есть прямолинейный нравственный пафос, - замечает В.Ерофеев и продолжает: -Утверждали, что он сошел с рельсов русской литературы, но именно в самом схождении было продолжение русской литературы»2. Метафорически такое отталкивание вместе с глубоко любовным отношением к «мифическому», «едва вообразимому»(72) девятнадцатому веку выражается в интересующем нас романе «Приглашение на казнь» следующим образом: главный герой, узник, ожидающий казни, ЦинциннатЦ. в свое время «занимался изготовлением мягких кукол для школьниц. «Тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветастом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол»(58). Подобная травестированная интерпретация столпов литературы сменяется следующим ностальгическим и лирическим описанием того «едва вообразимого века»: «То был мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью ... . То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ... все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности...сказать ли?., очутилась как бы в другом измерении» (73). Непосредственно И.С. Тургеневу посвящена одна из набоковских лекций по русской литературе, в которой он подробнейшим образом говорит о тургеневской «густой, как масло, великолепно размеренной прозе, так хорошо приспособленной для передачи плавного движения. Та или иная фраза у него напоминает ящерицу, нежащуюся на теплой, залитой солнцем стене, а два-три последних слова в предложении извиваются, как хвост» . Говоря о «добротной, ясной, но ничем не выдающейся прозе» классика, Набоков отмечает, что «его дару недоставало воображения, то есть естественной повествовательной способности, которая могла бы сравниться с оригинальностью, достигнутой им в искусстве описаний» . Однако в лекции о Льве Толстом появляется следующее замечание: «Оставляя в стороне ... Пушкина и Лермонтова, всех великих русских писателей можно выстроить в такой последовательности: первый — Толстой, второй — Гоголь, третий — Чехов, четвертый — Тургенев» (курсив мой. - Н. Т.). Можно сделать вывод, что В.В.Набоков был хорошо знаком с творчеством И.С. Тургенева и ценил его достаточно высоко. Отсутствие в набоковских текстах каких-либо упоминаний о «Казни Тропмана» ни в коей мере не свидетельствует о его незнании данной статьи, к которой в контексте набоковского романа «Приглашение на казнь» мы и обратимся ниже. Следует заметить, что интерес Набокова к теме казни возник еще в 1923 году, когда им была написана короткая драма «Дедушка», несомненно, навеянная «Записками палача» Анри Сансона, внука известного палача, казнившего Людовика XVI (кстати, имя осужденного, смерть которого описывает князь Мышкин в романе Ф.М.Достоевского, заимствовано именно из «Записок палача»). В основе пьесы лежит биографический факт помутнения рассудка отошедшего от дел и занявшегося садоводством палача, который сублимационно переносит парадоксальную любовь палача к своим жертвам на выращиваемые цветы. Он пропускает сквозь пальцы стебель лилии нагнувшись над цветником,— лишь гладит, не срывает, и нежною застенчивой улыбкой весь озарен... Да, лилии он любить-ласкает их и с ними говорит. Для них он даже имена придумал,— каких-то все маркизов, герцогинь6... Еще один интересный штрих: в пьесе палач назван художником («художник - не палач»), чем по-набоковски виртуозно смещаются общепринятые акценты - из карателя, несущего смерть, палач превращается в творца, созидающего акт смерти, творящего действо воздаяния за грехи и, соответственно, сближающегося с казнимым, как частью своего творения. Этот парадокс мы видим в «Приглашении на казнь», где палач м-сье Пьер выступает в роли двойника заключенного Цинцинната Ц.
В.Набоков-критик о Ф.М. Достоевском
Назовем еще одно имя, которое не может быть не названо в контексте заявленной нами темы. Вневременной диалог Ф.М.Достоевского и В.В.Набокова, на первый взгляд, выразившийся лишь в «литературной злости» последнего и его все усиливающихся нападках на своего гениального предшественника, явился именно диалогом из-за мучительного отталкивания Набокова от мучительно притягивавшего его Достоевского. Стоит остановиться подробнее на характере сложнейших взаимоотношений двух писателей, чтобы понять суть и следствия этой «злобы». В лекциях по русской литературе, многочисленных интервью, даже в комментариях к «Евгению Онегину» Набоков, все усиливая резкость формулировок, не перестает характеризовать Достоевского, как «одного из пламенных вещателей тяжеловесных банальностей»,1 третьесортного писателя, автора «абсурдных», посредственных романов с "чернобородыми убийцами, изображенными как некий негатив тривиального образа Иисуса Христа, и плаксивыми проститутками, взятыми напрокат из слезоточивых романчиков предшествующей эпохи . Вадим Вадимович Н., пародийный двойник автора из романа «Посмотри на арлекинов!», вставляет в текст книгу о Достоевском, уничтожающую сочинителя сентиментальных готических романов. Фабула «Лолиты» пародийно отсылает к исповеди Ставрогина, а Гумберт Гумберт внезапно осознает в себе омерзительное прорастание героев тех самых романов: «Внезапно, господа присяжные, я почуял, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит как далекая и ужасная заря» . Сама структура повествования «Лолиты» недвузначно отсылает к адресованному суду «слову» из «Записок из подполья», равно как и герой романа «Отчаяние», постоянно обращающийся к необозначенным судьям и обнаруживающий в себе «карикатурное сходство с Раскольниковым»4. «Брань по адресу Достоевского, придирки к "эстетике",- замечает Л.Сараскина, в очередной раз прочитав "Отчаяние" как дуэль с великим предшественником, - были своего рода конспирацией; за позой неприятия скрывалась мучительная зависимость от мира "совершенно безумных персонажей", от их автора»5. Тезис любопытный, и вывод представляется нам более чем обоснованным. Для того, чтобы подтвердить это, обратимся к набоковской лекции, ставшей для многих непреложным и бескомпромиссным доказательством негативного отношения Набокова к своему именитому предшественнику. «Не скрою, мне страстно хочется Достоевского развенчать»6, -заявляет Набоков в лекции о Достоевском для американских студентов, которая представляет собой сосредоточение все отрицательной аргументации неприятия мира литературного оппонента. Приведем некоторые из этих аргументов, оставляя за собой право комментария, поскольку все сказанное ниже совсем не так однозначно, а вывод об отношении Набокова к Достоевскому, сделанный на основании данной лекции, будет скорее неверен, чем показателен. Во-первых, по всему тексту рассыпаны противоречия - самому себе и анализируемым текстам. Так, упрек в отсутствии чувства юмора сменяется констатацией наличия в текстах писателя «вспышек непревзойденного юмора»; Достоевский предстает то автором пошлых детективных романов, то «великим правдоискателем»: - «Достоевский так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Именно к сентиментализму восходит конфликт, который он так любил: поставить героя в унизительное положение и извлечь из него максимум сострадания» («Достоевский», 182). - «Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскгши комплексами, упоение трагедией растоптанного человеческого достоинства — всем этим восхищаться нелегко» («Достоевский», 183). - «Достоевский, как известно, — великий правдоискатель, гениальный исследователь больной человеческой души» («Достоевский», 184). Далее: - «Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово» («Достоевский», 190). К сожалению, студенты, верящие на слово Набокову, попадали в достаточно неловкую ситуацию, усваивая фактографические ошибки, которыми в силу неясных причин пестрит лекция. Например, заявление о том, что «Бедные люди» были напечатаны в некрасовском «Современнике» (в «некрасовском» - верно, но не «Современнике», а - «Петербургском сборнике»), или о страсти Достоевского к карточной игре (вместо рулетки), причем С.Д.Яновский, равно как и А.Г.Достоевская, свидетельствовали о том, что писатель ни об одной карточной игре понятия не имел и единожды сел за преферанс в доме родственников последней, выиграл несколько рублей, чем был весьма сконфужен. Или о том, что писатель с раннего детства страдал эпилепсией (хотя, по свидетельству того же доктора Яновского болезнь проявилась в 25-летнем возрасте, а сам Достоевский в первом после каторги письме к старшему брату М.М. Достоевскому (30 января - 22 февраля 1854 г.), описывая свои острожные четыре года, впервые упоминает: «От расстройства нервов у меня случилась падучая, но, впрочем, бывает редко» (XVIII, Кн. 1. С. 170-171 ))и т.д., и т.п.