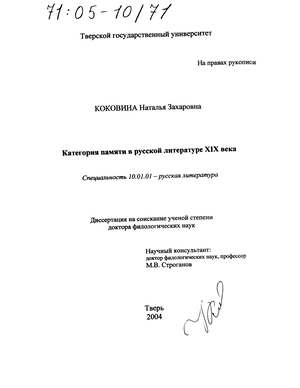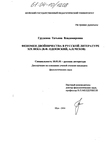Содержание к диссертации
Введение
Часть 1. «Память жанра» и «память мифа» в художественных текстах XIX века .. 21
Глава 1. Категория памяти и жанр воспоминания 26
1. Архаические структуры в жанре воспоминания 26
2. Жанровая природа «Воспоминаний» А.А Фета 51
3. Элементы жанра воспоминания в художественных текстах XIX века. 64
Глава 2. Библейские мифы и символы в поэтике памяти 92
1. Мифологема «блудного сына» в литературе XIX века 100
2. Библейский сюжет о поисках истины в русской культуре второй половины XIX века 115
3. Библейская образность и поэтическое вдохновение 162
Часть 2. Категория памяти в художественной антропологии XIX века 171
Глава 1. Феномен истории в художественном сознании XIX века 174
1. «Дух времени» и «дух народа» 174
2. Поиски жанровой адекватности в освоении исторического материала .. 186
3. Традиционализм частной жизни 200
Глава 2. «Память традиции» в структуре художественной литературы XIX века 206
1. Праздник и повседневность в русской литературе XIX века 207
2. Поэтика патриархальности в произведениях XIX века 237
3. Типология временных отношений в структуре памяти 296
Заключение 326
Литература 332
- Архаические структуры в жанре воспоминания
- Мифологема «блудного сына» в литературе XIX века
- Поиски жанровой адекватности в освоении исторического материала
- Праздник и повседневность в русской литературе XIX века
Введение к работе
Во все времена память является настолько изначальным, естественным кодом восприятия действительности, истории, будущего, что редко осознается анализирующим сознанием. В определённой мере причину неразработанности этого феномена объясняет М.М. Бахтин: «память надындивидуального тела», «память противоречивого бытия» «не может быть выражена односмысленными понятиями и однотонными классическими образами», так как «в термине, даже и неиноязычном, происходит стабилизация значений, ослабление метафорической силы, утрачивается много-смысленность и игра значениями» (Бахтин, 1986: 520). Тем не менее как одна из самых широких и фундаментальных категорий, она может быть воспринята в качестве метакатегории литературоведения, так как генетически художественная литература, как и культура в целом, есть один из способов коллективной памяти, ориентированный на специфическое сохранение, закрепление и воспроизводство навыков индивидуального и группового поведения.
В самом широком смысле память есть общая категория, определяющая то, что остается от прошлого, своеобразная «база данных» прошлого опыта и информации. В то же время она не только «пассивное хранилище константной информации», но и генерирующий, творческий механизм ее сохранения. Очевидно, что это предельно общее определение, требующее уточнения в каждом конкретном исследовании.
В настоящей работе исследуется значение, способы и средства выражения, поэтические функции памяти в художественном сознании XIX в.
Особенность человеческой памяти заключается в том, что это уже не естественно-природная, а социально-культурная память, которая для отдельного человека складывается из знания о своём происхождении, о сво ём детстве, о своём Я. На философском языке это называется самосознанием, которое, в свою очередь, сопрягается с понятием свободы. Но ни самосознания, ни свободы не может быть у человека, лишённого культурно-исторической памяти: знания своей собственной истории, переживания истории как процесса превращения будущего в настоящее, настоящего - в прошлое, культуры, осознающей себя в качестве «рефлектирующей» истории человеческого развития (Давыдов, 1990).
Степень разработанности проблемы. Первые попытки осмысления феномена памяти мы находим еще у Аристотеля в трактате «О памяти и воспоминании» и у Плотина в трактате «Об ощущении и памяти». Но разностороннее и многогранное исследование проблемы было начато лишь в XIX в., прежде всего в психологии и философии. Основные труды о памяти, написанные в XX столетии А. Бергсоном, П. Жане, А. Леонтьевым, Ф. Бартлеттом, П. Блонским, носят отчётливо выраженный философский характер, хотя и закладывают основу литературоведческого подхода к проблеме.
Принято считать, что важный этап в философском осмыслении проблем памяти связан с докладом Эвальда Геринга «Память как всеобщая функция организованной материи», прочитанным им в 1870 г. на сессии Академии наук в Вене. В концепции Геринга память - это не только обобщённое обозначение для определённых биологических и психологических факторов, но и объяснительный принцип. Выработка навыков, воспоминания о прошлых событиях в жизни индивида, стадиальность его развития, рождение нового поколения, передача традиций и преемственность нравов, - всё это находит своё объяснение в едином, универсальном свойстве организованной материи - памяти. Х.-Г. Гадамер пойдёт дальше, настаивая на том, что «сохранение в памяти, забвение и вспоминание заново принадлежат к историческим состояниям человека»: «Пришло время освободить феномен памяти от психологического уравнивания со способностями и понять, что она представляет существенную черту, конечно, исторического бытия человека» (Гадамер, 1988: 57).
Но если изначально память эмоционально-личностна, то в культуре из многовариантности, многообразия модальностей личностей и микрогрупп формируется подвижный, меняющийся, но целостный образ прошлого. Наметившийся еще в XIX в. интерес к коллективным представлениям (Э. Дюркгейм), коллективной психологии (Г. Лебон, Г. Тард) неминуемо должен был соединиться с исследованиями в области памяти. Так был сделан следующий шаг, и память оказалась в центре внимания психологии (3. Фрейд, К.Г. Юнг, В.М. Бехтерев, Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев), социальных наук (М. Хальвбакс, П. Жане, Н.А. Бердяев, Р. Барт, К. Беккер) с точки зрения коллективного, а также связи индивидуального и коллективного. Так, М. Хальбвакс в книге «Социальные границы памяти» много внимания уделяет проблеме групповой дифференциации «коллективной памяти». Исследователь полагает, что человек сохраняет в памяти прошлое как член группы, или, точнее, реконструирует его постоянно заново, исходя из опыта группы, к которой принадлежит. По его мнению, существует «коллективная память» семей, религиозных групп, социальных классов (Yalbwachs, 1969: 421-422). Добавим, что на внеличных аспектах индивидуального сознания, наряду с неосознанным, повседневным, автоматизированным в поведении человека, строится понятие ментальности в современной историографии (в частности, французской). Но трудно согласиться с отрицанием Хальбваксом самой возможности существования индивидуальной памяти, которую бы полностью не определял социальный контекст. Память индивида не является лишь пассивным вместилищем мыслей и воспоминаний других людей, ее можно рассматривать и как творчески работающий и преобразующий механизм. Французский исследователь М. Дюфрен в «Заметках о традиции» видит всё через личность (1а tradition passe ... par Tindividu»): «традиция - это не просто социальный факт, объективированный в общественных институтах и обычаях, которому мы подчиняемся: традиция - это присутствие прошлого в нас самих, делающее нас чувствительными к влиянию этого социального факта» (Dufrenne, 1947: 161).
Таким образом, можно говорить о памяти отдельной личности, межсубъектной коллективной памяти социальных групп и внеличностной памяти культуры.
Социальная память проявляется не как простая составляющая индивидуальных воспоминаний, а как определенный, предельно сложный и противоречивый, интенциональный процесс воссоздания прошлого в актуальном настоящем.
Уже в XIX в. понятие памяти категорией общественного и художественного сознания делает, прежде всего, нравственный аспект. Память, как и забывание, становится ключевым показателем нравственных качеств -личных, семейных, социальных, гражданских. Оно обладает специфическим нравственно-ценностным измерением, осмысление которого представляется актуальным как для философско-этической теории, так и для литературоведения. В этом случае память выступает как рефлексивный процесс созидания события, относящегося к прошлому, но получающего ценностно-смысловую оценку в настоящем. Действительно, воспоминания индивида не являются всего лишь механическим суммированием прошлого, они одновременно обладают свойством эмоционального и интеллектуального толкования прошлого, которое отражает их оценку личностью. Современный философ B.C. Библер сравнивает нравственность («вот эту, сегодня мучающую меня совесть») со стволом допотопного дерева, кольца которого символизируют исторические формы нравственной идеи. «Ствол» нравственности тем мощнее, чем больше в его срезе «годовых колец», тем памятливее наша совесть», - утверждает исследователь, предлагая «замедленно вглядеться в «годовые кольца древесного среза», «духов но опереться на исторически развёрнутую нравственную память» (Библер, 1990: 17). Подобный подход, антропоцентричен по своей сути, так как актуализирует аксиологический аспект, а именно исследование места и роли памяти в духовно-практическом освоении мира личностью. Воспоминание по существу оказывается интерпретацией, каждое изображенное воспоминание - реинтерпретацией. И в том, что память предпочитает трансформировать, а не копировать, проявляется ее сходство с искусством.
Но в искусстве нравственный аспект неотделим от эстетического. Это не раз подчёркивал академик Д.С. Лихачёв. В своей книге он пишет: «Принято делить время на прошлое, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее предугадывается настоящим, соединённым с прошедшим. Память - преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти... Память о прошлом, прежде всего - «светла» (пушкинское выражение), поэтична. Она воспитывает эстетически» (Лихачёв, 1985: 160, 161). М.М. Бахтин также настаивает на том, что память «владеет золотым ключом эстетического завершения личности».
Исследование этических и эстетических аспектов категории памяти и должно стать предметом системного учения о памяти литературы.
Достаточно вспомнить разработку проблем изучения памяти в работе французского философа Анри Бергсона «Материя и память. Очерк взаимосвязи тела и духа», появившейся ещё в 1896 г. Память рассматривается учёным в ряду таких категорий, как длительность, свобода, интуиция. Чтобы понять механизмы работы памяти, а в конечном итоге - природу интуиции или процесс познания, Бергсон исследовал изолированно чистое восприятие и чистое воспоминание, память тела и память духа, память механическую и память-образ. Ориентацией на Бергсона объясняется и тезис феноменологов о том, что в воспоминании мы познаём себя в своей чувствующей одухотворённой телесности. В сложном процессе вспоминания
«память тела, образованная из совокупности сенсомоторных систем, организованных привычкой», лишь средство материализации «подсознательных воспоминаний», так как «для того чтобы воспоминание вновь появилось в сознании, необходимо, чтобы оно спустилось с высот чистой памяти
- к той строго определённой точке, где совершается действие» (Бергсон, 1992: 256).
Для нашего исследования принципиально важным было и понимание связи памяти и мышления в работе П.П. Блонского (Блонский, 2001). Ученый показал, что четыре вида памяти - моторная, аффективная, образная и вербальная - представляют собой четыре последовательные стадии психического развития человека. Методологически значимо мнение Пьера Жане о том, что только с использованием языка возникает настоящая память, ибо лишь тогда появляется возможность описания, то есть превращения отсутствующего в присутствующее. Поэтому истинно человеческая память
- это память-повествование (recit), средство овладения человеком своим собственным внутренним субъективным миром, структурно оформленным в речи. И лишь, когда особо важную роль начинает играть логико- грамматическое оформление коммуникации, происходит вычленение понятия настоящего, а затем будущего и прошедшего. Ориентирование во времени оказывает обратное влияние на память, превращая её в логическую память, опирающуюся на осознание необходимой связи событий. И наконец, поскольку с точки зрения структуры участвующих в этих процессах психологических механизмов память есть «пересказ самому себе», она обусловливает, таким образом, развитие языка (Janet, 1928: 205, 219, 221, 224, 225). Коррелирующую роль памяти в структуре сознания рассматривает С.Л. Франк: «"Память", как известно, есть общее название для совокупности многих разнообразных явлений и черт душевной жизни и сознания» (Франк, 1997: 149). В работе «Душа человека» С.Л. Франка особый раздел посвящен природе и значению памяти, ее феноменологической сущности. Философ приходит к выводу: «Память есть самопознание или самосознание, - знание внутреннего содержания того субъективного мирка, который мы в широком смысле слова называем нашей жизнью». «Строго говоря, этот предметный мирок существует лишь в силу памяти» (Там же: 150) как «сферы, в которой абсолютное всеединство бытия соприкасается с частным потенциальным всеединством нашей духовной жизни» в «сверхвременном единстве нашего сознания» (Там же: 152). У Г.Г. Шпета мы находим понимание «культурного сознания» как «культурной памяти и памяти культуры» (Шлет, 155, 156). Об истории культуры как «истории человеческой памяти, истории развития памяти, ее углубления и совершенствования» не раз говорит Д.С. Лихачев (Лихачев, 1985: 64-65).
Генетически художественная литература, как и культура в целом, есть один из способов коллективной памяти, ориентированный на специфическое сохранение, закрепление и воспроизводство навыков индивидуального и группового поведения. Интересная теоретическая модель отношений между памятью и культурой сформирована в трудах Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского (Лотман, Успенский, 1971: 146-166; Лотман, 1992: 200-202).
Всякая культура, по их мнению, состоит из воспоминаний, закодированных элементов сохраненного прошлого опыта, которые существуют в самых разнообразных формах, начиная от письменных текстов, памятников, произведений искусства и кончая народными обычаями, обрядами и традициями, всем тем, что Лотман и Успенский обобщенно называют «текстами». Соответственно, по словам И.П. Смирнова, память становится семиотическим понятием: «Семантическую память образует информация, извлеченная индивидом не из непосредственно воспринимаемого им мира, но из всякого рода субститутов фактической действительности. Иначе говоря, семантическая память - это хранилище усвоенных нами текстов и сообщений» (Смирнов, 1985: 135). Ю.М. Лотман рассматривает культуру как «ненаследственную память» коллектива в качестве «надиндивидуаль-ного механизма хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых». Любая культурная память, по его мнению, образует контекст. Всякий контекст есть составляющая более широкой системы культурной памяти (социальной, интеллектуальной, религиозной), единого целого, состоящего из взаимозависимых частей, соединенных общей идеей или схемой.
Долгосрочная память культуры определяется принадлежащим ей набором текстов, существующих длительное время, с соответствующими кодами. Вместе они образуют культурное пространство, «пространство некоторой общей памяти». Сохраняющиеся веками тексты содержат определенные смысловые инварианты, которые могут быть актуализированы и возрождены в контексте новой эпохи. Под смысловым инвариантом Лотман подразумевает нечто, во всех своих различных интерпретациях сохраняющее «идентичность самому себе». Любой инвариант уже по определению является частью культурной памяти. Поэтому, по мнению И.П. Смирнова, «дальнейшее развитие интертекстуальной теории должно будет сомкнуться с теорией памяти» (Там же). Представление о том, что инвариант порождает варианты, будет принципиальной для данного исследования, так как для литературы XIX в. в высшей степени характерен широкий регистр вариаций инвариантных мотивов от подражаний до ниспровержений.
В зависимости от типа сохраненной информации тексты распадаются на две категории. Первые, согласно терминологии Лотмана, являются текстами «информативной памяти». Они сохраняют фактическую, научную и технологическую информацию. Информативная память «имеет плоскостной ... характер», поскольку она «подчинена закону хронологии.
Она развивается в том же направлении, что и течение времени, и согласо вана с этим течением». Вторая категория включает тексты «креативной (творческой) памяти», которую Лотман называет «памятью искусства». Для творческой памяти «вся толща текстов» оказывается «потенциально активной».
На преобразующую роль памяти указывает П.А. Флоренский, для которого «память есть деятельность мыслительного усвоения, т.е. творческое воссоздание из представлений, - того, что открывается мистическим опытом в Вечности» (Флоренский, 1914: 201). Когда мы говорим о художественном творчестве, нас заботит не столько накопление информации о реальности, сколько трансформирование этой реальности воображением человека в потенциально творческом союзе с культурной памятью. Поэтому чрезвычайно важной для понимания природы художественного творчества является связь памяти и воображения, подмеченная уже Аристотелем и Плотином. Объектом памяти для них являются образы, представления. Воображение, владея образом уже исчезнувшего ощущения «помнит». Осознание связи памяти и воображения присутствует уже в первом произведении Л.Н. Толстого «Детство»: «Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слёзы воображения» (I: 8). По существу механизм взаимодействия памяти и воображения наметил А.Н. Веселовский, выделяя «поэтические формулы» как «существенные для общения элементы»: «это нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в другом менее, по мере нашего развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации» (Веселовский, 1913: 475).
И. Кант в своей «Антропологии» описывает связь памяти с рассудком, с воображением, излагает деление памяти на «механическую», «символическую», и «систематическую» (Кант, 1900: 57-60). Деление памяти на «естественную» и «художественную» мы находим и в риторике Стефана Яворского «Риторическая рука», переведенном с латинского в начале 1710-х гг., но, к сожалению, понятие «художественной памяти» осталось за пределами национального теоретико-литературного сознания XVIII в.
В русской культурной традиции интерес к проблемам памяти активизируется с конца XIX в. О творческой силе памяти не раз говорит И.А. Бунин, противопоставляя его «будничному смыслу» понятия: «...живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всём нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми «консерваторами», т.е. хранителями, приверженцами прошлого» (Бунин, 1997: 195), обладая «особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью» (V: 302). Поэтому знаменательны и слова, которыми начинает Бунин «Жизнь Ар-сеньева»: «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленные...» (VI: 7). По мнению О.А. Астащенко, эта цитата, заимствованная в несколько видоизменённом виде из рукописной книги поморского проповедника XVIII в. Ивана Филиппова «История краткая в ответах сих», задаёт тон всему повествованию, являясь своеобразным эпиграфом к роману (Астащенко, 1998: 12). Не случаен и образ «зеркала памяти» как адекватного отображения былого. Хотя у художника она не зеркальна, избирательна и носит творческий характер. По мнению позднего Бунина, художническая память способна возвысить человека над хаосом проходящей жизни.
Вяч. Иванов также истолковывает Память как собирательную силу бытия, не дающую миру рассыпаться в хаотическое небытие, называемое исследователем «забвением». Он различает Память Предвечную, Память вечную и просто память. Смысл этого разнообразия заключается в постулировании энергийного воздействия Памяти Предвечной на Память вечную и через неё - на человеческую память.
М.М. Бахтин в поздних записках, размышляя над «моделью мира, лежащей в основе каждого художественного образа», также обращается к «большому опыту человечества», в котором «память, не имеющая границ, память, опускающаяся и уходящая в дочеловеческие глубины материи и неорганической жизни миров и атомов», сохраняется в «системе тысячелетиями слагавшихся фольклорных символов», обеспечивающих «интеллектуальный уют обжитого тысячелетнею мыслью мира» (в отличие от «символов» официальной культуры» с их «малым опытом», прагматичным и утилитарным). И история отдельного человека начинается для этой памяти задолго до пробуждения его сознания (его сознательного «я»)». «Эта большая память не есть память о прошлом (в отвлечённо-временном смысле); время относительно в ней. То, что возвращается вечно и в то же время невозвратно. Время здесь не линия, а сложная форма тела вращения». Отвечая на вопрос, «в каких формах и сферах культуры воплощён «большой опыт, большая, не ограниченная практикой память», Бахтин выделяет: «Трагедии, Шекспир - в плане официальной культуры - корнями своими уходит во внеофициальные символы большого народного опыта. Язык, непубликуемые схемы речевой жизни, символы смеховой культуры. Не переработанная и не рационализованная официальным сознанием основа мира» (Бахтин, 1986: 518-520).
Современные литературоведческие исследования по проблемам памяти, а их становится всё больше (Мальцев, 1994; Рягузова, 1998; Томпсон, 1999; Евдокимова, 1999; Федотова, 2000), и опираются прежде всего на теоретические выкладки М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана. Всесторонний анализ и диалогичность в понимании феномена памяти могут быть достигнуты только усилиями многих исследователей прошлого, настоящего и будущего. Поэтому накопленные знания, осознание необходимости их научной интерпретации, философского и литературоведческого осмысления памяти убеждают автора данной работы в необходимости дальнейшей разработки проблемы. Отсутствие исследований, в комплексе охватывающих эмпирический материал работы и её теоретическую основу, обусловили актуальность темы диссертации.
Понимание памяти как важнейшей формы национального самосознания, определяющей универсалии отечественной культуры, формирует теоретические подходы и критериальные основания анализа художественного текста, позволяет рассматривать культурное наследие как сложную субъективно-объективную структуру, оперирующую глобальными философскими понятиями «традиции», «времени», «вечности», «ценности», «символа», «культуры».
Память представляется одной из высших мыслительных абстракций, конституируемой как целостность, в которой выделяется ряд онтологических слоев и которая благодаря этому функционирует одновременно и как носитель идеального смысла, и как набор чувственно воспринимаемых признаков. В искусстве историко-культурная память материализуется через комплекс архетипических ценностей, идей, установок, ожиданий, стереотипов, мифов и т.д., осуществляющих связи прошлого с настоящим. Условно объединены они могут быть в три большие группы понятиями история, традиция, миф как формами выявления Вечного. В каждой из форм временное не отрицается, а выявляется своей особой гранью, связанной с вневременным. Здесь реализуются как объективно-духовные аспекты памяти (память предстаёт как форма общественного сознания, как «опыт отношений»), так и её субъективно-духовные, персоналистские аспекты.
Концепция позволяет объединить самые разные пласты русской литературы, начиная с интереса к истории в XIX в. и кончая такими понятиями, как патриархальность, традиция, национальное самосознание, кото рые и строятся на осмыслении коренных, постоянных, то есть из поколения в поколение, из века в век повторяющихся чертах и формах жизни. Кроме того, представляется возможность анализа библейской тематики, мотивов, реминисценций в свете философских, моральных, эстетических категорий. В XIX в. указанные категории практически не стали объектом литературоведческого анализа, но явились неотъемлемой частью размышлений в художественном тексте о национальном характере, об общественном, этическом и эстетическом идеале, о прошлом и будущем России. Это предопределило следующие цели исследования:
- на основе анализа произведений русской литературы XIX в. дать всестороннее осмысление категории памяти художественным сознанием этого времени, рассмотреть память не только как тему или предмет произведения, но как принцип художественного построения, показать место и роль памяти в структуре текста;
- выявить когнитивное содержание мнемонических образов, символов, форм, специфики и единства в ней конкретно-чувственных, иррациональных и абстрактно-логических элементов познания;
- на основе анализа архаического сознания подойти к пониманию специфики антропологической составляющей культурно-исторического процесса XIX в.; очевидна необходимость рассмотрения категории времени, сопоставления сиюминутного, временного и вечного. Тем более, что время и как субъективное ощущение и как объективная характеристика бытия личности существенным образом связано с нравственно-ценностным содержанием ее жизни. Существование временных пластов - объективная реальность, но, по мнению Н.О. Лосского, «мир не может состоять только... из того бытия, которое, имея временную форму, ежемгновенно отпадает в прошлое и заменяется новым бытием, имеющим ту же участь». Рассуждение философа антропоцентрично в своей основе, так как «идеальное бы тие, не имеющее временной формы» мыслится им как «наше я» (Лосский, 1994: 296). Но таким «сверхвременным существом» «наше я» делает память, в которой возможно одномоментное присутствие прошлого, настоящего и в какой-то мере будущего.
Конкретные задачи исследования!
- выявить онтологические основания понятия память и формы его бытования в художественном тексте;
- исследовать антропологические основания памяти как архетипи-ческой формы выражения личного и коллективного опыта;
- рассмотреть обусловленность литературоведческой интерпретации памяти социокультурными аксиологическими факторами эпохи;
- определить место этой категории в художественной картине мира XIX в.
Выполнение поставленных задач возможно не только на основе методов традиционного литературоведения, но и с помощью феноменологического, герменевтического, психоаналитического подходов к пониманию сущности памяти и человеческого познания в целом. В частности, феноменологический анализ категории память предполагает реализацию следующих методологических принципов:
- анализ послойной структуры феномена памяти и ее воплощения в художественном тексте XIX в.;
- онтологическое исследование этого объекта познания;
- выявление причинно-следственных связей феномена с историко-литературной ситуацией XIX в.
Системно-структурный подход к осмыслению памяти позволит рассмотреть этот феномен в единстве и взаимосязи художественных, онтологических, антропологических и аксиологических элементов, сторон и аспектов. Многогранность проблемы потребовала совмещения генетического и эволюционного принципов изучения литературного ряда, привлечения понятий и терминов, характерных уже для современного литературоведения (хронотоп, архетип, мифологема и др.). В то же время попытаемся органично ввести их в исследуемый литературный процесс, придерживаясь свойственных ему иерархии ценностей и духовных установок. Например, литература XIX в. не знает слова хронотоп, но уже объединяет в своих рассуждениях понятия пространства и времени. Вспомним размышления толстовского Левина: «...В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот - я» (XIX: 370). Г.С. Батеньков, пожалуй, впервые в XIX в. употребляет понятие пространство в «очищенном», терминологическом обозначении модели и состава «непространственных» явлений (Батеньков, 1916: 45). Выделяя пространство мысли, веры, любви, памяти, он впервые заговорит и о «чувстве пространства» (Батеньков, 1881: 253). Несомненно, понятие историко-культурная память изначально обладает пространственно-временными характеристиками, и для нас это будет своего рода инструментом постижения всей его сложности.
В 1820-1830-е гг. с особой остротой обозначился целый круг проблем, в котором слились воедино вопросы философии истории, её методологии, вопросы осмысления истории России, размышления об особенностях литературного процесса, этических и эстетических критериях оценки событий современности и далекого прошлого. Поэтому закономерно, что это время стало точкой отсчёта в нашем исследовании.
Особое внимание уделяется середине XIX в., так как бытование традиций становится проблематичным во времена культурных переломов, разлома культурных парадигм и переустройства канона, когда маргинальные элементы начинают вторгаться в отлаженный литературный процесс, осмысливаясь по прошествии времени как новация.
С другой стороны, не представлялось возможным при декларации непрерывности и преемственности традиции строго отграничить выбор писателей и произведений временными рамками столетия. В определённой мере именно русская, в большей степени эмигрантская, литература начала XX в. завершала классическую традицию. Такая широкая временная парадигма позволила включить в поле исследования большой круг авторов. Поэтому материалом исследования стало творчество Н.А. Львова, Н.А. Полевого, В.И. Даля, А.И. Герцена, А.А. Фета, И.А. Гончарова, СВ. Эн-гельгардт, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Б.К. Зайцева и др. писателей.
Научная новизна диссертации. Впервые в таком объеме исследуется значение, способы и средства выражения, поэтические функции памяти в художественном сознании XIX в. Категория памяти положена в основу системного анализа художественного произведения. Предпринятая в работе литературоведческая интерпретация памяти, ее места в структуре художественного текста середины XIX в. позволили вскрыть новые аспекты проблемы, уточнить такие исходные для анализа этой категории понятия, как традиция, патриархальность, воспоминание, время и вечность, мифотворчество.
Практическая ценность работы определяется актуальностью разработки современных подходов к пониманию духовной ситуации времени и литературного процесса. Полученные результаты исследования могут быть широко использованы в постановке и анализе основных проблем курса истории литературы и ряде спецкурсов, исследующих философские, культурологические и литературоведческие аспекты теории памяти.
Апробация результатов исследования. Основные идеи и результаты исследования изложены автором в монографиях «Этико-аксиологические аспекты памяти в образной структуре художественного произведения» (Курск, 2001. - 11,75 п.л.), «Категория памяти в художественной литерату ре XIX века» (Курск, 2003. - 14 п.л.), а также в ряде статей, выступлений на региональных, российских, международных конференциях: Тула, 2000; Псков, 2000; Курск-Рыльск, 2000; Курск-Орел, 2000; Курск, 2000, 2001, 2002; Липецк, 2001; Москва, 2001, 2002, 2003; Тверь, 2000, 2001, 2002, 2003; Санкт-Петербург, 2002; Воронеж, 2002, 2003; Воронеж-Курск, 2003; Калуга, 2003.
Материалы исследования легли в основу интерактивного спецкурса «Этико-аксиологические аспекты категории памяти в русской литературе и культуре XIX века».
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух частей, каждая из которых содержит две главы, заключения и библиографии (списка основной использованной литературы).
Объем диссертации 345 страниц машинописного текста, из них 14 страниц библиографии, содержащей 228 наименований.
Архаические структуры в жанре воспоминания
Аристотель в специальном трактате «О памяти и воспоминании» указывает на различие памяти и воспоминания как общей способности души и конкретного проявления этой способности. Жанр воспоминания, каким он оформился в XIX веке, генетически связан прежде всего с жизнеописанием, воспроизводя композиционную схему жанра-«прототипа» и принцип его пространственно-временной организации. В.Г. Белинский, относя «memoires» («или записки») «к числу самых необыкновенных и интересных явлений в умственном мире» и называя их «истинными летописями нашего времени», находил в них «соединение искусства с жизнью» при посредничестве «истории» (I: 159, 160, 267).
Жанр воспоминания предполагает отчуждение материала воспоминания от вспоминающего Я, репрезентацию его функции автору-рассказчику. В.Н. Топоров следующим образом представляет этот процесс, сравнивая два типа воспоминаний: «некое живое, субъективное, индивидуальное движение восходяще-усиливающего типа, определяемое особенностями психоментальной структуры самого «воспоминателя» и воспоминание как уже отчужденный от «воспоминателя» текст. На пути превращения первого во второе непрерывное превращается «в дискретное, хаотическое - в космизированное, многообразное и многоразовое - в единое и разовое (или, по меньшей мере, в типовое), внутренне противоречивое - в логизи-рованно-дискурсивное, незавершенное в конечное и завершенное, т.е. в знаково зафиксированное и неким авторитетом верифицированное явление, одним словом, «природное» - в текст культуры» (Топоров, 1994: 333).
Используя терминологию Бахтина, можно сказать, что тот, о ком мы читаем, не обладает избытком художественного видения, необходимым для того, чтобы написать о себе, но таким избытком располагает тот, кто ведет повествование о своем прошлом из другой точки времени и пространства, и этот избыток является критерием, который позволяет разделить их.
С конца XVIII в. в литературе активно формируется личностное начало, выразившееся и в развитии автобиографических жанров. М.М. Бахтин отмечает, что изначально ««память» в автобиографиях имеет особый характер; это память о своей современности и о себе самом. Это негерои зующая память; в ней есть момент механичности и записи (не монументальной). Это личная память без преемственности, ограниченная пределами личной жизни (нет отцов и поколений)» (Бахтин, 1986: 412). Исследователь отказывается видеть в воспоминании «формирующую и завершающую активность», так как «эстетический подход к живому человеку как бы упреждает его смерть, предопределяет будущее и делает его как бы ненужным». Впрочем, это не отрицает эстетической значимости жанра воспоминания, а лишь предполагает отчуждение материала воспоминания от вспоминающего Я, репрезентацию его функции автору-рассказчику. Исследователь указывает, что «память о другом и его жизни в корне отлична от созерцания и воспоминания своей собственной жизни: память видит жизнь и её содержание формально иначе, и только она эстетически продуктивна». Бахтин настаивает, что только когда речь идёт о «законченной жизни другого», «целое его жизни» освобождено от «моментов временного будущего, целей и долженствования». «Дело здесь не в наличности всего материала жизни (всех фактов биографии), но прежде всего в наличии такого ценностного подхода, который может эстетически оформить данный материал (событийность, сюжетность данной личности)», подразумевающих дискурсивно-текстовую оформленность. Именно «из эмоционально-волевой установки поминовения отошедшего ... рождаются эстетические категории оформления внутреннего человека» (Бахтин, 1986: 101). Свое обращение к воспоминаниям Т.П. Пассек воспринимает как процесс объективации «духовных видений»: «они не сны, они жизнь, - моя жизнь, я облеку их в живое слово, и помимо себя они останутся со мною» (Пассек, 1963:1, 76).
Экспрессивно-личностное воздействие воспоминания усиливается формой исповедщ делающей акцент на сокровенных мыслях и взглядах автора. Глубинная связь с религиозным ритуалом (церковное покаяние) придает этой форме нравственный смысл покаяния или признания.
Наличие исповедального слова отличает автобиографию от биографии. М.М. Бахтин отмечает целесообразность и обязательность присутствия исповедальных интенций в автобиографии и выделяет самоотчёт-исповедь как «первую существенную форму словесной объективации жизни и личности», возникающую «там, где является попытка зафиксировать себя самого в покаянных тонах в свете нравственного долженствования». Эстетическую основу в этом материале исследователь исключает, так как самоотчёт-исповедь «не знает этого задания — построить биографически ценное целое прожитой (в потенции) жизни. Форма отношения к себе самому делает все эти ценностные моменты невозможными». Постепенно исповедь переросла свой первоначальный смысл - искреннего покаяния в грехах перед лицом Творца с целью самосовершенствования и духовного просветления, и закрепилось за системой межличностных отношений. Элементы эстетизации возникают при восприятии исповеди другим. Но и здесь прежде всего активизируются два момента задания для читающего: «молитва за него о прощении и отпущении грехов», так как «кроме эстетической памяти и памяти истории есть ещё вечная память, провозглашаемая церковью, не завершающая (в феноменальном плане) личность память, просительное церковное поминовение», и назидание «в целях собственного духовного роста, обогащения духовным опытом».
Мифологема «блудного сына» в литературе XIX века
Знаменательно, что в «Станционном смотрителе» притча названа «историей блудного сына», что ставит её в один ряд со всеми прочими «историями» книги. Но именно эта «история» поднимет бытовое повествование к внеисторическому и вненациональному бытию.
Поэт выбирает наиболее лаконичный, предельно естественный способ введения библейского сюжета. Картинки - весьма прозрачный, но не-проявленный намёк на высший смысл, по своей функции и роли соотносимый с эпиграфом. Е.Н. Купреянова, а затем Н.Н. Петрунина обращают внимание на сходный прием в хронике Шекспира «Генрих IV», где также функционируют картинки на сюжет о блудном сыне (Купреянова, 1981: 289; Петрунина 1987: 114-116). Сходную роль образа-знака выполняет гравюра К.К. Штейбена «Голгофа» в картине Репина «Не ждали», как бы воссоздавая предшествующий эпизод в судьбе «воскресшего из мертвых» ссыльного. Кстати, и сюжет этой картины сопоставлялся исследователями с притчей о блудном сыне (Недошивин, 1948).
Архетип блудного сына для христианского сознания изначален и оп-ределяющ. Им задан ритм не только отдельной частной жизни, но и литературно-художественной (и шире - культурной) модели мира со своим хронотопом. Предельно упрощённая схема: дом - путь - дом в конкретной текстовой ситуации обретает свой неповторимый, лишь в изначальной глубине связанный с основой смысл. Родной дом выступает как обрамляющий локус формулы путешествия. Ю.М. Лотман не раз подчёркивает: «Одним из главных пространственных символов позднего Пушкина является Дом» (Лотман, 1988: 142). И.З. Сурат, соглашаясь, уточняет: «Однако анализ символа дома возможен лишь в составе поэтической оппозиции «дом - путь», и лишь взаимное соотношение двух этих равно важных для Пушкина символов определяет значение каждого из них в тот или иной пушкинский период» (Сурат, 1990: 107).
Такие традиционные пространственные ориентиры, как «дом», «порог», наполняясь бытийственной символикой уклада, обретают и временные параметры: в редуцированном виде пространственно-временные образы, например, «идиллическое время» в отчем доме, «авантюрное время» испытаний на чужбине, «мистерийное время» схождения в преисподнюю бедствий являются объектом осмысления в поле бытования архетипа.
В русской культуре повышенный интерес к теме блудного сына обострялся в эпохи, когда кризис патриархального уклада порождал проблему «отцов и детей». Например, в XVII в., когда появляются «Повесть о Савве Грудцине», «Повесть о Горе-Злосчастии», «Комидия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. И литература конца XVIII - начала XIX в. буквально пронизана отсылками - прямыми и опосредованными - к сюжету этой притчи, но со временем формы актуализации сакрального смысла притчи всё усложняются.
В «Станционном смотрителе» Пушкин утверждает детерминированность человеческого бытия вечным нравственным законом. Притча о блудном сыне в который раз корректируется частной судьбой Самсона Вырина и его дочери.
После М.О. Гершензона, первым обратившего внимание на особое значение картинок, стала общепризнанной мысль о ключевом положении притчи в проблеме повести. Более того, современные исследователи считают, что мифопоэтический подтекст притчи «составляет... конструктивную и смысловую доминанту всех «Повестей Белкина» как художественного целого» (Тюпа 1983: 77), что архетип блудного сына приобретает совершенно особое значение во всей русской литературе XIX в.
По мнению М.О. Гершензона, автор в «Станционном смотрителе» противопоставляет опошленной людьми через картинки евангелической притче живую правду жизни, так как Дуня, вопреки предсказаниям картинок, нашла своё счастье.
С точки зрения Н.Я. Берковского, Пушкин спорит и с «немецким вариантом» притчи «в картинках», и с самой евангелической историей блудного сына: «Пушкин восстанавливает индивидуальную историю и так ставит непререкаемость притчи под сомнение... Блудный сын возвращается в карете - развязка, не дозволенная притчей... Но блеск у блудного сына -призрачный, новый блудный сын по-новому несчастен», а Дуня на могиле отца плачет «и о самой себе... она плачет о лживости, о жестокости и невеличии этой мнимо большой жизни» (Берковский, 1962: 334, 338, 339).
Н.Н. Петрунина, признавая, что «Дуня в беспредельно усложнённом виде повторяет историю блудного сына», говорит об интерпретации Пушкиным и рассказчиком евангельской притчи: «...рассказчик не обвиняет: он размышляет, сочувствует и сострадает его героям, ведёт за собой читателя в самую сердцевину трагических событий. А случившееся со смотрителем - именно трагедия, в котором сталкиваются «равновеликие силы»...» (Петрунина, 1986: 93).
Одну из возможных граней в многозначительном смысле «картинок» выделяет А.К. Жолковский: «Возложив ответственность за смерть своего маленького человека на исповедуемые им штампы (представленные картинками из истории блудного сына и карамзинским подтекстом), Пушкин дал образец деромантизирующего повествования» (Жолковский, 1994: 278). Впрочем, оказывается, повесть можно прочесть и как «пародию на евангельскую притчу о блудном сыне» (Перемышлев, 1996: 41).
Этот далеко не полный перечень толкования смыслов притчи, её роли в повести демонстрирует огромные возможности бытования евангельской темы в художественном тексте. Впрочем, каждый из исследователей неизбежно привносит в интерпретацию повести своё понимание характера героев, мотивации их поступков.
Особенно много разночтений вызывает финал повести: отец умер, дочь богата и счастлива, тем самым, кажется, опровергнут финал притчи. В. Влащенко, отталкиваясь от финальной удовлетворённости рассказчика («я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях мною потраченных»), выстраивает полное оправдание Дуни и обвинение во всех несчастьях отца. Для исследователя изначально самым важным оказывается вопрос «кто виноват?» Но столь ли важен этот вопрос для Пушкина и рассказчика? Апелляция к библейской притче уже, на наш взгляд, и право оценки оставляет за высшим Судией. Хотелось бы скорее согласиться с Б.А. Майминым: «В повести Пушкина и смотритель хорош, и Дуня хороша, и не плох гусар - но это не мешает быть беде и горю. Повесть по своему характеру не обличительная, а эпическая» (Маймин, 1981: 144).
Поиски жанровой адекватности в освоении исторического материала
В 1830-е гг. интерес к истории, с одной стороны, вызывает повышенное внимание к философии истории, а с другой стороны, содержание философии истории необъятно расширяется, затрагивая вопросы истории, морали, психологии, особенно погружаясь в частную жизнь. Необходимость вписать личность в среду обитания готовит почву для постижения всей сути, бытийности быта с вниманием к его истокам, эстетизацией обыденности.
Личность всё явственнее ощущает вторжение истории в повседневность, пересечение и взаимодействие мира большой и мира частной жизни, что дотоле представлялось разделённым непереходимой чертой. Об этом новом чувственном, личностном восприятии истории говорит А.А. Бесту-жев-Марлинский: «Теперь история не в одном деле, но в памяти, в уме, на сердце у народов». Понимание этого позволяет вписать в контекст истории и произведения, казалось бы, далёкие от исторической тематики.
Примером глубинных связей большой истории и частной, серьезности и пародии может служить рассказанная Пушкиным предыстория «Графа Нулина», когда новелла с анекдотическим сюжетом из современной русской жизни включается в систему определённых культурно-исторических и литературных ассоциаций. Человеческий микрокосм и исторический макрокосм обнаруживают своё единство. Хотя в окончательной редакции пародийный смысл поэмы был скрыт изменением названия (первоначально поэма и была названа «Новый Тарквиний»).
Подражание, утрировано повторяющее особенности оригинала, насмешливо-критическое отношение к источнику при внешнем его почитании и даже восхищении его качествами мы находим и в «Истории села Го-рюхина». Помогает такому решению нарочитое несоответствие между темой произведения и её языковым воплощением: «низкий» сюжет излагается «высоким» слогом с привлечением образов и сравнений из области мифологии и античной поэзии.
Выбирается и соответствующий повествователь - Иван Петрович Белкин. Если в «Борисе Годунове» летописец Пимен ощущает себя связующим звеном между прошлым и настоящим: «Передаю я внукам православных Правдивую времён минувших повесть» (из вариантов монолога), то Иван Петрович, может быть, и неосознанно в силу своей наивности обращается к историческому жанру из моды. Оказывается к этому времени уже выработался определённый стереотип исторического мышления, при которым высшим родом литературы становится «эпическая поэма» с Рюриком в роли главного героя. Со стороны простодушного Белкина, это единственная возможность приобщиться к истории, но со стороны Пушкина, это скорее мистификация, когда история - маскарадный костюм, который велик рассказчику, но зато скрывает своей мешковатостью убогость реальной жизни-истории. Точнее, ирония снимает оголённое раздражение, мешающее художественному осмыслению явления. Ведь «История села Горюхина» - произведение, при всей пародийности насыщенное чрезвычайно глубоким и сложным подтекстом и полное не столько весёлого озорства и лукавства, сколько горестных раздумий и душевной боли. Это своеобразный ответ Пушкина на споры и дискуссии, разгоревшиеся на рубеже 1820-х и 1830-х гг., на собственные сомнения и раздумья, за которыми стоял сложный клубок противоречий русской жизни, трагический опыт истории, в том числе, и опыт декабрьской катастрофы. «История села Ґо-рюхина» - это раздумье Пушкина над реальной русской историей, которая мало походила на красивые легенды о величавой славянской древности, мудрых новгородских посадниках, храбром Вадиме, героическом вече. «Поверить» романтические концепции исторического прошлого реальной беспощадно-правдивой картиной современности - такова одна из задач пушкинской «Истории села Горюхина». Реальная горюхинская действительность, горестная и убогая, ещё рельефнее предстаёт через призму «вечевой» темы, отзвуки и мотивы которой не случайно настойчиво прослеживаются в повествовании: «Горюхино ...управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемой» (VIII: 138). «Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевой площадию. Глаза их были мутны и красны, лица опухли, они, зевая и почёсываясь, смотрели на человека в картузе...» (VIII: 139). Всё здесь примечательно: «граждане» на современном реальном «вече» - это зевающие и почёсывающиеся «горюхинцы» на дворе «приказной избы».
Ирония присутствует и в эпиграфе к повестям Белкина, взятом из «Недоросля». Комизм сцены «Недоросля», к которой восходит эпиграф, основан на столкновении разных значений слова «история» в сознании Милона и Старо дума, с одной стороны, Простаковой и Скотинина - с другой. Повествователь отдаёт дань обеим «историям», да и Пушкин не склонен решительно отделять одну от другой. Пимен и Иван Петрович Белкин - два ритора русской истории. А за ними уже провидится Пётр Андреевич Гринёв, в простосердечной мудрости уравнявший эти две истории.
Праздник и повседневность в русской литературе XIX века
Можно рассмотреть механизмы актуализации традиции в феномене праздника, который, согласно Бахтину, являясь «первичной формой» человеческой культуры», организует принципиально иную реальность. Празднества и обряды часто сопряжены с игрой («игрище», «играть свадьбу»). В круг понятий, очерченный словом игра, включается и область потустороннего. Слово игрец означает не только актер, шут, лицедей, потешник на показ, скоморох , но также и нечистый злой дух, шайтан, домовой . Традиционные празднества, обряды, игрища, с одной стороны, в рамках христианской культуры считались нечистым, бесовским делом, а с другой стороны, действительно находились по ту сторону от будней и проходили по своим законам, как правило, с участием потусторонних персонажей (например, святочных ряженых).
Повторяемость игры видна не только в ее внутреннем порядке, но и в закономерностях ее «внешнего» бытования. Й. Хёйзинга пишет: «Игра сразу фиксируется как культурная форма. Будучи однажды сыгранной, она остается в памяти как некое духовное творение или ценность, передается далее как традиция и может быть повторена в любое время» (Хёйзинга Й. 1992: 20). К этому можно добавить, что многие культурно значимые игры (например, святочные игры и представления) повторяются с особой периоличностью и приурочиваются к определенным праздникам и в связи с этим имеют смысл магических действий, определяющих миропорядок. Пространство игры сохраняет и воспроизводит архаичные навыки и ценности, утратившие с ходом времени свой первоначальный практический смысл. Это объясняет тот факт, что в русской литературе XIX в. особое место занимают нравственные интенции обрядовой культуры.
Круг явлений, за которыми в литературе и в быту установилось наименование игровых, достаточно велик и разнороден. Манипулирование идеями и образами мировой культуры, нередко называемое игрой в постмодернизме, не характерно для русской литературы XIX в., но писатели так или иначе касались в своем творчестве вопроса об игровых началах действительности и игровой составляющей человеческого поведения. Пожалуй, особенное внимание уделялось процессу контаминации (смешения) игры и реальной действительности в человеческом сознании. В русской литературе также существует масса героев, осмысляющих себя сквозь призму литературных образов, что включает их в особый, основанный на социокультурной самокодировке тип игры.
В празднике наличествуют и свободная игровая стихия, и правила, принятые в качестве условия игры и возникающие по ее ходу. В целом же он регулируется жестко структурированными ритуальными практиками. Ритуал представляет формализованное поведение или действие, имеющее определенный, закрепленный традицией инвариант, обладающий прежде всего символическим значением. В то же время если в традиции понятие памяти в той или иной степени сакрализовано, то ритуал в памяти как отдельном смысловом механизме не нуждается, осуществляя «вспоминание» всякий раз заново, при совмещении тех или иных обусловливающих необходимость ритуальной ситуации факторов (сезонных, пространственных и т.д.) с соответствующими, имманентными этой ситуации в пределах данной культуры формами поведения. В ритуале вещественно-ситуативный «вызов» диктует необходимость «вспомнить» ту или иную латентную модель поведения и актуализировать ее, интериоризировав и «забыв» при этом модель доселе действовавшую (то есть, как и в игре, «умереть» в одном качестве и «воскреснуть» в другом). Но это не говорит об отсутствии памяти в ритуале вообще. По аналогии можно вспомнить исследование А. Бергсоном механизмов работы памяти, когда в сложном процессе вспоминания «память тела, образованная из совокупности сенсомоторных систем, организованных привычкой», лишь средство материализации «подсознательных воспоминаний». В культуре, ориентированной преимущественно на ритуал, отсутствовала однородная семиотическая система, специально предназначенная для фиксации, хранения и переработки информации. О такой системе можно говорить лишь с широким распространением письменности. Природному и культурному окружению человека (элементам ландшафта, утвари, частям жилища, пище, одежде и т. п.) придавался знаковый характер. Все эти семиотические средства вкупе с языковыми текстами, мифами, терминами родства, музыкой и другими явлениями культуры обладали единым и общим полем значений, в качестве которого выступала целостная картина мира. С учетом процесса «стирания» смысла общество выделяло ядерные фрагменты памяти и осуществляло особый контроль над их сохранностью с помощью ритуала.
В ритуале память от прошлого удержала только разумно координированные движения, представляющие собой накопленные усилия; она обретает эти прошлые усилия не в отражающих их образах-воспоминаниях, а в том строгом порядке и систематическом характере, которыми отличаются движения, выполняемые нами в настоящее время. Память уже не дает нам представления о нашем прошлом, она его разыгрывает; и если она все-таки заслуживает наименования памяти, то уже не потому, что сохраняет образы прошлого, а потому что продолжает их полезное действие вплоть до настоящего момента. Из этих двух памятей, из которых одна воображает, а другая повторяет, последняя может замещать собой первую и зачастую даже создавать ее иллюзию. Таким образом, в ритуале память есть скорее привычка, освященная памятью, чем сама память.
Собственно, действие традиции предполагает именно такую схему, как в случае с ритуалом. Коллектив постоянно транслирует образцы, стереотипы, т.е. ориентирован на повторные сообщения. Течение времени влечет за собою рассеяние информации, забывание, размывание структур, дезорганизацию. Повторные сообщения возвращают забытое: не принося нового знания, они хранят уже имеющееся, восстанавливают и непрерывно «достраивают» разрушения, наносимые временем сложившимся структурам мысли, поведения, организации, санкционируют обновление в качестве основной идеи и основной операции по сохранению своего универсума. Такое объяснение согласуется и с одной из основных функций ритуала -проверкой неизменности парадигмы смыслов, модели мира (Байбурин, 1993: 15). В этом смысле ритуал выступает в качестве главного механизма памяти в дописьменной культуре. Достаточно сказать, что еще в прошлом веке ритуальный тип организации памяти и ритуальная стратегия поведения во многом определяли жизнь человека у восточных славян.