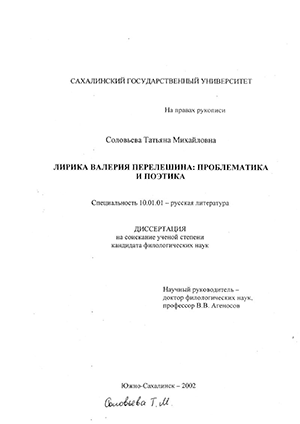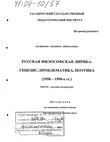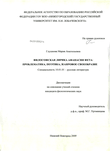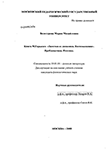Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Идейно-тематическое своеобразие поэзии В. Перелешина 20
Глава II. Поэтика В. Перелешина-стихотворца
1.1. Тропика и стилистика поэзии В. Перелешина 81
1.2. Жанровое своеобразие лирики В. Перелешина 92
1.3. Метрический и строфический репертуар поэзии В. Перелешина 120
1.4. Фоника и просодия лирики В. Перелешина 132
Заключение 140
Библиография 150
Приложение. Публикации стихотворений В. Перелешина в периодических изданиях русского зарубежья 162
- Тропика и стилистика поэзии В. Перелешина
- Жанровое своеобразие лирики В. Перелешина
- Метрический и строфический репертуар поэзии В. Перелешина
- Фоника и просодия лирики В. Перелешина
Введение к работе
Валерий Францевич Перелешин (Салатко-Петрище) - одна из крупнейших фигур в литературе русской диаспоры Китая первой волны эмиграции - поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Большинство исследователей отводят ему второе (после Арсения Несмелова) место, подборка стихотворений поэта в вышедшей недавно антологии "Русская поэзия Китая" (см. Русская поэзия Китая 2001) - самая представительная (34 стихотворения). Однако значение творчества Перелешина в контексте литературы русского рассеяния далеко не исчерпывается «китайским периодом» его творчества. Он прожил большую и насыщенную жизнь, вторая, не менее плодотворная половина которой прошла в Бразилии. Активный участник послевоенного литературного процесса русской эмиграции, постоянный автор «Нового журнала», «Возрождения», газеты «Новое русское слово» и др., переводчик португальской и бразильской поэзии на русский язык и русской -< на португальский, поэт-билингв, глубокий знаток мировой культуры, в том числе и античности, - Валерий Перелешин - одна из самых ярких фигур литературы русского рассеяния. Он сам осознавал, что его творчество стало неотъемлемой частью единой русской культуры, когда, ошибаясь только в сроках, писал в сонете «В 2040-м году» (СгН 68): В две тысячи сороковом году (Прости просчет на три-четыре года) В моей стране затеплится свобода, И я туда, раскопанный, приду. <...>
Отверженный, заранее утешен, Грядущее предвижу торжество: Московский том «Валерий Перелешин».
И хотя до настоящего момента этого «московского тома» пока еще не вышло (впрочем, мы убеждены - это только вопрос времени), само имя поэта уже прочно вошло в справочники, исследования культуры и истории русского зарубежья, в антологии эмигрантской лирики и статьи, ей посвященные. * * *
В.Ф.Салатко-Петрище родился в г.Иркутск 7 (20) июня 1913 года в семье железнодорожного служащего, став наследником старинного польско- белорусского рода. Мать будущего поэта - Евгения Александровна Сентянина - журналист по профессии. Детство его прошло в Иркутске, а затем в Чите и Санкт-Петербурге, откуда он вместе с младшим братом в семилетнем возрасте был вывезен матерью в Харбин. Здесь он в 1930 г. окончил русскую школу при У.М.С.А., в 1934-1936 гг. учился на юридическом факультете Харбинского университета, специализировался на китайском гражданском праве, изучал китайский язык; здесь же был оставлен в качестве преподавателя, однако в г., после оккупации Китая японскими войсками и образования Маньчжурской империи, факультет был закрыт. Первая публикация поэта датируется 1928 г.: она появилась в литературном приложении к харбинской газете «Рупор» «Страница юного читателя» (11.11.28) под псевдонимом Ренэ. По авторитетному свидетельству Е.Витковского, «...псевдоним «Перелешин» придумали для поэта совместно его мать <...> и редактор харбинского еженедельника «Рубеж» М.С.Рокотов (Бибинов): начиная с первой публикации в «Рубеже» (11 июня 1932) поэт пользовался как псевдонимом почти исключительно сочетанием «Валерий Перелешин» (Витковский 1997, с.307), а также А.Каюрин, Б.Стрельцов, Далекий, Мария Кареева, Сигма, В.П. и др. Стихи поэта вошли и в антологию эмигрантской поэзии «Якорь», опубликованную в Берлине в 1936 г. под редакцией Г.Адамовича и М.Кантора, причем раздел поэтов Дальнего Востока был составлен самим Перелешиным. В г. в Харбине вышел первый поэтический сборник Перелешина «В пути» (см.: В пути). Среди критических откликов на эту книгу может быть, один из самых важных, - Георгия Адамовича, заметившего: «Мы довольно мало знаем дальневосточных поэтов. По-видимому, Харбин - где существовал кружок «чураевцев» - один из тех русских центров, в которых литературная культура сравнительно высока. Не раз приходилось в этом убеждаться. Перелешин умел и находчив. Будучи «певцом, он всегда остается и «писателем, как учил Гёте» (Адамович 1938). Причем именно творчество В.Перелешина позволяет маститому критику сделать существенное наблюдение: «В Париже установился другой склад, другой поэтический жанр. Но всякий жанр по-своему хорош и оправдан, если поэт им владеет, а не находится у него в рабстве» (там же).
В 1937 г. Перелешин поступил на Богословский факультет Института Святого Владимира, а в 1938 г. принял монашеский постриг в Казанско- Богородицком монастыре, и второй его сборник «Добрый улей» (см. ДУ) вышел в Харбине в 1939 г. под двумя именами - «Валерий Перелешин» и «Монах Герман». В Харбине были опубликованы и третий и четвертый сборники поэта «Звезда над морем» (1941) (см. ЗнМ) и «Жертва» (1944) (см. Ж), а также перевод поэмы английского поэта С.Т.Колриджа «Сказание старого морехода» (1940) (см. кольридж 1940)
Сам же Перелешин еще в 1939 г. переехал в Пекин, в Российскую духовную миссию, преподавал в начальной школе при миссии, работал библиотекарем, продолжая изучать китайский язык и культуру. В 1943 г. он перебрался в Шанхай, где к тому времени уже сосредоточились основные литературные силы русского Китая. Устроился на работу в ТАСС как переводчик с китайского языка, взял советский паспорт, в 1945 году отказался от монашества и снял рясу. Занимался поэт и литературной деятельностью: переводил древнекитайскую лирику, участвовал в создании сборника поэтов китайской эмиграции «Остров» (Шанхай 1946). В это время им был подготовлен пятый сборник стихотворений «Южный дом», опубликованный лишь более чем через два десятилетия в Мюнхене (1968).
В 1950 году Перелешин по приглашению брата попытался вместе с матерью переехать в США в самый разгар «маккартизма», однако по доносу, «за создание китайской коммунистической партии», был выслан с лишением права въезжать в страну. В 152 г. через Тяньцзин и Гонконг поэт перебрался в Бразилию и поселился в Рио-де-Жанейро, где и прожил до конца своих дней, лишь изредка покидая страну.
Казалось бы, судьба простая: то упоенье, то беда, но был я прогнан из Китая, как из России, - навсегда.
Опять изгой, опять опальный, я отдаю остаток дней Бразилии провинциальной, последней родине моей. - так он позднее прокомментировал обстоятельства переезда на новое место жительства и свое положение в эмиграции в стихотворении «Три родины» (СгН 60). С этого момента начинается второй, «бразильский период» творчества Перелешина, хотя стихи он писал лишь до 1957 года, после чего наступил период почти 10-летнего молчания, изредка прерываемого опытами стихосложения на английском и португальском языках. В 1958 г. Перелешин получил бразильское гражданство, бедствовал, перебиваясь случайными заработками: преподавал английский язык, работал корректором, библиотекарем в британском консульстве, служил в ювелирном магазине, преподавал русский язык в морском училище. Молчание было прервано в 1967 г. публикацией его стихотворений в нью-йоркской газете «Новое русское слово», венка сонетов «Крестный путь» в июльской книжке парижского журнала «Возрождение» за 1968 г., а также выходом в свет сборника «Южный дом» (см. ЮД).
Конец 60-х - 70-е годы - один из самых продуктивных периодов творчества Перелешина. Он активно печатается в эмигрантской периодике, одна за одной выходят его поэтические книги: шестая книга «Качель» (1971) (см .Кач.), седьмая - «Заповедник» (1972) (см. Зап), восьмая «С горы Нево» (1975) (см. СгН). Переписка с молодым переводчиком и литератором из Москвы Е.Витковским в период с 1971-1975 привела к созданию книги сонетов «Ариэль» (1976) (см. Ар.), включившей, помимо венка сонетов «Звено», 153 оригинальных произведения (история этого эпистолярного романа см. витковский 1992.). Затем последовал 12-летний перерыв - и вновь творческая активность возобновляется: в Париже выходит десятый стихотворный сборник «Три родины» (1987) (см. TP), в основном вобравший в себя ранние произведения поэта; новые стихи, посвященные Бразилии, составили раздел «Третий и последний» книги. В том же году в Париже появляется еще один сборник поэта - «Двое - и снова один?» (1987) (см. ДиСО), а через год к нему прибавляется последний, тринадцатый его сборник «Вдогонку» (см. ВДОГ). Еще в 1977-1980 гг. в канадском журнале «Современник» вышли 6 глав мемуарно- автобиографической «Поэмы без предмета», - монументальной поэмы (409 страниц), написанной «онегинской строфой»: отдельным изданием поэма вышла лишь 1,989 г. в Холиоке (США) (см. ПбП). В 1989 году под редакцией ведущего западного специалиста по творчеству Перелешина Яна Паула Хинрихса публикуется сборник «Русский поэт в гостях у Китая» (см. РПГК), включивший в себя (нередко в отредактированном автором виде) подавляющую часть стихотворений первых пяти поэтических книг поэта, многие из которых были перед этим подвернуты авторской правке. Тот же исследователь в Амстердаме опубликовал в своем переводе на голландский язык, избранные стихотворения поэта - «Gedichten» (см. Ged.) и «Vanuit de verte» (см. VdV), а также подготовил к изданию и выпустил книгу литературных мемуаров Перелешина «Два полустанка» (1987), посвященную литературной жизни русского Китая (Перелешин 1987; фрагменты, опубликованные на родине автора - Перелешин 1989). Оценки данной книги весьма противоречивы: так, если Е.Витковский отмечает, что «Два полустанка» - «...наиболее ценное, что написано в мемуарной форме на эти темы» (Витковский 1997, с.308), то, к примеру, критик З.Штейн более критически отнесся к мемуарам поэта, уличив его в субъективизме оценок: «Перелешин писал «Два полустанка» не «по записям», а «по памяти», которая, как известно, несовершенна. Перелешину повезло: он пережил целую эпоху, но это не удержало его от злопыхательства, зависти, даже через десятилетия, к более одаренным, чем он. Отрицательные эмоции Перелешина привели к искажению действительных фактов и неверным литературным оцекам, к умолчаниям и умышленным подтасовкам» (штейн 1991, с. 622).
Много Перелешин и переводил: в 1970 он опубликовал книгу своих переводов древнекитайской поэзии «Стихи на веере» (СнВ), в 1975 г. - поэму Цюй Юаня «Ли Cao» (1975) (Цюй Юань 1975), в 1978 г. он издал первую антологию бразильской поэзии в своем переводе «Южный крест» (см. ЮК). В 1971 г. им была закончена монументальная работа по поэтическому переводу трактата Лао Цзы «Дао дэ дзин», отдельным изданием вышедшая лишь в 1994 г. на родине поэта (ЛАО Цзы 1994). Были у поэта опыты и обратного перевода: так, совместно с Умберто Пассос Маркесом перевел на португальский язык и опубликовал «Александрийские песни» М.Кузмина (см. Kuzmin 1984). Более того, в 1983 г. вышел сборник португальских стихов и переводов Перелешина "Nos odres velhos" (см. NOV). Стихов в последние годы поэт не писал («То ли подломило его «московское признание», то ли просто срок пришел» - замечает Е.Витковский - см. витковский 1992, с. 450), умер в Рио-де-Жанейро 7 ноября 1992 г. в возрасте 79 лет. * * *
Творчество одного из ведущих авторов «русского Китая», а затем и «русской Бразилии» неоднократно привлекало к себе внимание ведущих критиков и литературоведов как его времени. Среди авторов, откликавшихся на выход очередных книг поэта - харбинская поэтесса Н.С Резникова (Резникова 1937), О.Штерн (штерн 1937), Г.Адамович (Адамович 1938), А.Несмелов (Несмелов 1939), Б.Юльский (Юльский 1941), С.Карлинский (Карлинский 1969), Ю.Иваск (Иваск 1968, иваск 1975, иваск 1976 и др.), А.Раннит (Раннит 1972) и др.
В наше время любой претендующий на полноту литературный словарь или справочник включает биобиблиографическую статью, посвященную В.Перелешину: среди авторов таких статей - В.Агеносов (Агеносов 1998Ь), В.Булгаков (булгаков 1993), ЕВитковский (Витковскии (1997), В.Казак (казак 1996),. В.Крейд (крейд 1999) и др. В.Агеносов посвятил творчеству В.Перелешина также параграф главы «Первая волна русской эмиграции» раздела «Литературный Харбин» в его книге «Литература Кшзкс^о Зарубежья» (агеносов 1998а): исследователь рассмотрел творчество В.Перелешина в контексте литературы русского «рассеяния», отметил основные темы творчества поэта, подробнее остановился на анализе его поэтической космогонии - «Поэмы о мироздании».
Попытки научного рассмотрения творчества В.Перелешина предпринимались и в русском зарубежье: так, несколько страниц своего исследования -«Русская поэзия за тридцать лет» посвятил В.Бетаки (Бетаки 1987); с большой статьей выступил Ю.Линник (линник 1992), обзор творчества В.Перелешина, анализ отдельных черт поэтики поэта в нескольких статьях сделал А.Ранит (наиболее значимые из них - Раннит 1976, Раннит 1978), выделив два периода в его творчестве - китайский и бразильский, и исследовав некоторые аспекты жанра сонета в творчестве Перелешина. Много сделал для изучения и публикации наследия Перелешина голландский исследователь Ян Паул Хинрихс (см. Ншшсш 1986, НшгиснБ 1989). Жизни и творчеству
В.Перелешина уделили внимание в своих обзорных статьях В.Крейд (Крейд 2001), Иннань Ли (Иннань Ли 2002), Е.Таскина (Таскина 1991, Таскина 1994 а иЬ)
Наконец, в недавнее время вышли два диссертационных исследования, отдельные главы в которых посвящены жизни и творчеству В.Перелешина. одна из этих работ - докторская диссертация О.А.Бузуева "Литература русского зарубежья Дальнего Востока: Проблематика и художественное своеобразие (1917 - 1945)" М., 2001 (гл. "Творчество Валерия Перелешина"). Исследователь главным образом сосредоточился на «китайском периоде» творчества поэта (это обусловлено темой исследования), О.Бузуев рассмотрел сборники стихов Перелешина в. контексте идейно-творческой эволюции поэта, основные темы и мошвы его творчества - такие, как тема Родины, России и Китая, изгнания, любви, жизни и смерти, творчества, веры и искушения и др. Тот же «китайский период» в творчестве В.Перелешина стал предметом рассмотрения и в кандидатской диссертации китайской исследовательницы Лю Хао "Поэзия русской эмиграции в Харбине: основные имена и тенденции" (гл. "Китайский период творчества Валерия Перелешина") (см. Лю ХАО 2001). И в этой работе акцент прежде всего сделан на историко-литературном и образно-тематическом аспектах творчества В.Перелешина, причем главным образом рассматриваются лишь первые -5 из 13 его поэтических сборников; особое внимание уделено «китайской теме» в творчестве исследуемого поэта.
Обзор критических и литературоведческих работ, посвященных творчеству В.Перелешина или обращающихся к его творчеству позволяет сделать по крайней мере три вывода. Во-первых, до сих пор не было предпринято попытки комплексного рассмотрения всех 13 книг поэта и разбросанным по периодике и архивам отдельных его произведений, в том числе и до сих пор не опубликованных (два исследования А.Раннита заведомо неполны и по причине ограниченности журнального пространства, и потому, что охватывают лишь 9 книг поэта - тех, что вышли до 1976 года). Во-вторых, отсутствует целостный анализ поэтической системы В.Перелешина в единстве идейно-тематического своеобразия его творчества и поэтики его стихотворных сборников. Наконец, до сих пор нет ни одного монографического исследования творчества поэта, сочетавшего бы диахронический и синхронический подходы, анализ поэтической системы В.Перелешина на всех ее уровнях - от содержательного и до формального.
Настоящее исследование - первая попытка монографического исследования творчества В.Перелешина. Его целью является целостное рассмотрение поэтической системы В.Перелешина в ее становлении и эволюции на всех уровнях. При этом мы ставим перед собой следующие исследовательские задачи: во-первых, необходимо изучить специфику лирического героя поэта, репертуар «масок», под которыми он выступает в произведениях Перелешина, а также те инвариантные черты, которыми этот образ обладает и которые проявляются вне зависимости от его очередной «маски»; во-вторых, насущной нам видится задача выделения и рассмотрения константных тематических групп в творчестве В.Перелешина, таких, как «поэт и быт», «поэт и любовь (дружба)», «поэт и толпа^ «поэт и поэзия (проблемы творчества)», «поэт и "три Родины" (Россия, Китай, Бразилия)», «поэт и бытие (мироздание, природа)», «поэт и Бог» и др.; в-третьих, претендующий на целостность анализ поэтической системы предполагает анализ тропики и особенностей образопорождения у поэта в неотрывной связи от идейно-тематического наполнения его произведений. Здесь важный аспект - аспект стилистический: тропеическая насыщенность произведений поэта, стилевое своеобразие его поэзии, взаимосвязанное, помимо прочего, и с принципами словоотбора и словотворчества у Перелешина; в-четвертых, своеобразие поэтической системы В.Перелешина обусловлено своеобразием жанрового репертуара его лирики: связь различных жанровых форм как с планом содержания, так и с различными аспектами плана выражения также является одной из важнейших задач нашего исследования; в-пятых, хотя бы общего рассмотрения требует просодика Перелешина, анализ специфики его строфики, рифмики, вообще фонической стороны стиха.
Изучение работ, посвященных жизни и творчеству В.Перелешина, убеждает нас, что данная работа еще не проделана литературоведческой наукой, и это определяет научную новизну нашего исследования. Тогда как всесторонний анализ поэтики автора в ее связи с идейно-тематическим своеобразием творчества В.Перелешина необходим не только для исследования творческого наследия этого художника, но и для уяснения особенностей развития литературы в условиях эмиграции, поскольку он может дать ценный материал для изучения общих закономерностей литературного процесса. Именно комплексный анализ творчества поэта позволит с наибольшей определенностью выяснить место В.Перелешина в контексте поэзии русского Зарубежья, Дальнего Востока и русской литературы XX в. в целом, и это обусловливает собой актуальность данного исследования.
Достаточно непростым оказался вопрос о том, какой материал должен лечь в основу настоящего исследования. Дело в том, что комплексный, целостный подход предполагает подробное изучение всего наследия поэта, что до сих пор затруднительно по ряду причин. Во-первых, значительная часть произведений В.Перелешина была опубликована в труднодоступных малотиражных изданиях русской эмиграции (особенно это касается китайского периода его творчества), многие из которых попросту отсутствуют в библиотечных и архивных собраниях России (список некоторых из них дается в Приложении к нашему диссертационному исследованию). Во-вторых, целый ряд произведений поэта пока еще ждет своей публикации, пребывая в частных архивах и собраниях. В-третьих, сам Перелешин не раз редактировал и правил уже опубликованные свои произведения - это ставит вопрос о том, какие из их редакций должны лечь в основу исследования художественной системы поэта.
Однако мы убеждены, что данные проблемы не должны табуировать возможности комплексного исследования творческого наследия В.Перелешина. Для нас здесь примером является подход английского слависта Джеральда Смита, исследовавшего метрический репертуар русской эмиграции 1971-1980 гг. (в том числе и репертуар В.Перелешина) на материале произведений, опубликованных в указанный период всего лишь в трех журналах - «Континент», «Время и мы» и «Новый журнал». В начале своей работы «Стихосложение русской эмигрантской поэзии 1971-1980 гг» ученый оговаривается, что «...исследование, опирающееся только на три издания из множества эмигрантских книг, журналов и газет 1971-1980 гг., может быть, конечно лишь неполным и предварительным. В частности, наши данные требуют осторожного подхода в связи с тем, сто «Новому журналу» принадлежит больше стихов, чем обоим другим вместе взятым. <...> Но и с этими оговорками корпус стихов, содержащихся в наших источниках, соответствует нашему определению эмигрантской поэзии как творчества писателей, постоянно живущих вне СССР. Количество материала и круг авторов достаточны, чтобы сделать некоторые наблюдения над их стихосложением, до сих пор не привлекавшим никакого внимания» (Смит 2002, с.238).
Мы также убеждены, что даже оставшиеся вне круга нашего внимания тексты В.Перелешина вряд ли способны существенно повлиять на суть наблюдений и выводов, сделанных в настоящем исследовании (хотя скорректировать и дополнить их, без сомнения, в состоянии). Достаточная степень объективности наблюдений и заключений, сделанных нами, определяется тем, что предметом анализа в нашей работе прежде всего послужат все 13 сборников оригинальных поэтических произведений В.Перелешина: "В пути" (1937), "Добрый улей" (1939), "Звезда над морем" (1941), "Жертва" (1944), "Южный дом" (1968), "Качель" (1971), "Заповедник" (1972), "С горы Нево" (1975), Ариэль" (1976), "Три Родины" (1987), "Из глубины воззвах" (1987) и "Двое - и снова один?" (1987) и "Вдогонку" (1988), а также ряда не вошедших в сборники произведений автора, опубликованных в периодических изданиях или находящихся в частных собраниях. В качестве дополнительного материала будут привлекаться переводы В.Перелешина из китайской, английской и португальской поэзии, его монументальная автобиографическая "Поэма без предмета" (1989) и др., а также произведения поэтов русского рассеяния (А.Несмелова, Г.Панина, и др.) и поэтов XIX - нач. XX в. (Е.Баратынский, Ф.Тютчев, И.Анненский, В.Брюсов, К.Бальмонт, Н.Гумилев, О.Мандельштам и др.)
Задача целостного рассмотрения поэтической системы Валерия Перелешина делает особенно актуальным вопрос о методологии исследования. Методологической базой исследования служат работы по анализу поэтического текста Ю.Тынянова, В.Баевского, М.Гаспарова, Ю.Лотмана и др. Мы рассматриваем поэтическую систему В.Перелешина на четырех структурных уровнях: идейно-тематическое (мотивно-образное) своеобразие поэзии В.Перелешина; тропика и стилистика. жанровое своеобразие метрико-строфический репертуар, фоника и просодия поэзии В.Перелешина.
Вычленяя эти уровни, мы в основном опираемся на систему анализа, предложенную М.Л.Гаспаровым, в свою очередь разработавшим и углубившим трехуровневый подход, предложенный В.Н.Ярхо. Исследователь следующим образом раскрывает суть данного метода в основополагающей статье «Снова тучи надо мною...». Методика анализа»: «Первый, верхний уровень - идейно-образный. В нем два подуровня: во- первых, идеи и эмоции <...>; во вторых, образы и мотивы <...>.
Второй уровень, средний, - стилистический. В нем тоже два подуровня: во-первых, лексика, то есть слова, рассматриваемые порознь (и прежде всего - слова в переносных значениях, «троны»); во-вторых, синтаксис, то есть слова, рассматриваемые в их сочетании и расположении.
Третий уровень, нижний, - фонический, звуковой. Это, во-первых, явления стиха - метрика, ритмика, рифма, строфика; а во-вторых, явления собственно фоники, звукописи - аллитерации, ассонансы. <...>
Различаются эти три уровня по тому, какими сторонами нашего сознания мы воспринимаем относящиеся к ним явления. Нижний, звуковой уровень мы воспринимаем слухом. <...> Средний, стилистический уровень мы воспринимаем чувством языка. <...> Наконец, верхний, идейно-образный уровень мы воспринимаем умом и воображением» (Гаспаров 2001, с. 14-15).
Надо ли говорить, что два основных и существеннейших недостатка данной методологии - это ее ориентированность на анализ одного, конкретного произведения и лежащая в ее основе установка на анализ имманентный, то есть исключающий из поля исследовательского рассмотрения контекст и интертекст, в том числе проблемы истории произведения, его жанровой специфики и т.д.? Не столь заметные при анализе отдельного произведения, эти недостатки особенно ощутимы при анализе комплекса взаимосвязанных текстов, не говоря уж об индивидуальной поэтической системе в целом. Сам М.Гаспаров, естественно, отдает себе отчет в ограниченности методы, и в большинстве глав своей книги «О русской поэзии» сам же нарушает заявленный в установочной статье принцип, отмечая, к примеру, в анализе стихотворения А.К.Толстого «Рондо»: «Стихотворение требует некоторых предварительных пояснений троякого рода: исторических, историко- литературных и теоретико-литературных» (гаспаров 2001, с.67). Таким образом, он апеллирует не только к слуху, языковому чутью и уму и воображению, но и к эрудиции читателя, его памяти и «культурному багажу». Поэтому, не претендуя на концептуальность нашего подхода, мы вынуждены были вычленить по крайней мере еще один структурный уровень - жанровый, понимая жанровый подход в исследовании как разновидность интертекстуального или, если использовать терминологию Ж.Женетта, автора книги «Палимсесты», «архитекстуального» подхода (см. об этом Ильин 1996, с.219). Другими словами, жанровая форма (особенно в случае с твердыми жанровыми формами) определяет собою не только тематическое, композиционное и стилистическое своеобразие произведения, но и отсылает нас к истории жанра в рамках национальной и мировой литературной традиции, помещая текст в широкое контекстуальное и интертекстуальное поле. Нам также неоднократно приходилось, разбирая отдельные произведения В.Перелешина, прибегать к компаративному анализу в его сопоставительно- типологическом и сравнительно-генетическом аспектах (об их различении см. дюришин 1979), обращаться к конкретным источникам тех или иных произведений поэта. Самое же главное, анализ художественной системы В.Перелешина определил необходимость сочетания синхронического подхода с диахроническим, с исследованием ее в эволюции, рассмотрение изменений, происходящих в области взглядов и творческих принципов поэта. И здесь определяющую роль для нас сыграло знакомство с работами ведущих стиховедов и Литературоведов нашей страны - Ю.Тынянова (тынянов 1993), В.Баевского (Баевский 1972), Ю.Лотмана (Лотман 1994, Лотман 1996), О.Федотова (Федотов 1990) и др.
Задача объективного описания целого ряда аспектов художественной системы Перелешина побуждает нас прибегать и к элементам так называемого статистического литературоведения, подробно разработанного в теоретических и практических работах В.Баевского (баевский 2001),
М.Гаспарова (ГАСПАРОВ 1974, ГАСПАРОВ 1999), Д.Смита (Смит 2002) и др. Особенно эффективным квантитативный метод кажется нам там, где требуется точной статистикой подтвердить исследовательские интуиции о превалировании у рассматриваемого автора произведений того или иного жанра, конкретного метра, типа рифмовки и т.п. Мы разделяем стремление сторонников статистического метода идти следующим путем, определенным М.Гаспаровым в его статье «Работы Б.И.Ярхо по теории литературы»: «...исходить из непосредственного впечатления, проверять его объективным учетом всех признаков, способных произвести такое впечатление, и выражать результаты наблюдения в виде количественных показателей» (ГАСПАРОВ 2001, с. 437). Впрочем, для нас квантификация - только подсобный инструментарий для литературоведа, и мы не разделяем крайностей тех сторонников данного метода, которые стремятся перевести на язык цифр собственно план содержания, предельно формализовать его: по крайней мере, сегодняшнее состояние гуманитарной науки не позволяет это сделать даже с приемлемыми натяжками, и проблематично, что сможет убедительно это сделать в будущем.
Наконец, в рассмотрении поэтической системе мы прибегаем к историко- литературному методу, к исследованиям, посвященным истории литературы русского зарубежья - работам В.В.Агеносова (агеносов 1993, агеносов 1998а), О.Бузуева (бузуев 2000, бузуев 2001а), авторов сборника "Литература русского зарубежья" (см. литература русского зарубежья 1993), А.Соколова (Соколов 1991), Г.Струве (Струве 1996) и др.
Заявленные в настоящем исследовании его цель, задачи, а также методологические основы обусловили структуру нашей работы. Она состоит из Введения, двух Глав, Заключения и Библиографии к вопросу, а также Приложения. Во Введении нами определяются цели, задачи исследования, ее новизна и актуальность, материал и методология, а также возможности практического использования полученных результатов этого исследования. Первая глава диссертации «Идейно-тематическое своеобразие поэзии
В.Перелешина» посвящена «плану содержания» лирики поэта: подробно исследована специфика лирического субъекта произведений автора, рассмотрены и на материале конкретных текстов проанализирован основной тематический спектр его поэзии. Постоянное внимание в этой главе уделяется эволюции художественной системы В.Перелешина, традициям, которые наследует поэт, что потребовало рассмотреть его творчество в трех контекстах - в контексте поэзии русского рассеяния (прежде всего I волны эмиграции), в контексте постсимволизма и в контексте всей русской поэзии XIX - XX вв.
Во второй главе нашего исследования «Поэтика В.Перелешина- стихотворца» мы обратились к связи «содержательного плана» его творчества с ее «планом выражения» - в аспекте стилистического своеобразия лирики поэта, жанрового репертуара, особенностей его просодики и фоники. Здесь нас интересовали как общие особенности поэтики разбираемого автора, так и те ее особенности, которые наиболее характерно проявлялись в тот или иной период творчества В.Перелешина, к примеру - «одержимость» поэта жанром сонета в конце 70-80-е годы, увлеченность его некоторыми экспериментальными формами стиха в сборниках «Заповедник» и «Качель», опыты в сфере словотворчества.
В Заключении данной диссертации мы подводим основные итоги исследования, делаем выводы о своеобразии поэтической системы В.Перелешина, об истоках поэзии этого автора и его новаторстве, а также определяем возможные перспективы дальнейшего исследования творчества поэта. В Библиографии мы даем по возможности полный список исследований и статей, посвйщенных жизни и творчеству В.Перелешина, а также ряда работ, посвященных культурному и литературному контексту, в котором складывалась и развивалась его поэтическая система. Библиография содержит также те работы, которые определили собой методологический аппарат исследования. Поскольку работа по созданию полного библиографического свода всех публикаций В.Перелешина не имеет прямого отношения к заявленной в данной диссертации теме, мы ограничились указанием на основные издания произведений В.Перелешина, а также на те из них, материалы которых используется нами в нашей работе. Впрочем, в Приложении нами дается перечень публикаций в периодике стихотворений В.Перелешина в 1930-1947 гг. - в так называемый «китайский период» его творчества. Создание полного библиографического списка, на наш взгляд, является делом будущего.
Практическая значимость настоящего исследования, на наш взгляд, заключается в том, что его результаты могут быть использованы при создании академической истории литературы русской эмиграции, в учебных курсах «Литература русской эмиграции» и спецкурсов «Литература русского Китая» и «Поэзия русского рассеяния». Самостоятельной ценностью обладает библиография-материалов, посвященных жизни и творчеству В.Перелешина, а также данный в Приложении список его публикаций в печати, - они могут быть полезны исследователям как творчества В.Перелешина, так и всей литературы Русского Зарубежья, особенно ее «китайской», «харбинско-шанхайской» составляющей.
Гл. I. Идейно-тематическое своеобразие поэзии В.Перелешина.
Вопрос о том, какие поэты оказали значимое влияние на становление и эволюцию поэтической системы В.Перелешина до сих пор остается открытым. Сам В.Перелешин отмечал, что его учителями в поэзии являются е.Баратынский, Ф.Тютчев, М.Лермонтов, а из современников - поэт- эмигрант А.Ладинский. Исследование поэзии Перелешина как на уровне идейно-тематическом, так и на уровне реминисценций позволяет расширить круг авторов, повлиявших на становление и эволюцию поэтической системы В.Перелешина. Это прежде всего Н.Гумилев, образы лирики которого, да и само имя, не раз возникают в стихотворениях «младшего» автора, а также О.Мандельштам. Круг поэтов, указанных здесь, уже позволяет определить место лирики Перелешина в контексте русской поэзии XX века: он наследник акмеистической линии Серебряного века. Да и сам себя поэт считал единственным подлинным наследником, если не носителем, акмеистических начал в русской поэзии, утверждая о себе в Ш-м лице: «Гумилевское знамя обязывало к добросовестной работе над стихом, к серьезности тона, к ясности и последовательности, но по-настоящему акмеистом - и на много лет - стал один В.Перелешин (перелешин 1972, с.258-259). То же самое неоднократно отмечали и критики и исследователи творчества поэта: «В своей поэзии Перелешин отталкивается от Гумилева. Некоторые его стихи могли бы прозвучать в ранних гумилевских сборниках: Испания, корсары, корабли... Идеал Перелешина: чеканные стихи с добротными рифмами, это тот акмеизм, который заслужил бы высшее одобрение мэтра в Цехе Поэтов» (Иваск 1968, с. 302)
Действительно, особенно важным для поэта оказались следующие традиции акмеизма - тяготение к запечатлению экзотики различных стран и континентов (идущее прежде всего от Н.Гумилева), «тоска по мировой культуре», сформулированная и воплощенная в своих произведениях О.Мандельштамом, а так- ;е общеакмеистическая концепция художника как ремесленника от поэзии, мастера, оттачивающего свой стих, согласно завету предтечи этог.о поэтического течения М.Кузмина: «Если вы совестливый художник, молитесь, чтобы ваш хаос (если вы хаотичны) просветился и устроился, или покуда сдерживайте его ясной формой <...> любите слово как Флобер, будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны - и вы найдете секрет дивной вещи - прекрасной ясности, которую назвал бы я кларизмом» (кузмин 1997, 198-199). Кстати, имя Кузмина - также одно из наиболее часто встречающихся в поэзии В.Перелешина.
Прежде всего эти традиции преломились в образе лирического героя его поэзии. Перелешин сам осознает себя поэтом, стихотворцем, неоднократно декларирует свое поэтическое призвание - это осознание для него предельно важно потому, что статус поэта позволяет ему определить свое место в мире по отношению и к тем землям и странам, где он находится, и по отношению к людям, с которыми его сводит судьба, по отношению к «народу» и к быту, наконец по отношению к мирозданию в целом и к Богу. При этом важная черта поэтики Перелешина - он обладает особым даром протеизма - лирического перевоплощения: лирический герой поэта нередко выступает под той или иной маской. Причем набор этих масок константен для всего творчества поэта и мало обновляется, создавая своеобразное образное поле вокруг лирического субъекта. Другая важная особенность - предельный автобиографизм образа лирического героя: он наделяется не только биографическими чертами своего автора, но и получает его имя - Валерий, самые интимные подробности его жизни нередко входят в качестве составляющих в художественный мир поэта. Особенно это характерно для жанров стихотворений на случай и посланий - наиболее частотных у Перелешина. Источник такого отношения к собственной частной жизни можно предположить в позднем творчестве О.Мандельштама и А.Ахматовой, чьи произведения изобилуют намеками и деталями, понятными лишь тем, кто знаком с подробностями обыденной жизни их авторов. Подобная эстетизация и даже мифологизация частной жизни поэта делает само его повседневное существование частью культуры, причащает ве шости, в свою очередь требуя от читателя высокой степени осведомленности. Сам Перелешин не раз затрагивал эту проблему в стихах: одна из типичных лирических масок его героя - Пигмалион (как правило, не эксплицированная, а лишь подразумеваемая), творящий Галатею - адресата его стихов, и при этом увековечивающий его, дарующий ему подлинное, духовное бессмертие: Из чистоты мечтательных стихов, Из карточки без шапки, без мехов - Мальчишеской, и с воротом открытым.
И все-таки всесильно колдовство: Из рук моих ты вышел знаменитым, А сотворен почти из ничего!
Эта мысль - запечатленный в искусстве образ земного человека дарует ему бессмертие - не раз прозвучит на протяжении всего творчества поэта, став своеобразным лейтмотивом одного из лучших сборников поэта - «Ариэль» (1976) - см. «Статуя» - Ар. 41, «Незримому» - Ар., 59, «Колдовство» - Ар.112, Неудача» -Ар. 148, «Творец» - Ар. 153 и др.
Впрочем, избыточная автобиографизация лирики, усилившаяся в последних сборниках поэта, нередко выводит его творчество за пределы собственно искусства в сферу приватной жизни, что пагубно отражается прежде всего на художественных достоинствах этих текстов. Особенно это свойственно для его лирики последних лет, когда автор уже осознал себя в качестве человека, навсегда принадлежащего истории русской литературы рассеяния, и потому утвердился в мысли о значимости своего субъективного опыта для широкого читателя. В частности, это проявилось в неоднократном апеллировании поэта к «грядущим литературоведам», которые будут исследовать не только его творчество, но и самые интимные стороны жизни.
Грядущему литературоведу Помучиться придется надо мной: Ведь я - хитрец, плутишка продувной, По ложному его пускаю следу. («Справка» - Ар. 140) Однако известно, что чем дальше автор уходит от «человеческого, слишком человеческого» в сферу объективного и общезначимого, тем значительнее его творение, тем больше у него шансов пережить момент его непосредственного создания. Поэтому многие стихотворения последних книг Перелешина (особенно «Двое - и снова один?» (1987) и «Вдогонку» (1988)) действительно, интересны более биографам поэта, чем искушенным читателям или исследователям его поэтики.
Одна из наиболее примечательных «масок» поэта - маска монаха, схимника, затворника. Несомненно, она имеет автобиографическую подоплеку: известно, что Перелешин в 1938 году начал посещать Теологическую школу Св. Владимира и спустя год стал монахом Казанско- Богородицкого монастыря в Харбине, взяв себе творческий псевдоним "Монах Герман". Под этим псевдонимом в 1939 г. он выпустил даже сборник «Добрый улей» (псевдоним был указан под мирским именем автора). Программное стихотворение этого периода носит то же название - «Добрый улей» (ДУ.11):
Да, тот мудрец, кто разлюбил свободу,
Крутясь среди измен и перемен, Но к сотам возвратившийся и к меду, В свой добрый улей, ты стократ блажен.
В этом еще слабом с точки зрения поэтического мастерства стихотворении поэт обыгрывает католическую символику пчелиного улья как монастыря и монаха как трудолюбивой пчелы, собирающей мед веры, дабы напитать им страждущих. Подобная символика пронизывает целый ряд стихотворений поэта, переходя из сборника в сборник (см., напр. «У порога» ВП 54-55, РПГК 35-36, «Призвание» - ДУ 18, ИзГВ 17-18, РПГК 53-54; «Утешение» - ДУ 22, ИзГВ 24-25, ТР 35, РПГК 63-64 и др.). Интересно, что образ-символ меда возникает у поэта еще в 1934 году, в стихотворении «Мед» (ВП 20, РПГК 16-17), однако религиозная подоплека его зримо не проявлена, скорее на первый план выдвинута семантика творческого подвижничества: поэт собирает «Земные все заботы, / Любовь земную всю» в свой улей, для того «Чтоб путник запыленный (Не олимпиец ли?) / В амфоре узкодонной / Унес его с земли». Образ бога-олимпийца не позволяет прочитывать это стихотворение исключительно в христианском ключе. К тому же в одном из своих поздних стихотворений (1985 г.) - «Ваятелю» (ДиСО 12) Перелешин вновь возвращается к «пчелиной» символике: процесс творчества уподобляется поэтом труду пчелы, перелетающей из Иудеи в Элладу и черпающей мед вдохновенья:
Глядя из комнаты смежной, любуюсь тобой, Не подхожу, чтоб тебя не отвлечь от работы, Чтоб не опомнился ты и не пробил отбой, И не вернулся в медвяные душные соты.
Если же вернуться к образу монаха, то можно заметить, что в конце 30- х - I половине 40-х годов в творчестве Перелешина особенно значимым оказывается мотив отречения - отречения не только от мирской жизни, но и от поэзии, от вдохновения. Монашеский подвиг противопоставляется им служению Музе как богине античного пантеона: вообще, стихотворения этого цикла построены на оппозиции «христианство / античность». Если в стихотворении первого сборника «Отповедь» (ВА 60, РГТГК 44) «...Муза все же рада, / Что с нами ангельская красота / Молитвенного эллинского лада», так что «Поет псалом, по-новому строга, / Еще вчера языческая муза», то уже в следующем сборнике в стихотворении с говорящим названием «Прощание с Музой» (ДУ 7, РПГК 44-45) автор пишет:
Итак, не плачь, обманутая муза, Язычница прекрасная моя, Что для иного, горняго союза Тебе впервые изменяю я.
Ты хочешь следовать за мной, - служанкой, Не повелительницей, не сестрой?.. Тебя за мной не пустят, чужестранку В плаще и с непокрытой головой.
Эта тема отречения от языческой музы пройдет через ряд стихотворений данного периода (см, напр. «Конец странствия» (ДУ 18, ИзГВ 17-18, РПГК 53-54); «Смерть поэта» (ДУ 20, ТР 33, РПГК 59-60) и др.)
Тема «язычницы Музы» сопряжена у поэта и с другой, не менее важной темой - женщины. Именно женщина (как, например, в стихотворении «Осенью» (ЗиМ 4-5, РПГК 61-62» для него - источник искушения жизненными радостями - и причина возникновения вдохновения. Поэтому отречение от поэзии для поэта-монаха смежно и отречению от женских чар.
В более поздней поэзии (по времени она соответствует периоду, когда монах Герман расстригся и принял свой прежний творческий псевдоним Перелешин) уходит противопоставление христианства и язычества: теперь стихотворчество воспринимается поэтом по-пушкински - как высокое служение. Поэт - «небес избранник», чье творчество богоугодно и боговдохновенно. Здесь показательно стихотворение «Отплата» (Ж 7, РПГК 69-70), сопрягающая два очень важных для Перелешина мотива: вдохновения как сновидения (о мотиве сна мы еще скажем ниже) - и творчества как высокого служения, противопоставляющего поэта бездуховной толпе: Ты в этом мире выбрал не покой И не тепло налаженного дома, А жесткую постель, да аналой, Да древние прославленные томы.
Но в скудости украденных минут - Украденных из своего же рая - В твоем воображении цветут Бесплотные цветы, не увядая.
Сплетай о них отрадные слова И возврати цветами вдохновенья И тишину, и листьев кружева Тому, кто посылает сновиденья!
Это стихотворение 1939 г. очень важно для понимания дальнейшей эволюции поэтических воззрений Перелешина: мы видим, что образ поэта сохраняет еще черты монашеские (отречение о г мирских радостей, аналой), однако для него остается открытой красота природы - и она воплощается в стихотворные строки. Данная традиция, несомненно, имеет францисканские истоки - вообще, образ Франциска Асиззского и его «Цветочков» значим для Перелешина и не раз возникает в стихотворениях поэта (см. напр. «Избрание» - В пути 43, РПГК 25» «Карнавал» - Кач. 6, ИзГВ 59, «Луч» - ИЗГВ 96 и др.). Однако само творчество здесь уже лишено религиозной наполненности: слова стихов «отрадны», потому что передают красоту
Божьего мира, наполняют душу благоговением, даруют вдохновение «для торжества / Над силами земного притяженья». Сама же маска «монаха» возникает там, где* поэт хочет противопоставить витализм и чувственность адресата - аскетизму, замкнутости своего лирического героя (см. напр. «Блудники» - Ар. 155)
Еще одна маска, тесно связанная с образом монаха-схимника и затворника, - маска книжника, ученого, корпящего над фолиантами. Вообще, образ книги достаточно подробно разработан поэтом, причем Перелешин продолжает традицию противопоставления человека-книжника - и человека, живущего простыми житейскими радостями. В «монашеский» период образ книжника дается однозначно позитивно: книги оказываются единственными друзьями лирического героя поэта, а мудрость противопоставляется земной, искусительной красоте:
Да, станьте все, как мы, что пили часто Из древнего отравленного кубка, Куда отжата скорбь Екклезиаста, Как горечью напитанная губка («Мудрость» - ДУ 21, РПГК 56-57) Впрочем, еще в первой книги поэта эта оппозиция не решалась столь однозначно. Так, например, в удачном стихотворении «Ars longa» (В пути 28) метафорическое выражение «книжный червь» непосредственно реализуется в сцене, когда книжник «на странице чопорной и чинной» находит книжного червяка, причем труд корпящего над книгами подвергается ироническому снижению:
Признайся ж, наконец, о житель книжный, Взглянув в глаза смешной своей судьбе: Столетней жизни хватит ли тебе? Однако здесь прежде всего имеется в виду труд ученого, но не поэта: стихотворчество в этот период для автора скорее ближе к живой жизни, чем к затворничеству книжника. Так, в соседствующим с ним в сборнике стихотворении «Живешь в глуши страны чернильной...» (В пути 29, РГТГК 19-20) «чернильная страна» противопоставлена «миру суровых стихотворных нег», причем стихотворные формы и ритмы, подобно Б.Пастернаку, Перелешин обнаруживает в окружающем мире: И грудь ты открываешь жадно Ритмическим ветрам родным, Ветрам веселым и отрадным, Парнасским бурям ледяным.
И мнится: ямбом пятистопным Гремит военная труба, Анапестом нерасторопным Вдоль окон тащится арба...
Вновь к образу книжника все чаще поэт обращается уже в своих поздних стихотворениях в 70-80-е годы. Сам образ амбивалентен и связан с антитезой «книга - жизнь»: так, книги заменяют лирическому героя сборника «ЗагЮведник» (1972) жен: «Я в мой ухожу заповедник - / в гарем непрочитанных книг» («Поздний вечер» - Зап. 26), являются альтернативой обыденной жизни. Книга - символ упорядоченности, целесообразности: неудивительно поэтому, что в позднем стихотворении «Недосмотр» (Ар. 87) герой неразумность собственной жизни передает как полиграфический брак в книге жизни:
Но загулял печатник - и на горе Испорчен спуск то рифмой невпопад, То кляксою, то пропуском в наборе.
Само мироздание у поэта может представать в виде Книги, как, например, в стихотворении «Мой гороскоп» (ЗнМ 30-31, ТР 57-58, РГТГК 8889): в основе этой идеи лежит весьма актуальное и продуктивное для культуры модернизма представление о «тексте бытия»: мир - это книга, читать которую способны лишь те, кто понимает язык природы, бытия в целом, способен в отдельных феноменах бытия увидеть составляющие единого текста.
Не частое, однако очень интересное явление в лирике Перелешина - стихотворения, посвященные художественным произведениям других авторов. Так, стихотворение «Защита Лужина» (В пути 41, РПГК 31-32) было написано незадолго после выхода одноименного романа В.Набокова (В.Сирина) и' представляет собой поэтический пересказ произведения, переложение сюжета в стихотворную форму. Главное внимание автора сосредоточено на поединке Лужина и его ученика Турати, причем поэтом это противостояние решено прежде всего как конфликт поколений: если у Лужина «в резерве старость И усталость», то молодость его ученика - сильный козырь в его руках, так что герою не способны помочь «ни любовь, ни запоздалый парус преданной и гибнущей ладьи». Впрочем, было бы неверным сводить все стихотворение к пересказу романа В.Набокова: точнее было бы указать, что история Лужина разворачивается на втором («метафорическом») плане развернутого сравнения, на первом же - судьба лирического субъекта стихотворения Перелешина, поданного в форме П-го лица единственного числа («ты-форме»): «Но еще ты борешься, как Лужин, Белого спасая короля» «скурсив наш>.
В стихотворении «Равнина» (Зап. 46) поэт неожиданно обращается к лирической книге советского поэта Анатолия Передреева «Равнина», причем обыгрывает обложку издания («обложка в манихейском стиле») и данный в книге портрет автора, через них обращаясь к сути стихотворений молодого поэта. Книга стихов становится связующим звеном между двумя поэтами, разделенными, не только временем (возрастом), но и пространством, причем поэт обыгрывает и звуковую близость своей и чужой фамилии, словно бы рифмуя их: Передреев - Перелешин. Отмечает он и общий исток их дарования - «Муза пушкинская», что сближает таких далеких людей - советского и эмигрантского поэтов.
В качестве предмета стихотворения у Перелешина может выступать и конкретный художник, причем для поэта характерно создавать мифологизированные образы героев-адресатов его произведений. К примеру, в стихотворении «Вячеслав Иванов» (Зап. 38) автор следует тому мифу, который поэт, сам создавал о себе - миф о поэте, сочетающем в себе дионисийскую стихию с латинской, католической строгостью святого: Столетиям забвенным современник, Вечерний жрец, авгур, первосвященник, Он, поступью - миродержавшый Зевс,
С той высоты, где свет одно со мраком, Глаголющий величественным знаком, Вневременный, последний василевс.
Отметим важную особенность, что Перелешин не только портретирует мифологизированный образ своего старшего современника, но и стилизует тяжеловатую поступь архаизированного стиха Вяч. Иванова, насыщая стихотворение архаизмами («предстал», «агнец», «забвенным», «глаголющий»), архаичными формами («в сияньи», «со мраком»), античными к библейскими образами (хмель, Дионис, Зевс; купель, ризы, первосвященник)
Не менее интересны у Перелешина и случаи так называемой медиатекстуальности, то есть обращения в поэтическом тексте к запечатлению 'произведений иных, неязыковых родов искусств, прежде всего живописи. Примером подобного обращения к живописи служит небольшой цикл «Три картины Марии Маргариды де Лима Соутелло»: I. «Руки», II. «Berceuse de l'enfant mort» и III. «Девочки-соседки» (Зап.63-64). Причем значимо, что этот перевод пространственного искусства во временное, каковым является искусство словесное, сопровождается отказом автора от описательности в пользу передачи впечатления от картины и тех размышлений, которые ее созерцание породило. Картина словно оживает: в первом стихотворении цикла изображенные руки «тоже потом привыкнут / к железной хватке тоски», причем автор уверен: «никто не уйдет из клетки / кому-то большому вслед». В третьем стихотворении об изображенных на крыльце девочках сказано: «А к полудню жара тлетворная / их разделит. Уйдут с крыльца...». И только второе стихотворение лишено временной перспективы, что, видимо, объясняется его темой - смерть ребенка. Впрочем, и здесь задается вопрос: «В тесном мирке дощатом / чем ты играешь, мальчик?». Подобные стихотворения формируют образ лирического героя - не только книжника, но и любителя высокого искусства вообще, способного вдохновляться плодами чужого вдохновения, развивая чужие находки в своем творчестве. Впрочем, у Перелешина есть произведения, в которых он подвергает сомнению стремление современных поэтов к запечатлению в стихах уже запечатленного, сотворенного культурой. Так, в стихотворении «Эпигоны» (Зап. 68) он противопоставляет художника прошлых веков, который «радугу назвал мостом, / закатом - смерть, большое счастье - птицей, / огнем - любовь, и женщину - цветком !», - и современных «поэтов сумерек и зим», утративших чувство единства мироздания и отравленных всезнанием:
Единый голос нам уже неслышим, единый лик дробится в зеркалах.
Мы не творим, но равнодушно пишем стихи о книгах, книги о стихах.
Это очень важное для понимания поэтической философии Перелешина стихотворение: в нем он вступает в полемику одновременно и с литературоведением, и с родственной ему литературой «второго отражения», все более приобретающей популярность в начале 70-х годов. Постмодернистская концепция интертекстуальности абсолютизирует понятие источника текста, так что, говоря словами Ш.Гривеля, «нет текста, кроме интертекста» (цит. по ИЛЬИН 1996, 219). Другими словами, творчество воспринимается как более-менее осознанное обращение к плодам творческой рефлексии иных авторов, служащих объектом вдохновения, реальность оказывается заслоненной чужим текстом, ее описавшим. И потому задача современного, постмодернистского искусства - обнажить саму природу творчества как «отражения отражения». Однако поэт видит в этом некоторую искусственность и даже бездушие, по его мнению, законам подлинного вдохновения. Поэт становится книжником, живет заемным умом и заемными чувствами, «равнодушно пишет»: сам образ книжника приобретает негативное звучание. О том, что Перелешин ведет полемику с постмодернистским мироощущением и искусством, говорит и мысль о «неслышности» единого голоса и раздроблении в зеркалах «единого лика»: тезис об отсутствии Истины, ее расщеплении (то, что Ж.Деррида назвал «децентрацией») - общее место постмодернистской концепции.
Жизнь книжника у поэта может приобретать негативный оттенок и тогда, когда противопоставлена житейским искушениям, с которыми герой не в состоянии справиться. Характеристика героя как «книжника» в этом случае - скорее носит отрицательный характер: он вынужден в силу возраста и здоровья книгу предпочитать живым впечатлениям, как, например, в стихотворении «Последняя игра» (Ар. 33), где «книжнику с изжогой и одышкой» противопоставлена бойкая молодость, с которой тот не в силах справиться.
Константной для всего творчества Перелешина остается типично романтическая антитеза: поэт / бездуховная толпа, не способная к пониманию высокого искусства, живущая пустой, обыденной жизнью. Причем эта жизнь может быть достаточно полной событиями и радостями, однако тихие духовные радости поэта противопоставляются развлечениям массы. Так, в стихотворении «Муравейник» (ЮД 13, РПГК 178) мир простых людей уподобляется муравейнику, в котором «не скучает без свободы / Трудолюбивый муравей». Это стихотворение 1947 года интересно уже тем, что муравейник - символ единства и коллективного созидательного труда индивидуумов, семантически близкий образу пчелиного роя, дается явно негативно, его смысловой ореол - ограниченность, суета, бесстрастность, бездуховность. Завершается же стихотворение торжественным финалом: Так, чуждый всем цепям и верам И суетливости кликуш, Поэт проходит Гулливером Над миром карликовых душ.
С мотивом вознесенности художника-творца над толпой сопрягается еще один важный образ, особенно актуальный как для романтиков, так и для их наследников - поэтов серебряного века, - образ уединенной башни, в которой поэт «отшельником и мизантропом» прячется от «эпохи шумной и шальной». Так, в стихотворении «На башне» (Зап. 35) развернуто сравнение монахов-столпников, бегущих от толпы, с поэтом, предпочитающим одиночество - людской суете: вновь образ поэта оказывается смежен образу монаха, отшельника. Впрочем, это вовсе не значит, что герой Перелешина - убежденный мизантроп и анахорет: у поэта немало стихотворений, воспевающих радости уличных гуляний и карнавалов. Особенно в позднем творчестве поэт не раз признает правоту карнавальных веселий, свойственных лрежде всего молодым душам.
Отдельная важная тема в творчестве Перелешина - быт. Несомненно, следуя романтическим традициям в отношении к обыденной составляющей человеческой жизни, поэт нередко критически настроен против всего, что связано с бытом, особенно бытом неодухотворенным, то есть бытом, подменяющим собой духовную жизнь, исключающим ее. Как правило, это не самые лучшие и не самые органичные произведения поэта, отдающие дань скорее инерции поэтической традиции, романтическому клише (см., напр. «Прощанье» - Зап. 16., РПГК 144). Более того, поэт использует цветаевское противопоставление «быта» и «бытия» как форм ложного и подлинного существования:
Внесли жену в программу и семью, Чтоб я пошел путем отца и деда, Но с юных лет, чудак и непоседа, Не к быту я тянусь, а к бытию («Недосмотр» - Ар. 87) В одной из лучших - и спорных книг Перелешина «Ариэль» адресат подавляющего числа стихотворений, который выступает в ней как под мифологическим именем Ариэль, так и под своих «земным» - Евгений, уличается поэтом как раз в привязанности к быту, семье, обыденным ценностям. Им противопоставляется неприкаянность лирического героя книги, его неукорененность ни в быте, ни в семье: «Что дом и долг для страсти, для свободы?» - вопрошает он в стихотворении «Под вечер» (Ар. 118). С домом и бытом для поэта связана тяга к женщине, к семье, от которых он последовательно отказался, сначала как выбравший путь монашества, затем - как человек, осознавший свою нетрадиционную половую ориентацию (см. напр. «Призвание» - Ар. 132). Особенно ярко этот мотив дан в сонетной паре «Перечитывая Гумилева» (Ар. 133-134), как можно догадаться, обыгрывающем сонет Н.Гумилева «Дон Жуан» из его книги Жемчуга» (см. Гумилев 1989, с.157), реминисценция из которого «Я не имел от женщины детей / И никогда не звал мужчину братом» по-блоковски выделена курсивом и связывает собой оба стихотворения.
Впрочем, сам мотив быта и связанные с ним мотивы семьи, дома гораздо чаше наполнены в стихотворениях Перелешина позитивным содержанием. Вообще из всех поэтов русского рассеяния Перелешин - один из самых «домашних»: дом, его внутреннее пространство не раз возникает в его произведениях. Своеобразным манифестом поэта является его стихотворение «Халат» (Зап. 50), заслуживающее того, чтобы быть приведенным полностью:
Я вечеру рад, как другу, но больше, чем другу, рад безмолвию и досугу: свет, покой, халат.
Мой замкнутый мир безгрешный под лампой на столе из ночи вырван кромешной, тонущей во зле.
Кичится моя постройка: расхвастался маяк, что печь у него и койка, кофе и коньяк.
Но запер ли я калитку? Ведь ураган крылат, и сшит на живую нитку теплый мой халат.
Явно лирический герой данного стихотворения представлен в «амплуа» затворника-анахорета, причем внутренне пространство комнаты здесь противопоставлено внешнему пространству окружающего мира - мира враждебного к человеку, мира «ночи <...> кромешной, тонущей во зле». Все стихотворение, как это нередко свойственно для поэзии Перелешина, построено на антитезах: свет - тьма, покой - ураган, дом-хаос, причем первый член каждой из этих оппозиций маркирован как позитивно окрашенный и связан с мотивом животворного тепла (печь, кофе, коньяк, теплый халат). В основе стихотворения - переживания хрупкостью этого покоя, когда «сшит на живую нитку теплый <...> халат» и «ураган крылат».
В одном из поздних стихотворений поэта «Мечты» (ДиСО 10) герой мечтает о том! что его друг купит дом, где ему также найдется свое место и где он обретет желанный покой. Такое сосуществование в стихах поэта мечты о налаженном быте, тоски по семье и своему дому - и утверждение собственной неприкаянности, вечного странничества, неприязни к обыденной схороне человеческого бытия, получает свое разъяснение в программном стихотворении Перелешина «Два союза» (ЮД 40): А в юности мне предложили На вольный выбор: приобресть Обыденное счастье - или Учености большую честь. <...>
Но жадного равно манили И рай, и радости земли, И отвергал я слово «или» Во имя радостного «и»!
Поэт еще раз проговаривает то, о чем писал начиная с дебютного сборника, - о двойственности свой души: он словно сочетает в себе гумилевско-цветаевское презрение к быту с пастернаковско-ахматовским к нему стремлением и любовью. Причем это не пушкинское противопоставление «поэта-человека» и «поэта-пророка» - это действительно может быть обытовление творчества и одухотворение - быта.
Если еще раз вернуться к кузьминскому определению, можно повторить, что важнейшая творческая установка Перелешина - стремление сдерживать свой душевный хаос ясной формой, искать четкие поэтические формы для выражения того, что по природе своей обладает неустойчивой, стихийной природой. Не случайно один из характернейших мотивов, сопряженных с темой эмоционального состояния лирического героя Перелешина, мотив ветра и смежных с ним - урагана, вихря, стихии.
Поэт не раз возвращается к одной и той же мысли, возможно, сформировавшейся под влиянием фрейдистской концепции творчества как сублимации своего libido, - стихотворчество помогает поэту справиться с потрясением, утишить душевную боль, объективировать свои страдания и тем самым изжить их. Одно из лучших стихотворений Перелешина на эту тему - «Уговор» (ЮД 8, РПГК 159-160):
Я сегодня с ласковым упреком Подойду к тебе, моя душа: То витаешь в небе ты высоком, То к земле склоняешься, греша.
То послуша ты и богомольна, То пьянит тебя весенний хмель: Ах, легка и слишком своевольна, Слишком высока твоя качель! <...>
Но тебя я вылечу от сплина, От капризов, взлетов и причуд: Нам поможет только дисциплина,
Дисциплина, выдержка и труд. <...>
Не ловя нездешнего мгновенья, Не раскаливаясь добела, Вынимать мы будем вдохновенье, Как перо, из ящика стола Здесь не раз декларированная двойственность души поэта преодолевается в акте творчества. Важный образ творчества Перелешина - образ жизни как качели, в полной мере будет развернут поэтом в стихотворениях одноименного сборника «Качель» (1971). Сам образ, как можно предположить, идет от поэзии символистов (вспомним хрестоматийное стихотворение Ф.Сологуба «Чертовы качели»), у Перелешина он сопрягается с тютчевским противопоставлением «дневной» и «ночной» стороны души:
Днем ты дремлешь, словно на ступени Кружевного полубытия, Ночью ты во власти наваждений, Одержимая душа моя! День - это мир гармонии, покоя и порядка (отсюда - эпитет «кружевной» по отношению к «полубытию» дневного существования как части, «половины» человеческого «бытия» в целом), ночь - мир наваждений, страстей, искушений. Творчество Перелешиным относится все-таки к дневной (утренней) фазе: «По утрам стихи писать мы будем». Интересно, что в стихотворении выстраивается две цепочки образов, антитетически противоположенных друг другу: день (утро) - небо - богомольное послушание -1 ровная жизнь - покой / ночь - земля - весенний хмель - наваждения - страсть.
В другом стихотворении - «Холодная ночь» (Зап. 42) творчество сопряжено с мотивом мороза, от которого дрожит поэт Эта мотивировка вдохновенной дрожи (мотив, связанный со смежными мотивами «трепета» и «вдохновения» и известный еще романтикам) глубоко оригинальна, так как это дрожь холода, а не жара страсти: неслучайно выражение «сугробы ритма и метра», а также уподобление стихотворных строк, в которых воплощаются чувства героя, покойникам в морге. Любопытно стихотворение и обыгрыванием символики цветов: холодные формы поэзии, запечатлевшие остывшую страсть, сопоставляются с нарциссами - символом эгоизма и самолюбования, тогда как живая страсть - с «распаленными розами» - известным символом страстной любви:
Ах, если бы за ночь вышил узоры на ней мороз, и между нарциссов вышел кружок распаленных роз.
Таким образом, «остывшая» в поэтических формах страсть сохраняет свою способность обратного воздействия на жизнь и может пробуждать зажигать в душе людей живые чувства. Отметим здесь и романтическое сопряжение «мороза» и «роз», иронически обыгранное А.С.Пушкиным в хрестоматийных строках «Евгения Онегина».
Важным для понимания обыгранной Перелешиным пары «мороз - роз» нам кажется замечание Ю.М.Лотмана по поводу пушкинских строк «Читатель ждет уж рифмы розы, На вот, лови ее скорей!»: «Рифмующиеся слова принципиально неравноценны: выражение «трещат морозы» характеризует некоторый реальный пейзаж, а «ждет уж рифмы розы» - набор рифм, то есть некоторый метатекст, трактующий вопросы поэтической техники. Такое построение характерно для всей литературно-полемической части данной главы: сталкиваются действительность и литература, причем первая характеризуется как истинная, а вторая - как подчеркнуто условная и ложная. Литературная фразеология, литературные ситуации и характеры обесцениваются путем сопоставления с реальностью» (Лотман 1995., с.642).
В стихотворении Перелешина же эта оппозиция оказывается перевернутой: «мороз» относится к миру творчества, тогда как розы символизируют собой «живую жизнь».
Более позднее стихотворение Перелешина «Исцеление» (Ар.38) интересно тем, что творчество как «исцеление», усмирение своих страстей подается уже сниженно, иронически. Впрочем, здесь имеется в виду не собственно творчество, а переводческая деятельность адресата стихотворения, которая является для него средством заработка: «Так стоит ли у платных переводов / Открадывать крупинки вечеров?». Однако противопоставлять переводческую деятельность и оригинальное творчество как неподлинное и подлинное творчество для Перелешина не было свойственным, в отличие от многих его современников - поэтов, оставшихся на родине (хрестоматийный пример - стихотворение А.Тарковского «Переводчик»). Это не вызывает удивления: большинство писателей, живших в советской России, к переводам вынуждены были обратиться как к единственной относительно свободной возможности литературным трудом зарабатывать на жизнь, избежав при этом жесткого идеологического диктата. Переводческая же деятельность Перелешина в большей степени носила культуртрегерский характер: поэт знакомил русских читателей с образцами мировой поэзии - китайской средневековой лирикой, произведениями Камоэнса, Фернандо Пессоа, Бруно Сеабра и др. Требовательный к себе, поэт по «гамбургскому счету» оценивал и чужие опыты переложения иноязычной поэзии (см. напр. Перелешин 1975)
Одна из важнейших тем перелешинской лирики - противопоставление жизни и творчества. Данная оппозиция является системообразующей для поэзии серебряного века: известно что сама эволюция от символизма к постсимволизгиу проявилась, в частности, в том, что предпочтение искусства - жизни постепенно сменялось признанием вторичности вымысла художника и художественных форм по отношению к реальности. Если во многом близкий В.Перелешину В.Брюсов мог декларативно заявить: «Создал я в тайных мечтах / Мир идеальной природы, - Что перед ним этот прах: Степи, и скалы, и воды!» (БРЮСОВ 1990, с.29), то уже А.Блок в стихотворении «Когда вы стоите на моем пути...» ироничен по отношению к призванию поэта: «Ведь- я - сочинитель, Человек, называющий все по имени, Отнимающий аромат у живого цветка» (Блок 1997, т.П, с. 87), а В.Маяковский в «Облаке в штанах» категоричен: «...мельчайшая пылинка живого / ценнее всего, что я сделаю и сделал!» (МАЯКОВСКИЙ 1963, т.1, с. 160). Однако Перелешин практически снимает эту оппозицию: так, как выше уже было отмечено, в стихотворении «Живешь в глуши страны чернильной...» (В пути 29, РПГК 19-20) противопоставлены не жизнь и творчество, а жизнь книжника, скрывающегося от мира, и жизнь поэта, открытого «всем впечатленьям бытия». Любопытно и типологически сходная пара оппозиций: витраж - собор и витраж - людская суета в сонете «Витраж» (Зап. 61, РПГК 152): «затейливые игрушки мастерства» создателя храмового витража противостоят и угрюмости соборных сводов, и болтливости прихожан как золотая середина - двум полюсам: чрезмерной отрешенности от земного и столь же чрезмерной одержимости земным. Причем у окна собираются и «жены праведные», и Младенец с фрески тянется к узорам витражных стекол, то есть витраж, произведение искусства, становится местом встречи двух миров - мира Духа и мира земного, как и мира внешнего, природного - и мира сакрального, храмового.
В другом стихотворении - «Весна» (ЮД 4-5, РПГК 177) бесспорно признавая виталистическую мощь весеннего пробуждения, поэт тем не менее утверждает важность поэтического дара, без которого мироздание «неполно»:
Мы мертвые, еще живем -
Поэты Божьи и снежинки, Но что мы скажем, чем блеснем На столь неравном поединке? <...>
Мы станем пищей и водой, И разве кто-нибудь в июле Припомнит, проклиная зной, Что самой белой белизной Когда-то в мире мы сверкнули? Это сопряжение снежинок и «Божьих поэтов» весьма показательно: дело не только в том, что вновь творчество увязывается автором с мотивом холода, а жизнь - с жаром (зноем). Поэзия уподобляется воде в зной (снежинки растают - и станут водой; по сути дела, сама кристаллическая структура снежинок напоминает художественную структуру - живительное начало, отлитое в строгую форму). Путь поэта - путь жертвенный: он умирает для того, чтобы кому-то облегчить страдания («И мы, мечтатели, должны / Уйти, чтоб жили просто-люди»).
Одно из самых важных стихотворений Перелешина, посвященных этой теме - «Хусин'ьтин» (ЮД 32-33, РГТГК 191-192), в котором поэт «размышляет о природе и искусстве, об их последнем синтезе во времени» (Раннит 1980, с.281). Стихотворение сюжетно: герой со спутниками подплывает к острову Хусиньтин на озере Сиху, причем местная природа, как и погода, не вызывает у них светлых чувств: «Горячий воздух неприятен, / Нет тени от сквозной листвы, / И веет сухостью от пятен / Слегка желтеющей травы».
Герои заходят в храм и созерцают работы художника Чжи Хуа, храмовую обстановку и утварь, а затем покидают обитель: Ах, эти лотосы не вянут, Листва не падает под дождь, Святые эти не устанут
Сидеть в тени сосновых рощ.
Бессмертно будут петь о лете Сегодня, завтра - как вчера Своими иволгами эти Несложенные веера!
Когда же, выйдя неохотно, Мы жизнь увидим из дверей, На зыбкие ее полотна Посмотрим мы уже добрей:
Ведь тоже могут стать нетленны Камыш и бабочки в цвету, Лишь кисть, легка и совершенна, Их остановит налету!
Таким образом, искусство не только дарит бессмертие тленным созданиям природы - она примиряет человека с тленностью жизни, несет в себе оправдание неумолимому закону времени, так как сфера искусства - вечность. Человеческое и природное пришли в гармонию, не оплаченную ни сомнительным пантеистическим растворением человека в природе, ни еще более сомнительным покорением природы - человеком.
Столь высокое предназначение искусства (и поэзии в частности) исключает утилитарное к ним отношение: Перелешина можно было бы назвать сторонником «чистой лирики» в том смысле, что он, как и пушкинский поэт из стихотворения «Поэт и толпа», убежден: «Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв». Отсутствие живой связи между поэзией и иными, не столь «возвышенными» сферами человеческой жизни (политикой, стратегией выживания в социуме, даже определенной конфессией или философией) снимает вопрос о ее нужности: «Уместно ли стихам лирическим, / Звучать, больным и бесполезным, / В тысячелетьи металлическом, / В столетьи угольно-железном?». Развивая в этих строках стихотворения «Утешение» (ЮД 42-43 РПГК 187-188) мысль Баратынского из его «Последнего поэта», Перелешин утверждает самоценность поэзии, ее духовную независимость от суеты века, что особенно ощутимо перед лицом возможного Апокалипсиса ядерной войны:
Отрадно быть ни с кем не связанной, Ни перед кем . и виноватой В час, ею же самой предсказанный - На красном празднике Гекаты !
Поэзия оказывается последним утешением и для поэта - «изгоя, чужака, несовременника»: именно в ней его «душа-пустынница» находит и свое время, свою родину. Эта идея самоценности поэзии корректируется Перелешиным в другом стихотворении - «Эволюция» (Зап. 54): он в равной мере отвергает два утверждения: и то, что «не важно как, а важно - что», и что «не важно что, а важно - как». Другими словами, для поэта равно бессмысленно говорить о предпочтении или содержания, или формы: «сладкие звуки» поэзии неотделимы для него от «молитв».
Интересно в стихотворениях, посвященных творчеству, сопряжение Перелешиным двух мотивов, сущностно противоположных, - мотивов «сна» и «ремесла». Как это характерно для постсимволисткой поэзии, в противоположность поэзии символистской, творчество у поэта как правило связываемся с бессонницей как особым состоянием бодрствования. Так, в »» одмом из ранних стихотворений «Ночное» (В пути 34-35, РПГК 38-39), написанном в форме молитвы, герой обращается к Богу с просьбой (лирический субъект здесь дан в форме 3-го лица): «Пускай его среди бессонниц / Волнуют только страсть и грусть». В этом герой противопоставлен остальным людям - «счастливым сверстникам его»: «Пускай они шумят и пляшут / И сонно бредят о любви» - наречие «сонно» здесь подчеркивает выморочность существования «нерадивых», в отличие от бодрствования подлинного поэта. Однако уже иное смысловое наполнение мотива «сна» мы обнаруживаем в стихотворении «Смерть поэта» (ДУ 20, ТР 33, РПГК 59-60) из следующего сборника Перелешина:
Порой - сквозь сон - живой и животворный Сияет день, круглятся облака. Но наяву в рукав одежды черной, Как в цепь, закована моя рука.
Здесь бодрствование становится уделом монаха, тогда как поэт воспринимает мир «сквозь сон», противостоящий яви, причем сон в стихотворении назван «романтической маской» на мире. Очевидно, имеется в виду особая разновидность сна - «сон наяву» как иное обозначение для грезы, мечтательно-созерцательного отношения к миру. Таким образом, учитывая амбивалентность оппозиции «поэт / монах» в «монашеский» период творчества Перелешина, мы видим, что мотив «сна» приобретает у него смыслы, свойственные в романтической традиции, которым наследовала здесь поэзия русского символизма (см. об этом Ханзен-Леве 1999, с. 239250).
Одно из важнейших стихотворений, раскрывающих перелешинскую концепцию сн&, - «Отплата» (Ж 7, РПГК 69-70): И тишина, и листьев кружева, И их в озерах кротких отраженья, -
Все было сном твоим - для торжества Над силами земного притяженья.
Твой сон - лишь явь для множества людей, Наскучившая им непостижимо: Всех этих водорослей и камней, Не оглянувшись всяк прошел бы мимо.
Простые, бездуханные цветы Они потопчут, даже не заметя Того, во что сквозь сон влюбился ты И в чьи попал бесхитростные сети.
Как можно предположить, сон здесь сопряжен с темой вдохновения, ведь само содержание снов - общее для «множества людей» и для поэта, и оно есть запечатление в сознании многообразия природного, естественного мира. Разница лишь в том, что «сон» поэта становится, во-первых, особой «призмой», сквозь которую он способен воспринимать окружающую реальность: вся поэтика модернизма строится ча понятии «особого смотрения», в разных направлениях и у разных авторов получившем свое название - от «расширения художественной чувствительности» у Д.Мережковского и до формалистской концепции «остранения» у В.Шкловского. То же значение понятие «сна» приобретает и в стихотворении «Сны» (Ар. 62): сон предполагает не забвение в дреме - но и не бодрствование - это сон наяву, особое пограничное состояние, сочетающее мечту и явь, Способность воспринимать окружающий мир - и видеть его в ином, преображенном творческой фантазией свете:
Нет, я не сплю, но в сонные ресницы Заплетены несмытые частицы, Враждебные рассудочному дню.
Понимание «сна» как «особого смотрения» тем интереснее, что он сосредоточен все-таки на преломлении мира феноменов земного мира: это отличается как от символистского понимания сна как медиумического состояния причастности к иным сферам, и от постсимволистской борьбы со сном как с нетворческим, выморочным существованием в пользу бессонницы («И пусть в огне бессонниц вдохновенных / Моя тоска сгорает, как свеча» - напишет Перелешин в стихотворении «Томление» (ЗнМ 27, РПГК 81-82). Та же идея содержится и в финальных строчках стихотворения «Чжунхай» (Ж 38, РПГК 109-110): «И эта кружевная тишина - / Моя обетованная награда, / Затем, что лучше я не видел сна, / Чем лотосы среди большого сада».
Можно даже взять на себя смелость и предположить, что Перелешин сопрягает в этом (и не только) стихотворении обе концепции сна в мотиве «сна наяву», выступая тем самым преемником сразу двух поэтических традиций - и символистской, и постсимволистской. Примечательно и словосочетание «бесхитростные сети» по отношению к снам, ведь сеть не только связана с мотивом уловления, плена: сама структура сети упорядоченна, близка к структуре кружев (ниже о цветах сказано: «Сплетай о них отрадные слова»), что дополнительно связывает мотив сна с темой (стихо)творчества (в другом стихотворении - «Учитель» (ЗнМ 29, ТР 56, РПГК 87-88) используется тот же образ: «И снов моих таинственные сети / Плетет его любовная рука»). В другом месте мы уже писали и о примечательности финальной мысли стихотворения: «...возврати цветами вдохновенья / И тишину, и листьев кружева / Тому, кто посылает сновиденья»: творчество здесь подается как «отплата» Высшему началу - источнику вдохновенья.
Дневным снам вдохновения поэт противопоставляет ночные сны искушения, для восприятия которых у героя есть особый орган - «око ночное» «Le mal invivcible» (Ж 36-37, ТР 74-75, РГТГК 104-105): «Бесстрастно вырви то око...» Но чем, ответь, Убить сновиденье пленительное и злое, Чтоб снова, как утренняя заря, розоветь, - Как, Боже, исторгнуть мне око сое ночное?
Здесь по-своему проявляется заимствованное Перелешиным у Тютчева и по-своему переосмысленное им противопоставление дня и ночи как времени гармонии - и времени хаоса - противопоставление, уже отмеченное нами.
С «ночной» стороной души лирического героя поэта связано еще одно его амплуа - «лунатик». Известно, что еще в архаических культурах луна противопоставлялась солнцу как ночное, холодное светило - дневному, несущему жи?отворное тепло. Важна и демоническая семантика луны как живущей отраженным светом, царящей во время буйства темных сил, как известно, особенно активных в полнолуние. И сомнамбулическое состояние тем и специфично, что в тело лунатика принадлежит миру земному, живет по его законам (дышит, движется и т.п.), в то время как сознание пребывает в «параллельном мире» - мире лунном, потустороннем. Образ лунатика появляется в стихотворении В.Перелешина «В полнолуние» (Ж 48-49, ТР 8788, РПГК 116-117):
В ночи радостные полнолуний Я взволнован и весел и нов: Это синие ночи колдуний, Ворожбы и пророческих снов. <...>
Как морские тяжелые волны, И во мне подымается вал, И, восторгом бессмысленным полный, Я б охотно лунатиком стал.
Даже по этим избранным строкам видно, что стихотворение аккумулирует целый ряд образов и мотивов, связанных с ночной, демонической семантикой. Здесь и мотивы ворожбы, пророчеств, и мотив стихии, поднимающейся в душе героя во время полнолуний (неслучайно уподобленной стихии морской), и важное слово «бессмысленный»: «дневное» и «ночное» традиционно противопоставляется как «логическое», «рациональное», «осмысленное» - и «внелогическое», «иррациональное», «бессмысленное». Путь лунатика - это путь вверх, прочь от постылой земли («Усыпи же меня, окрыли же, / Сделай легким соперником птиц, / Чтобы выше взошел я и ближе, / Не встревожив нигде черепиц»), и в этом смысле он родственен пути поэта. Наконец, особенно интересен финал этого стихотворения:
Чтоб испуганный голос любимый Разбудил равнодушную твердь И, влюбленному в лунные дымы, Мне принес лучезарную смерть.
Здесь «любимый голос» - метонимия земной жизни лирического героя: для него, поднявшегося высоко «по кручам и крышам», пробуждение в этот момент означает верную гибель. Неслучайно противопоставлены «лунные дымы» - и «лучезарная смерть», ведь слово «лучезарная» связана с соляным началом, с зарей, сменяющей время луны.
Впрочем, есть у Перелешина и стихотворения, развивающие постсимволистскую традицию противопоставления сна и бессонницы как пассивного - и творчески активного состояния. Здесь необходимо сделать оговорку: русское слово «сон» имеет по крайней мере два значения: «состояние сна» и «сновидение», в иных европейских языках воплощенное в разных словах (sleep и dream в английском, Schlaf и Traum в немецком и т.д.). В нашем случае под сном все-таки понимается «состояние сна»: так, в стихотворении «Поэт» (ЮД 3, РПГК 152-153) пока другие люди «спят, придавлены тьмой», поэт бодрствует «В час двоякий и странный, / В час усталый...», причем это становится причиной непонимания, и даже вражды по отношению к нему: «Не прощают бессонниц / Те, кто спят по ночам». Творчество в этом стихотворении дается в образе кузнечного дела: В час, когда, слабосильных, Будят вас петухи - После горнов плавильных Остывают стихи...
Здесь скрыто присутствует целый ряд антитез: слабосильные люди / поэт-кузнец (а сила кузнецов стала притчей во языцех), пробуждение с петухами / демонизм творчества (воплощенный и в мотиве «двоякости» часа вдохновения, и мифопоэтически: известно, что в народных представлениях кузнечное дело связывалось с колдовством и вообще с инфернальным началом. Еще- одна важная оппозиция: жар (стихо)творчества / остывание формы - здесь вновь звучит заветная мысль поэта, что стихотворение представляет собой стихию страсти, упорядоченную гармонией, отлитую в жесткую форму.
Бессонница у Перелешина предполагает и активизацию восприятия - прежде всего зрения и слуха: для него подлинное творчество возможно лишь тогда, если мы «Глухоту, слепоту и лень / превозможем у усильи бденья». В стихотворении «Творчество» (ЮД 3, РПГК 152-153), из которого взяты эти строки, мотивы «смотрения» и «слушания» становятся сквозными: о духе- вдохновении Сказано: «Встретим гостя зоркостью глаз, / заостреньем тайного слуха», создание стихов просто невозможно без «зрения» и «слуха»: «где добавим чуть-чуть на глаз, / где - на слух - немного убавим», наконец,
Если ж мудрый огонь потух, отстают и рука и ухо, - опечаленный, выйдет дух, не прощая хулы на духа.
Таким образом, творчество для поэта предполагает не только боговдохновленность, медиумичность, но и художническую зоркость и мастерство, и потому бессонница становится его важнейшим условием.
Особое место в творчестве В.Перелешина - и это естественно для поэта-эмигранта - занимает тема родины. У него немало произведений, посвященных родной земле, связанной для поэта прежде всего с Сибирью, с Иркутском - городом, где родился поэт.
Одно из лучших ранних стихотворений Перелешина, посвященных теме родины и эмиграции, - «Галлиполийцы» (В пути 24-25, РПГК 18): его особое место в творчестве поэта заключается уже в том, что в нем поэт обращается к чужой трагедии - трагедии остатков врангелевских войск, обреченных после бегства из захваченного большевиками Крыма на «галлиполийское сидение» - годовое пребывание в разбитом на мало приспособленных для жизни землях Галлиполийского полуострова палаточном лагере (см. об этом, напр. КОСТИКОВ 1990, с.45-48). Причем поэт делает акцент не на невыносимо тяжелых условиях, в которых оказалась некогда могучая армия, теряющая веру, силы, страдающая от нехватки воды и продовольствия. Главная тема стихотворения - память о тех горьких днях, когда тысячи людей вынуждены были покинуть родину, чьим символом в стихотворении становится «горсточка земли и пыли», которую входящие по трапу изгнаннйки «Украдкой прятали на грудь»: А мы, как мельничные крылья, Все возвращаемся назад, -
К далеким дням борьбы и страха,
И слышим дым пороховой, Склонясь над горсточкою праха Уже седою головой.
Стихотворение интересно тем, что глаголы в первых 4 строфах стихотворения стоят в неопределенно-личном времени («всходили», «прятали», «слезы вытирают» и т.д.), тогда как в последних 3-х строфах появляется местоимение «мы» - поэт переживает чувство своей приобщенности к трагедии, развернувшейся за тысячи километров от мест его изгнания, говорит от лица самих галлиполийцев.
Сам факт изгнания, по убеждению поэта, позволил русским ощутить себя единой нацией, носителями - и спасителями великой культуры: «Мы стали русскими впервые» - напишет он в стихотворении «Мы» (ДУ 3-4, РГТГК 7-8), завершит которого очень важными для понимания самоощущения, свойственного большинству эмигрантов «первого призыва»: Пусть мы бедны и несчастливы И выбиваемся едва, Но мы выносливы и живы И в нашем образе жива - Пусть звезды холодны чужие - Отрубленная голова Неумирающей России.
Возможно, именно в чувстве высокой миссии - хранитель русской духовности - скрывается причина «акмеизма» Перелешина, особое его отношение к наследию прошлого, к русскому слову - лишенное и национального чванства, стремления «законсервировать» увезенное с собой в изгнание, и стремления раствориться в приютившей его культуре: отношение с этими культурами поэт выстраивает в форме равноправного диалога.
И здесь очень интересно нетипичное для Перелешина включение им в сборник «Добрый улей» вольного перевода, обозначенного как «Из китайской поэзии. Стихотворение поэта Ли Бай» (ДУ 23): О, прогоните иволгу скорей, Чтоб не кричала посреди ветвей: Крича, она распугивает сны О небесах моей родной страны.
При переиздании (РПГК 65) последние две строки перевода звучали иначе: «Крича, она распугает сны / Крылатые тоскующей жены» - видимо, более точные. Уточнен и автор четверостишия - Гай Цзя-юнь. Однако интересна сама попытка поэта решить перевод в ключе темы изгнанничества, эмиграции - в таком случае стихотворение действительно органично вписывается в книгу стихов, коей является «Добрый улей», в отличие от сборника «Русский поэт к гостях у Китая», выстроенного по хронологическому принципу.
Вообще, тема Китая - одна из важнейших у Перелешина, и она оказывается достаточно тесно сопряжена с темой исторической родины поэта. Уже хрестоматийно известными стали следующие строки поэта из стихотворения с говорящим названием «Ностальгия» (Ж 40-41, ТР 84-85, РПГК 114):
Я сердца на дольки, на ломтики не разделю, Россия, Россия, отчизна моя золотая! Все страны вселенной я сердцем широким люблю, Но только, Россия, одну тебя больше Китая.
Значимо то, что Китай ассоциируется у поэта с днем как временем суток и летом как временем года, тогда как Россия - с вечером и осенью соответственно. Это не удивительно: вечер - время пограничное, время встречи дня и ночи, тогда как день для поэта - время гармонии, умиротворения страстей - именно мотив умиротворения, покоя звучит в большинстве «китайских» стихотворений поэта. В другом стихотворении - «Ветер» (Ж .42, ТР 81, РГТГК 111-112) холодный северный ветер, вторгнувшийся в пределы Китая, напоминает герою о его историческую родину и потому не вызывает неприятия, ведь он «Родные, северные губы / Ласкал <...> нынче поутру». «Севером ветреным» назовет поэт отчизну в стихотворении «В разлуке» (ЮД 18, РГТГК 157). Тот же ветер - как напоминание о Родине - возникнет и в пронизанном ностальгией по детству, матери, России стихотворении «Сочельник» (ЮД 6-7, РГТГК 171-172): «Кто же услышит? За окнами ветер колышет / Вечнозеленые ветки, и ветки качаются». Смысл данного образа становится ясен именно из контекста всего творчества -Перелешина, особенно его «эмигрантского текста»: разворачивается своеобразный «психологический параллелизм», когда зимний, северный ветер (в Сочельник) качает вечнозеленые ветки китайских деревьев, а воспоминания о прошлом волнуют душу человека, который в эмиграции «...думал, что вот, равнодушный и томно усталый, Жизнь искалечу, эффектно, расчетливо комкая» и задавался вопросом: «Стал я безродным, какое же мне Рождество?». Сопрягается тема России и Китая и в стихотворении «Россия» (ЮД 16, РГТГК 153-154): обыгрывая звук имени родной страны («О да, ты заспанное слово, А сколько слов нужней, звончей»), поэт тем не менее утверждает иррациональную тягу ко всему, что связано с образом оставшейся в далеком прошлом родины: Ужели в красоте раскосой, В обетованьях смуглых тел Голубоглазой, светлокосой Одной России я хотел?
Несколько иначе решается тема ностальгии в стихотворении «Север» (ЮД 34, РГТГК 162-163): в нем противопоставление России и Китая реализуется в антитезе «ласточка» / «платан». Ласточка летит на Север, однако герой не может последовать за ней, подобно платану, укоренившемуся на южной почве, и потому напутствует ее: Ласточка, лети себе на север: Мне моя неволя дорога!
Значимо, что стихотворение вошло в книгу «Южный дом»: действительно, Китай стал для поэта таким «южным домом», в противоположность дому «северному» - России. Однако обращает на себя внимание образ ласточки, традиционно символизирующей собой поэзию, вдохновение (можно вспомнить, к примеру, стихотворение О.Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать...»). Таким образом, если сам поэт не может оторваться от новой почвы - это может оказаться для него губительным (как для платана, только вовсе не по причине сурового климата Сибири), то его поэтическая мысль, подобно ласточке, устремлена на историческую родину. Ту же мысль развивает одно из лучших стихотворений Перелешина об эмиграции - «Карусель» (СгН 11-12, РГТГК 137-138), самим своим напряженным ритмом напоминающее знаменитый «Ленинград» (1932) О.Мандельштама, вряд ли в то время известный поэту. Ощущение вертящейся кйрусели передано с помощью энергичного 5-стопного ямба с мужскими клаузулами и парной рифмовкой двустиший, а также обилием в нем одно-двухсложных слов: из 154 слов стихотворения 1-сложных - почти половина (71), 2-ложных - 52, 3-сложных - 22, 4-х и 5-сложных - 6 и 3 соответственно. Таким образом, средняя величина слова в этом стихотворении - 1,8 слогов, тогда как среднее количество слогов в слове русского языка, как известно, - 3,4, то есть почти в два раза больше.
Поэтический дар в стихотворении уподоблен горячечному сну - и карусели, способным вернуть поэта назад, в детство, «в дом, что потом был продан с молотка. //Ив этот сад - запущенный пустырь - / Что после был застроен вдоль и вширь». Однако вдохновение не способно навсегда погрузить человека в мир прошлого - и тем больнее для него возвращение к реалиям сегодняшнего дня:
Я не пойду обратно в дом не свой, В печальный город, в год сороковой.
Где на подушке я в жару... Ужель Все только сон и бред - и карусель?
Таким образом, ни память, ни сновидение, ни поэтический дар не способны вернуть герою утраченную гармонию: его трагедия состоит даже не в оторванности от родины, а в том, что с подлинной его родиной поэта разделяют не только километры, но и года. Ему мало возвратиться в родные места - необходимо возвратиться и в родное время, а это Отчасти этим объясняется неготовность поэта вернуться в Россию.
Об искушении «южным домом» пишет поэт в стихотворении «Дом» (Зап.48, РПГК 140-141): здесь вновь противопоставлены птицы (на этот раз - журавли), улетающие на север - и «золотой буддийский рай» Китая, названный поэтом «темницей, давно несносной». Однако окончательный выбор делается все-таки в пользу Китая:
Сердце, сердце! Рвалось, и вдруг в ненавистном размякло зное. Даже плен и немилый юг полюбило оно, ручное!
Эмиграция не только обостряет чувство своей национальной идентичности - именно она оказывается для поэта главным условием приятия чужой культуры, поскольку позволяет ему брать от этой культуры лучшее, не отдавая дань тому, что для него в ней неприемлемо. Так, в стихотворении «Заблудившийся аргонавт» (ЮД 22-23, РПГК 181-182) поэт утверждает свою открытость любым культурам и чужим мирам: «Я широк, как морское лоно: / Все объемля и все любя, / Все заветы и все знамена, /
Целый мир вбираю в себя». Однако эта «всеотзывчивость» души поэта не родственна космополитизму и культурной всеядности старших декадентов вроде В.Брюсова или К.Бальмонта. Он отвергает для себя возможность в свое время родиться «В Баошане или Чэнду - / В именитом, степенном, дружном, / Многодетном старом роду» и прожить жизнь, отмеренную чужой культурной и бытовой традицией, поясняя:
Оттого, что при всей нагрузке Вер, девизов, стягов и правд, Я - до костного мозга русский Заблудившийся аргонавт.
Определение «аргонавт» по отношению к герою поэта имеет здесь по крайней мере двойной смысл. Непосредственно оно отсылает нас к античной мифологии - истории путешествия Ясона и его товарищей в Колхиду за Золотым руном. Аргонавт здесь - символ путешественника, человека, стремящегося в иные края, но не забывающего о возвращении на родину. Но можно предположить существование и иного подтекста: одно из самых ярких явлений культуры Серебряного века - кружок аргонавтов, организовавшийся вокруг поэта А.Белого и во многом вдохновленный его поэтико-философской мифологией (см. об этом Лавров 1978). Невозможно сказать, имел ли в виду символистский миф о «золотом руне» сам В.Перелешин, однако в контексте всего поэтического наследия Серебряного века его стихотворение получает этот дополнительный смысловой обертон. К тому же «золотое руно» для А.Белого символически связано с солнцем, и именно солнце и его атрибуты становятся для Перелешина символом Китая: он постоянно обыгрывает солярные мотивы, желтый или золотой цвет в своем «китайском» творчестве.
Тема тоски по родине, ностальгии, эмиграции может решаться поэтом и отвлеченно от конкретики фактов его личной судьбы. Таков, например, сонет «Кошка» (ЮД 41, РПГК 147-148): поэт сравнивает себя с сиамской кошкой, проданной туристу:
В дождливые, бессолнечные дни И у меня глаза почти такие И видят лишь далекое они.
Можно здесь видеть, что вновь «тоска, томленье, ностальгия» по Родине возникает у героя в ненастье, в холод - связанные для него с воспоминаниями о родине в противоположность теплу и солнцу Китая.
То же противопоставление холода родины и тепла изгнания можно увидеть и в «бразильских» стихотворениях поэта, хотя в них тема ностальгии постепенно уходит на второй план, редко уже звучит напрямую. Пример - стихотворение «Бразильская весна» (Зап. 8), в котором противоположены весна в Бразилии (Бразилия не знает весен: спадет холодная волна, и сразу зной - тягуч, несносен») и в России («подснежники и ледоход»). Впрочем, сам поэт поясняет причины затухания темы родины в его творчестве: Стихи рождались каждый час без осязаемых усилий, пока жила в груди у нас хоть капля воздуха России. <...>
Осталось на один прием: исчерпан воздух забайкальский и нынче я со словарем пишу стихи по-португальски. («Воздух» - Зап. 14)
Сам образ Родины постепенно становится все более неосязаемым, воплощаясь то в звуке колокольного звона («Колокольный звон из России» - Зап. 19), то в звучании исконно славянских слов - названий месяцев «сечень», «лютый», «брезозол», «травень» и т.д. («Николин день» - Зап. 23) или даже «забористого словечка русского» («На далекой параллели» - Зап. 53), то в очертаниях ее - уже ненужной - карты («Ветреная ночь» - Зап. 49). Есть и еще одна причина угасания образа России в поздних стихах Перелешина - это равнодушие Родины к своим сыновьям, заброшенным на другой конец земли:
А мы одни. Иноязычен лес, Презрительно немотствует Россия И нашего не слышит S.O.S. (S.O.S. - Зап. 59)
Этот мотив обиды на Родину особенно усиливается в 70-е годы: на место Родины теперь приходит СССР, с которым поэт декларативно порывает:
Твоим врагам я по привычке лгу, Себе же лгать я больше не могу, Но, русскостью спозоренный с тобою,
Как с дедовской болезнью, как с горбом, Троянец сам, разрушить эту Трою Хотел бы я, измученный стыдом ! («СССР» - СгН 6. См. также стихотворение «Равнина» СгН 8) «Россия больше не Россия»- скажет он в другом стихотворении - «Непоследовательность« (СгН 52). Все чаще поэт усомняется в разумности и оправданности ностальгии по забытой - и забывшей его стране, как, например, в стихотворении «Родина» (СгН 7). Но особенно интересно с точки зрения эволюции поэтического мира стихотворение «Ангара, снегопад, рекостав...» (СгН 9): в нем возникают образы далекой юности - рекостав на Ангаре, однако, в пику давней русской поэтической традиции воспевать «неяркую красоту» родной осенней природы, герой скорее соглашается с общим мнением: «Безрадостный вид! / Даже солнце его не живит». Мотив отречения от воспоминаний и забвения прошлого отчетливо звучит в следующих строчках: «От окна отошел я давно / и плотнее завесил окно. // Если ж ветер кайму теребит / занавески - изгоя знобит». Таким образом, герой замыкается в себе, своем внутреннем мире, отказываясь впускать в него воспоминания о прошлом - от них его «знобит»: здесь мотив «холода», сохраняя свою связь с темой родины, утрачивает свое ностальгическое, позитивное звучание. Показательна и зеркальная композиция стихотворения, напоминающая блоковское «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...» из цикла «Пляски смерти»: начальное перечисление «Ангара, снегопад, рекостав» завершает стихотворение в обратном порядке: «рекостав, снегопад, Ангара». Тем самым создается ощущение замкнутого круга - символа безысходности, «дурной бесконечности» повторения одного и того же.
Все чаще герой стихотворений выступает под маской «изгоя», «изгнанника»,' «бродяги», «чужака» - эта автохарактеристика практически не встречается в «китайских» стихах поэта. Родина для него по-настоящему остается лишь в языке - лишь языку он сохраняет подлинную верность: Китай - любовь, Бразилия - свобода, А только я не видел ледохода, И соловей не пел в моем саду.
Я сыт, одет. И все же нет желанья На жимолость, рябину, лебеду Наклеивать латинские названья!
В этом стихотворении «Изгой» (СгН 51) противопоставляется житейские блага и веселье, которые герой обрел в изгнании и «родник, не слившийся с разливом небывалым» родного языка, связанного для автора прежде всего с именем Пушкина. Поэтому, несмотря на свои опыты по написанию стихотворений и переводов на португальском языке (сборник "Nos odres velhos" 1983), Перелешин продолжал себя считать исключительно русским поэтом. Что же касается отношения поэта к Китаю и Бразилии - странам, ставшим его прибежищем в годы эмиграции, то отношение к ним Перелешина лучше всего выражено в названии стихотворения «Три родины» (СгН 60), изданным отдельно на голландском языке в 1986 г. и давшем имя целой книге избранного поэта - «Три родины» (1987).
В этом стихотворении Россия сопряжена с холодом, Китай - назван «страной шелков, и чая, и лотосов, и вееров», последней же родиной названа Бразилия:
Здесь воздух густ, почти телесен, и в нем, врастая в колдовство, замрут обрывки давних песен, не значащие ничего.
Можно утверждать, что в художественном мире Перелешина сосуществуют три «текста» - российский, китайский и бразильский. В общих чертах российский нами уже описан, что же касается собственно «китайского текста», безотносительно к его связи с предыдущим, то Китай, как правило, ассоциируется у поэта с земным раем, местом абсолютного покоя и утешения. «... поиски тишины и покоя естественным образом приводят к китайской культуре, в которой покой является одной из глубинных ценностей, не только выраженной в философии буддизма, но и витающей в самой атмосфере древних дворцов и пагод, - пишет одна из известных исследовательниц поэзии русского Китая Иннань Ли. - «Тишина» - одно из ключевых слов у Перелешина, который находит ее повсюду: на картине китайского мастера, под белоствольными соснами храма Лазурных облаков, на холмах Сянтаньчэна, у любимых пекинских озер. Здесь он желал бы «обрести прибежище в грозу», «вздохнуть и успокоиться навек». (Иннань Ли 2002, с. 277). В контексте восприятия Китая как Эдема на земле становятся понятными и строки стихотворения, цитируемые всякий раз, когда затрагивается проблема образа Китая в тв ^рчестве Перелешина:
Ты пойдешь переулками до кривобокого моста, Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай, Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто: В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.
Стихотворение «Издалека» (ЮД 38-39, РПГК V), финальная строфа из которого нами процитирована, было написано в 1968 году уже в Бразилии: оно пронизано ностальгией - парадокс, что поэт- эмигрант испытывает ностальгию по своей «второй родине», а не первой. Тема стихотворение - смерть героя, причем в минуту смерти его сердце переносится в Китай:
Это сердце мое возвращается к милым пределам, Чтобы там умереть, где так жадно любило оно, Где умело оно быть свободным, и чистым, и смелым, Где пылало оно... И сгорело давным-давно.
Как можно предположить, стихотворение отсылает нас к целому комплексу текстов любимого поэта Перелешина - Н.Гумилева, а именно тех произведений поэта-акмеиста, где речь идет о Китае - «Китайская девушка» (1914), цикл «Фарфоровый павильон» (1917).
Действительно, стихотворение Перелешина сопрягает целый ряд значимых для «китайских» стихов Гумилева образов и мотивов: синекдоха лирического героя поэта - сердце, перелетные птицы (образ, прочно связанный для Перелешина с темой эмиграции и тоски по родине), образ девушки-китаянки и др. Образ девушки- китаянки особенно важен: может быть, лучшая любовная лирика поэта, обращенная к женщине, связана с его китайской любовью. Здесь можно сослаться на точное замечание Иннань Ли: «Вместе с некоторыми другими поэтами он ищет сближения с Китаем не только через проникновение в его культуру, как уже отмечалось выше, но и через любовь к женщине («Красные листья под инеем», «Южный ветер», «Предел» и др.)» - (Иннань Ли 2002, с.284). Так, в стихотворении «Красные листья под инеем» (ЮД 28, РПГК 180) поэт обыгрывает русский перевод имени возлюбленной, которая раскрывает герою скрытый в ее имени смысл метафоры - и тем самым приоткрывает тайну китайской культуры и национального сознания человеку из другого мира. В другом стихотворении - «Южный ветер» (ЮД 20-21, РПГК 185-186) герой размышляет о непреодолимой грани между ним и его возлюбленной: ее манит «южный ветер» («зовущий ветер, злой и резкий») - этот образ, взятый в контексте всего творчества Перелешина, противопоставлен «северному ветру» - ветру «первой родины» поэта. Той же теме посвящено и более раннее стихотворение с говорящим названием «Предел» (Ж 12, ТР 54, РПГК 85-86):
Мы ласковы и в нежности похожи, Но все-таки не сохранить любви Нам, не тождественным по цвету кожи, По тяжести наследственной в крови.
Это чувство неразделимости - и неслиянности переносится поэтом и на сам Китай, одновременно и «вторую родину», и чужую землю. По верному замечанию китайской исследовательницы «китайского периода» творчества В.Перелешина Лю Хао, «... и русская, и китайская культуры были одинаково близки ему, он был «обучен» Китаю с детских лет, что отличает его путь от пути Несмелова. Отсюда органичность китайской тематики в творчестве Перелешина и восприятие Китая как второй родины, философия, культура, история и поэзия которой восприняты им как часть собственного менталитета. Это и Китай как реальная страна, и Китай как определенная эстетика, и китайская символика в жизни и искусстве, и философско-нравственная проблематика китайской мысли» (ЛюХАО 2001, с.25-26)
У Перелешина немало стихотворений, посвященных различным местам Китая - как историко-культурным, так и просто отдельным уголкам природы этой страны (например, «Поездка в Дун-Лин» - ЗнМ 16 ТР 47 РПГК80)
Китай прежде всего учит героя созерцанию и умению «ловить золотые мгновения»: «китайская» лирика Перелешина особенно «эмпирична», наполнена образами вещного мира. Возможно, «вещность» его у поэта обусловлена именно экзотичностью предметного мира этой страны, как и экзотичностью ее растительного и живс ного мира. Неслучайно Китай характеризуется поэтом через вещи: это страна «шелков, и чая, и лотосов, и вееров». Внимание к подробностям бытия нередко декларируется в «китайских» стилах Перелешина:
Стой, путник, и движенья не ускорь:
Не упусти весеннего цветенья, Закатов царственных и звонких зорь!
Как часто ты, услышав гул погони, Оплачешь плен у ладана и книг. Учись, учись же на возвратном склоне Благословить за ломкость каждый миг!
Эти строки из «юбилейного» (написанного в день своего 30- летия) стихотворения сопрягают ряд важнейших для творчества поэта мотивов: вновь противопоставляется жизнь затворника - и жизнь поэта, созерцателя мира, причем утверждается позиция открытости миру, особенно значимая, если учесть, что главная мысль стихотворения - вторая половина жизни идет быстрее, чем первая (как быстрее спуск по горбатому китайскому мостику, чем подъем), и потому нужно особенно бережно относиться ко всем ее впечатлениям, «понять, что жизнь безмерно хороша»). Вышеприведенное стихотворение - пример медитативной лирики Перелешина, доминирующей среди произведений «китайского цикла». Именно созерцание окружающего мира вызывает у поэта ответные переживания и размышления и, как следствие, вдохновение: эту своеобразную логику своего творчества поэт буквально «обнажает» в одном из своих лучших стихотворениях - «Хуцинь» (Ж 43, TP 80, РПГК 111):
Чтоб накопить истому грустную, Я выхожу в ночную синь,
Вдали заслыша неискусную
И безутешную хуцинь.
Так сердце легкое изменится: Я слез невидимых напьюсь И с музой, благодарной пленницей, Чужой печалью поделюсь.
В этом стихотворении отдаленный звук китайской скрипки - хуцинь - рождает в душе героя отзвук, воплощающийся в стихотворных строчках: вновь, как и в других подобных произведениях Перелешина, именно впечатление становится предпосылкой творчества, вдохновение становится лишь ответным даром поэта - окружающему миру.
В этой типичной для поэзии Перелешина коллизии Иннань Ли увидела влияние китайской классической поэтической традиции, что, по мнению исследователя, проявилось в творчестве не одного Перелешина, но и многих других поэтов-харбинцев: «В их стихотворных произведениях мы находим классическую тематику китайских стихов - это описание поездок в достопримечательные места (В. Перелешин. «Поездка в Дун-Лин», «В Шанхайгуане», «Вид на Пекин из Би-юнь-сы»; А. Ачаир «Ханьчжоу»; М. Щербаков. «Японский храмик»; многочисленные стихи, посвященные Пекину и т.д.), пейзажные зарисовки; стихи, навеянные созерцанием предметов искусства (М. Щербаков «Китайская вышивка», «Стихи императора Юань-хао-сянь»; В. Перелешин. «Картина»; М. Коростовец. «Китайская шкатулка»; Т. Андреева. «В храме Ми-Син»), отдаленными звуками музыки (В. Перелешин. Хуцинь.)» (Иннань Ли 2002, с. 279). Все эти разновидности мы находим и у В.Перелешина: к /имеру, в указанном стихотворении «Картина» (ЗнМ 24-25, ТР 52-53, РПГК 84-85), посвященной Марии Павловне Коростовец, картина традиционной китайской живописи становится моделью мироздания, разных его уровней от земной долины до уединенных нагорных кущ -и до недоступных обычному человеку горных вершин: «Немногие полюбят эту высь, / Где только ястребы да камень дикий». Именно этот предел особенно близок душе героя стихотворения, утверждающего:
Лишь только смерть, легка и хороша, Меня нагонит поступью нескорой, Я знаю, наяву моя душа Придет бродить на вычурные горы.
Эти последние строки позднее отзовутся в уже процитированном выше стихотворении «Издалека» («В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай»). Обращает на себя внимание и необычный эпитет «вычурные горы»: этот эпитет предполагает некоторую нарочитость, искусственность форм, имеющую отношение скорее к произведению искусства, чем к реальности. Однако поэт как раз подчеркивает специфику китайских пейзажей - их будто бы «сотворенность» и «окультурненность». Вообще, в отличие от произведений многих его современников, Перелешин как правило избегает давать в своих «китайских» стихотворениях сниженный, близкий к реальности образ Китая, не затрагивает социальную проблематику: здесь он выступает скорее как последовательный наследник культуры Серебряного века, для поэзии которого как раз было характерно эстетизировать пейзаж, сближать его с живописью или смежными родами искусства. Вообще, пейзажных зарисовок у поэта больше, чем архитектурных: именно на лоне природы душа героя умиротворяется, обретает успокоение и тихую радость.
Перелешин по-своему решает извечную проблему гармонии человека и природы - именно спокойная природа Китая позволяет человека почувствовать с ней родство, раствориться в ней:
Шестнадцатого - каждый месяц лунный - Как говорят, «окно полно луной». Луна везде! И я, отныне юный, Впадаю в мир уже почти родной. «Ночь на Сиху» (ЮД 26, РПГК 175-176) В этом стихотворении интересно обращение Перелешина к идиоматике неродного - китайского языка, позволяющей почувствовать образность, выразительность чужого наречия. «Ночь на Сиху» интересно еще и своеобразным сплавом культур - библейской, средневековой европейской и китайской: Башня на Сиху к облаку «готическим порывом... взнесена», себя герой уподобляет Моисею, проповедовавшему с горы Синай. Впрочем, упоминаются здесь и имена Цюй Юань и китайского поэта Ли Бо, причем обыгрывается их смерть: первая утопилась в реке, второй по преданию - упал на дно колодца, потянувшись за отражением луны. Таким образом, в одном произведении сопрягаются три сюжета, первый из которых особую актуальность получил в авраамических религиях и сложившихся на их основах культурах, последние два - в китайской. Интересно и обращение Перелешина к китайскому фольклору - к примеру, к образу духа - хранителя с;:ов «мо» в стихотворении «Китайское поверье» (Зап. 72): «все недобрые сны съест неотступный «мо».
Можно обнаружить у Перелешина и стихотворения, в центре которых - «...тема дружеского чувства, взаимопонимания, доходящего до полного единства душ, - одна из самых распространенных в китайской классике» (иннань Ли 2002, с. 279), например, стихотворение «Сигарета» (ЮД 35, РПГК 190-191) или же «Другу», посвященное Лю Тянь-шэну (ЮД 29, РПГК 176). Характерно, что в последнем стихотворении друзей объединяет чтение - чтение книги Мэйсфильда, и это чтение спасает их от «печальных дум и давних меланхолий» и в обоих рождает схожие ощущения свободного плавания:
О, нам бы плыть неведомо куда, В какое бездорожье голубое, Под дальний гул растущего прибоя - Но только так быв плыть, чтобы всегда И в море нас, и в мире было двое!
В целом «китайский текст» занимает определяющее место в наследии В.Перелешина: блестящий знаток, китайской культуры, языка, сам немало переводивший, он этим действительно существенно отличался от ряда русских поэтов Харбина и Шанхая, плохо знающих культуру и язык приютившей их страны, что, в частности, отразилось в относительной скудности «китайских» образов в их поэзии. Можно сослаться на мнение одного из авторитетных мемуаристов, поэтессы Н.Резниковой: «Китайская культура прошла мимо почти всех нас, выросших в Харбине» (РЕЗНИКОВА 1988, с.386).
Образ Бразилии - последней «родины» поэта представлен не столь ярко в творчестве В.Перелешина. Возможно, здесь сказалась все-таки большая близость бразильской культуры - европейской, нежели близость к последней - китайской. В основном Бразилия в стихотворениях Перелешина представлена природой, как, например, в стихотворении «Бразилия» (Зап. 28):
Бразилия звонкая, свирель первозданная, жалейка ты тонкая, возня барабанная.
Дай Бог тебе здравия, Страна моя Травия, на тысячелетия, земля моя Цветия.
Есть стихотворения, обыгрывающие и любимую коллизию Перелешина - герой поднимается на вершину горы и созерцает окружающий мир: так, в стихотворении «Корковадо» (Кач. 47, ИзГВ 47) он, стоя на одноименной горе рядом со знаменитой статуей Христа, возвышающейся над Рио-де-Жанейро, молится за весь мир:
Здесь так легко почти без боли Страстей наскучившую нить Прервать одним порывом воли И в дольний город уронить.
Другое произведение схожей тематики - сонет «С горы Нево», давший название целому сборнику: как и в «китайском» стихотворении «Ночь на Сиху», герой, «бродяга бездомный», чувствующий близость скорой смерти, уподобляет себя Моисею, с горы Синай созерцающему «землю обетованную». Как и Китай, бразильская земля неоднократно уподобляется поэтом Эдему: один из сонетов сборника «Ариэль» носит говорящее название «Приглашение в рай» (Ар. 122): «Я зелень дам тебе и синеву С прожилками свеченья золотого, / И с корабля завидишь ты морского / Свой детский сон, расцветший наяву». Сопоставление России с Бразилией, как и с Китаем, проводится поэтом по оси «холод» - «зной» («Здесь томный зной висит над морем пенным, / Там мерзлота полярной стороны. // Здесь - карнавал и радужные сны, Там - выкрики о вызове военном» - «Письмо в Россию» - СгН 64), причем поэт говорит о единстве противоположностей - по крайней мере в его душе или благодаря установлению эпистолярной связи с Родиной, и даже призывает:
Так ветхие преграды уничтожим: Несходные Бразилию и Русь В единый мир нерасторжимо сложим!
Культура Бразилии также привлекает поэта: в стихотворении «Алейжадиньо» (Зап. 30-31) он обращается к судьбе отверженного художника, скульптора Алейжадиньо, рыночного торговца, в своих фантазиях совмещающего образы морских обитателей и фигур Священной истории: «Мир ссадин и кровоподтеков, / мир осьминогов и акул / он втискивал в черты пророков, в нагроможденье жил и скул, // кощунством безысходной муки, / безличным холодом судьбы / сводил заломленные руки, / насупливал крутые лбы». Можно вспомнить также уже упоминавшиеся нами цикл «Три картины Марии Маргариды де Лима Соутелло» (Зап.63-64).
Естественно, что в лирике Перелешина нашел свое отражение и знаменитый бразильский карнавал - символ жизнерадостности, свободы, буйства жизненных сил. Отношение к карнавалу у поэта двойственно: он может усмотреть в празднестве торжество темных, демонических, лунных сил, как например в стихотворении «Карнавал» (ИзГВ 59), где даже католичество («святой Франциск) не способно устоять от соблазна веселья, так что герой вынужден просить заступничества у православного святого Серафима Саровского:
Не заде! л лунной мечтой, Не встревоженный южной музыкой, Сойди же ко мне, святой С душою и речью русской!
Поэт ощущает некоторую чужеродность для него карнавала, занимает по отношению к нему отстраненно-созерцательную - впрочем, не осуждающую позицию, признавая за карнавалом свою правду и логику. В сонете «Жребий» (СгН 44) он противопоставляет карнавальной одержимости - свою одержимость поэзией, бразильской культуре - родную ему культуру русскую: «Бразилия, я сын приемный твой. // Твоя ль вина, что пришлецам усталым / Нельзя помочь разгульным карнавалом, / Когда твои природные сыны // Идут стеной, отшлепывая самбы, / А я смотрю на них со стороны / И слышу снег и пушкинские ямбы». Однако карнавал как начало, противостоящее «книжности», отшельнической жизни, может даваться поэтом и в позитивном ключе:
От Лосского и Франка я зевал И убегал на людный карнавал, Дышал толпой и музыкой, и зноем. («Перечитывая Гумилева II» - Ар. 134) Помимо России, Китая и Бразилии есть и еще одна страна, к которой Перелешин не раз обращался в своих стихах. Это Польша - родина предков поэта. В его восприятии Польша - древня страна с трагической судьбой, жертва четырех разделов. Один из редких для Перелешина примеров «гражданской лирики» - стихотворение «К Польше» (ЗнМ 12-13, ТР 41-42, РПГК 74-75), по свидетельству самого поэта, написанное для задуманного Польского сборника, который должен был быть посвящен разделу Польши Сталиным и Гитлером:
Прекрасная предков страна, Ты стала страною несчастной, Но мне издалеча видна Ты прежнею Польшей Прекрасной. <...>
Не внуку участвовать в том, Но внук не устанет молиться, Чтоб с русским сдружилась орлом Свободная польская птица. Возникает образ Польши и в связи с католической темой в творчестве поэта: так, совместное с Алиной Яблонской чтение Мицкевича заставляет поэта вновь обратится к Богу с молитвой об этой стране («Сон» - ИзГВ 9798).. обыгрывает Перелешин и польское происхождение Папы Римского Иоанна-Павла II: «И здесь меня, среди толп большой, / Благословил с амвона польский папа, / Которому я не совсем чужой» («Папа Иоанн-Павел II в Рио- де-Жанейро» - ИзГВ 99). Наконец, есть у поэта стихотворение «Молитва за Польшу» (ИзГВ 108-109), в котором поэт отозвался на польские события 1982 года. * * *
Особый вопрос - религиозные мотивы в творчестве Перелешина. Нами выше уже было отмечена биографическая связь между лирической маской поэта - «монах, отшельник» и его постригом в монахи в Казанско- Богородицком монастыре в Харбине. В этот период религиозность поэта в основном носила догматический характер в рамках католического вероисповедания и мироощущения. Впрочем, уже в этот период среди его произведений появляются те, в которых он отступает от канонических представлений о Боге и мироздании, о природе Добра и зла. Характерным примером здесь является «Поэма о мироздании» (Кач. 57-74, ИзГВ 122-138, РПГК 119-135). По свидетельству В.Агеносова, «Опубликованная впервые в 1944 году в журнале «Лучи Азии» под названием «Ангелы», она продолжала волновать автора и в последующие годы, была переработана им в конце 60-х и вошла в 6-ю книгу стихов «Качель» (1971). (На родине опубликована в 1989 году в журнале «Литературная учеба» № 6). Главная проблема поэмы - теодицея (вопрос о существовании зла в сотворенном Богом мире)» (АГЕНОСОВ 1998, с.59). В этой «полугностической» (как называл сам Перелешин свои религиозные искания) поэме лирический герой - книжник и отшельник - .переживает чувства богооставленности и духовной жажды, отчаяния и упования: как результат, они обернулись Откровением о мироздании. Поэма - поэтический вариант космогонии. Мы здесь не имеем возможности - да и не ставим такой задачи устанавливать источники космогонических воззрений поэта - это дело будущих исследователей творческого мировоззрения Перелешина. Однако обращает на себя внимание характерная идейная тенденция поэмы - зло утверждается в качестве необходимого элемента бытия, уравновешивающий противоположный ему полюс Добра и требующий от человека, восходящего к Богу, преодоления в процессе борьбы с искушениями. Так, автор отмечает, что первый из архангелов - Рафаил, сотворивший «Мир двухмерный и мир трехмерный, / Угловатых фигур и тел», создал мир бездушный, С ^благодатный: Но, казалось, игрушки праздны И не рады затее всей, Безнадежно, однообразно Обращаясь вокруг осей.
Мир огня, сотворенный архангелом Самаилом, - «мир непрочный» и гибельный для всего сущего, и в борьбу с ним вступил третий архангел, Кассиил, архангел холода, в противоборстве с огнем рождающий твердь. В свою очередь стихия воды, подвластная архангелу Гавриилу, противостоит обоим этим мирам. Пятый архангел - Анаил, создатель растительного мира, сотворил с Божьего благословения не только прекрасные цветы, но и взрастил терновник. Столь же противоречив и мир фауны, созданный Варахиилом. Архангел Михаил, создатель людей, тоже не в состоянии уберечь людей от гибельного шага: «Утопают земные недра / В человечьей святой крови. / Михаил, преславный, всещедрый, / Неразумных останови! // Ах, и ты заклинал напрасно, / И мольба расползлась, как дым...»
В Заключении же поэмы в уста Господа е.- ар вкладывает слова, утверждающие разумность и предначертанность миропорядка, построенного на противоборстве полярных сил:
Так узнайте: в мудрости Нашей
Все дремало, заключено...
Это замысел Наш старинный, Предначертанный веществу: Пусть восходит дорогой длинной К очищенью и торжеству. <...> ... созданный Нами, Бесконечно прекрасен мир.
Другими словами, для поэта мир прекрасен во всех своих противоречиях, даже с Крестом и грехопадением, ибо в диалектике Добра и зла, света и тьмы - залог его движения и развития. Не надо быть богословом, чтобы не почувствовать неканоничность воззрений поэта на природу добра и зла, на проблему теодицеи и искупления грехов. Зло, грех входит в качестве органической составляющей в судьбу и сознание лирического героя поэта, более того, нередко оно получает обоснование и даже оправдание как необходимое условие для духовного становления личности. Дуализм героя заявлен в стихотворении «Две руки» (ДУ 10, РПГК 46-47), где добрая и злая ипостаси личности метонимически выражены через образ правой и левой руки. Правая рука связана с духовностью, творчеством, любовью, левая - с искушением, с отречением от благого пути, с душевным хаосом.
Опыт зла, по мнению поэта, необходим художнику для воплощения своих замыслов: так, в стихотворении «Химера» (Кач. 22, РПГК 138) сопоставлен Леонардо да Винчи, который «чтоб написать Химеру <...> Блуждал среди цветов земного зла, / Ища даров от похоти и страсти, / Как некая злорадная пчела», - и лирический герой, также обреченный вбирать в себя зло мира, для того чтобы отвергнуть его в сознательном акте выбора: «Всю ложь и низость, некогда чужую, / Я нахожу ожившими во мне. <...> Но знаю: вдалеке проходишь молча / Ты, некогда изгнавший легион...» Та же мысль звучит и в сонете «Как хорошо» (ИзГВ 116):
Бесплотный дух, трепещущий едва,
Издалека влюблялся бы в картины, Но для того, чтоб описать смотрины, Потребны плоть, рассудок и слова.
Как хорошо, что в довершенье льготы Мне велено испытывать земноты, Искать себя равно в добре и зле...
В позднем стихотворении «Ваятелю» (ДиСО 12) художник-скульптор равно вдохновляется и Христом, и «любовником полунагим»: «Знаю, что в том и другом ты находишь усладу». Поэтому не кажется странным, что в творческом наследии Перелешина соседствуют стихотворения вполне ортодоксальные - и отступающие от канонов веры, даже кощунственные, ведь кощунство для поэта - лишь оборотная сторона духовной жажды, одержимости Духом. Критически заострены его стихотворения в большей степени против рационализирования веры, попытки свести ее до обряда или поведенческого канона: в этом, к примеру, Перелешин упрекает протестантизм, противопоставленное им католичеству, в цикле из двух стихотворений «Назад к святыне» (ИзГВ 93-94):
Прошли века - и больше не желанна Божественность: вопят о простоте, О плотничьем труде, о нищете Бескрылые последыши Ренана.
Характерно, что протестантская духовная практика для автора сродни стремлению Эрнеста Ренана в его знаменитой кяиге «Жизнь Иисуса» «очеловечить» облик Богочеловека Христа, восприятию Его всего лишь как исторической личности, автору этико-мировоззренческой системы - и не больше. В данном контексте становится понятно и другое стихотворение поэта, неожиданное для человека XX века, - «Костры» (ИзГВ 67): в нем делается попытка по-своему оправдать аутодафе как акт милосердия по отношению к грешникам: ...Жалея, жег заблудших Торкемада, Кострами мстил неверивший Кальвин.
Другими словами, для Святой инквизиции сжигание еретиков было последним, крайним средством спасения душ заблудших, тогда как для Кальвина - методом политической борьбы.
В поздних стихотворениях Перелешин приходит к еретической попытке оправдания и нетрадиционной половой ориентации человека: для него однопблая любовь ближе к завещанной Господом, чем гетеросексуальная, поскольку в меньшей степени связана с грехом плоти, с первородным грехом, ближе к «любви к ближнему», лишенной половых различий, андрогинной (см., напр. «Слово Аристофана» - Ар. 20, «Не без горечи» - ДисО 13-14). Герой поэта убежден, что будет если не оправдан, то прощен Господом, видит в своей «особости» Божий промысел: он призван Христом своей высокой любовью спасать «заблудшего» любовника, открывать ему духовный смысл любви (цкил «От вечности» - ДиСО 34-36). Будучи логически продолженной, мысль поэта подчас приходит к открытому кощунству: так, в стихотворении «О грехе» (Ар. 26) обыгрываются слова Христа «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф. 19:29), «...то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матф. 19:6) и «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф. 18:20). Однако герой призывает своего возлюбленного оставить семью ради него, ибо убежден, что их любовь очистительна и открывает дорогу к Господу.
Мировоззренческий дуализм поэта объясняет и экуменическое сопряжение в его произведениях христианской системы духовных координат - и иных религиозных систем, прежде всего восточных. «Явное влияние буддийской философии, которая причудливо сливается в стихах Перелешина с христианскими мотивами», отмечал В.Бетаки, добавляя, что «...среди них находят свое место и символы даосизма» (Бетаки 1987, с.42). Скажем, неоднократно в произведениях поэта возникает мотив реинкарнации - переселения душ, важный как для буддизма и индуизма, так и для современных ему мистико-религиозных учений. Этот мотив может присутствовать подспудно, как например, в стихотворении «Не грусти» (Ж 34, ТР 78, РПГК 107-108):
Так лучше верь пленительной мечте, Что не в морозах вечного покоя Вернешься ты, а в хрупкой красоте Нарцисса или нежного левкоя.
Мысль этого стихотворения - тленность земного и вечность духовного, запечатленного в произведении искусства или в памяти. Вера в повторное воплощение для Перелешина оказывается смежной убеждению в нетленности истинной красоты, обретающей себя во временных формах. Взглядом христианина увиден Китай в одноименном стихотворении («Китай» - Ж 23, ТР 68, РПГК 99-100), однако идея реинкарнации звучит в его финале: обретение земного рая становится итогом ряда перевоплощений героя:
Словно дом после долгих блужданий, В этом странном и шумном раю Через несколько существований, Мой Китай, г. тебя узнаю!
Интересно стихотворение «Валерию второму» (Ар. 120), где Перелешин обыгрывает буддийские представления о том, что душа далай- ламы после его смерти воплощается в ребенке: стихотворение обращено к сыну адресата книги «Ариэль»: «В поэзии российским далай-ламой / Я сделался, изгнанник и чернец». Поэт убежден, что в ребенка после его смерти перейдет его душа: «Войду в тебя над Шилкой или Камой / В тот час, когда наступит мой конец» - и мальчик станет воплощением его на земле. Мысль о переселении будет продолжена и в финальном венке сонетов «Звено» из книги «Ариэль» (Ар. 165-179):
А та душа, что жалобно взывала О чистоте родного языка, Скитается, бездомная, пока Ей очередь родиться не настала.
Посмертные странствия души стали основной темой этого венка, причем итог этих странствий - душа воплотится в человека, способного завершить начатый героем путь духовного восхождения к Богу и жертвой во имя веры искупить свои грехи:
Да, буду я в грядущем воплощеньи Бестрепетным свидетелем Твоим: Твоим во всем - и в жизни, и в ученьи,
И за Тебя да буду я гоним
Толпой людей, воинственной и странной
С тамтамами и хрипотой гортанной.
Данный* венок примечателен как раз соединением несоединимого - христианской идеи жизни как жертвы и буддийского представления о вечном возвращении и изживании былых привязанностей. Впрочем, эта тема особенно часто возникает как раз в «китайских» стихотворениях Перелешина: нам уже приходилось отмечать, что Китай поэтом воспринимается как земной рай, и потому его душа вернется туда после смерти. Причем представление о рае для поэта ближе восточной идее нирваны - обретения покоя через полное растворение в вечности.
Таким образом, можно отметить, что Перелешин - подлинный поэт XX века: особо'е, почти религиозное отношение к творчеству, внеконфессиональная религиозность, точнее, экуменистические попытки примирить свое католичество с воззрениями, противоречащими основным догматам христианского учения, в частности - найти объяснение тому, что не зависит непосредственно от воли человека и дается ему судьбой (нетрадиционная половая ориентация, изгнание и др.) - все это уже знакомо нам по культуре рубежа веков, все нашло свое, оригинальное преломление в творчестве В.Перелешина. Впрочем, нельзя не отметить стремление поэта к приятию действительности во всех ее проявлениях - и прекрасных, и отвратительных: в этом плане для Перелешина творчество, стихотворчество - путь обретения гармонии с окружающим миром, дар, оправдывающий земные страдания и вносящий в жизнь человека глубинный смысл.
Тропика и стилистика поэзии В. Перелешина
Эта актитетичность мировосприятия нашло свое отражение и в названии отдельных стихотворений: «Две руки» (ДУ 10 , РПГК 46-47), «Два союза» (ЮД 40, РПГК 174-175), «Второе зренье» (Зап 33, РПГК 135 - «вторым зреньем» поэт назвал, интуицию в противоположность «первому зренью» - рациональному познанию, также не отвергаемому им); «Две музы» (СгН 50); «День и ночь» (Ар. 13-14); «Земное в небесном» (ПзГВ 75-76), «В раю и в аду» (ИзГВ 112-113), «Душа или маска» (ДиСО 18) и др. Действительно, отмечаемая всеми философичность лирики Перелешина, в частности, проявляется и в том, что он - поэт не столько «ответов», сколько «вопросов», поскольку на один и тот же вопрос в разных произведениях или разные периоды его твс учества можно найти разные, подчас взаимоисключающие, и уже потому далеко не окончательные ответы.
В целом же антитеза у Перелешина по своей природе и художественной функции близка его метафоре: он предпочитает разворачивать одну центральную антитезу в ряде подчиненных ее логике образов, образующих пары-оппозиции.. Так, в стихотворении «Две руки» (ДУ 10 , РПГК 46-47) противопоставлены правая и левая руки: правая - связанная с началом ratio, левая - с эмоциональной стихией, стихией страсти. При этом первые три строфы стихотворения (два катрена и замыкающий их дистих) посвящены деснице, а левые (та же формула: 4+4+2) - шуйце, но между ними устанавливается своеобразный антитетический параллелизм: правая рука - «любимых книг еще не разлюбила», левая - «захлопывает переплеты», правую «осязаемая красота ... томить и радовать умеет», левая - «гасит, мрамор расколов иль глину, Накопленный для Галатеи жар», правая «для пожатий дружеских ... по-старому надежна и сильна», левая же - «враг, что мстит исподтишка» и т.д. Подобная архитектоника обусловливает ощущение некоторой сдержанности, даже рационалистичности поэзии Перелешина: тема тщательно раскрывается, исследуется в разных аспектах, стихотворения, как правило, структурно очень четко простроены
Столь же сдержан поэт и в области стиля: в основном лексический состав его произведений стилистически нейтрален. Перелешин очень аккуратно вводит в свои произведения архаизмы либо, наоборот, слова разговорные или, тем более, бранные. Причем можно заметить некоторую эволюцию его стиля. В ранних сборниках поэта, особенно в произведениях на религиозную тематику, поэт больше склонен к архаизированной, «высокой», книжной лексике: «воздивает», «доселе», «блажен», «древо» и т.п. Скажем, в раннем стихотворении «Соблазн» (В пути 38, РПГК 31-32) введены слова и словосочетания «внемлешь», «не отвращай слуха», «ужель», «клясть», «плоти волхвовакье», «узрит», «данник». В поздних же книгах Перелешин лексикон поэта существенно обновляется и, можно сказать, обмирщается, что особенно коснулось произведений последних двух его сборников: «рвота», «мегера», «чертовщина». Не избегает поэт и бранных экспрессивно-выразительных слив: «суки», «дрянь», «сволочь», нередко играет на стилистических контрастах: Наяву - атлет чистоплотный - Толстолапый мужик, не тронь, А в виденьи - гнусный, тошнотный, Источающий только вонь. ("Memento visionem" - ДиСО 26) Здесь рядом с поэтизмами «виденье», «источающий», изысканной латиницей названия стоят слова совершенно иного стилевого ряда, что создает специфический эффект сарказма.
Еще одна отличительная особенность поэтики Перелешина - билингвизм, точнее - полилингвизм лексического состава его поэзии. Он активно вводит в свои произведения слова других языков. Особенно много у него слов латинских и китайских, причем нередко он их рифмует со словами родного языка, не всегда сохраняя при этом свою обычную верность точной рифмовке. К примеру, в стихотворении «Мукденский собор» (ЗнМ 20, ИзГВ 27-28, РГТГК 79) обыгрываются фрагменты католической молитвы: «Ave maris Stella» (рифма - «Мимо скал и мелей»), «Felix coeli porta» («Ты рукой простертой»), «Solve vincla reis» («Снизойди скорее»). Другой пример - стихотворение "Раненый король" (Кач. 36-37, РГТГК 173-174): здесь мы обнаруживаем латинские выражения «Introbio ad altare Dei» (рифма «Пальцами презренного злодея»), «Introbio ad altare Dei», «Qui Jaetificat», «Sursum corda». Есть у Перелешина и стихотворения, названные по латыни: «Ars longa» (В пути 28, РПГК 24), «Fons salutis» (Кач. 38, ИзГВ 37, РПГК 151) и др.
Вводит поэт и арамейские слова, звучащие в Библии: «Или, Или! лама свавхфани!» («Раскаяние» - Зап. 17), иврит «Bereishit barah Elohim» («В начале» - Кач. 34, ИзГВ 60). В стихотворении «Кольца» (Зап 21, РПГК 136) используется значение выгрг жированного на перстне китайского иероглифа «фу» - «счастье». Другое стихотворение, включающее в себя китайские слова - «Пекин» (СгН 23): в него вводятся слова «чи» (рифма «чесучи») - мера измерения, название улицы «чжи жу фа» (рифма - «строфа»). А в сонете «В разлуке» обыгрывается китайская поговорка «И-е-сань-цю»: «И-е-сань-цю - одна ночь (в разлуке тянется) три осени. Китайская поговорка. В конце сонета перевертываю ее: «Три осени (пролетают, как) одна ночь» - поясняет автор в эпиграфе. Действительно, сонет получает кольцевую композицию, за счет того, что первая строка начинается со слов «И-е-сань-цю. Одна лишь ночь в разлуке...», а последняя - « Но вечностям положено осенним / Как та же ночь, мелькать. Сань-цю-и-е» (рифма - «житие») Впрочем, на удивление, в «китайских» стихах Перелешина не так много «китаизмов».
Жанровое своеобразие лирики В. Перелешина
Теме изгнания посвящено и другое стихотворение, преподнесенное Лидии Хаиндровой, - «На далекой параллели» (Зап. 53). Стихотворение « Картина» (ЗнМ 24-25, ТР 52-53, РПГК 84-85), описывающая произведение китайской живописи, своим посвящением обращено еще к одной поэтессе русского Харбина - М.П.Коростовец, возможно, потому, что для нее тоже характерно в стихах живописать чужую, но ставшую близкой культуру (см. напр. ее стихотворение «Китайская шкатулка» - РУССКАЯ ПОЭЗИЯ КИТАЯ 2001, с.254). Из прочих известных адресатов посвящений стихов Перелешина - поэт и критик Юрий Иваск, которому преподнесено по крайней мере 3 стихотворения. Одно из них - «Орхидея» (Зап. 43). Образ цветка в стихотворении приобретает негативный, декадентский оттенок, несет оттенок неподлинности и сопряжен с образами «бесноватой Саломеи»: Орхидея - лживо-тигровая, лепестки - подделки сиреней, а по ним - насечка багровая, крап и опийный дым курений.
Это одно из самых туманных, загадочных стихотворений Перелешина, стихи которого обычно прозрачны для понимания. Образ орхидеи в узком кувшине - «томной смертницы» - образ грешной женщины, чересчур вольной в своих поступках, образ Саломеи и Магдалины до покаяния. Выброшенная из кувшина поутру орхидея - то ли умерла, то ли обрела свободу от своего двусмысленного существования. Можно предположить, что, как и в случае со стихотворением «Вячеслав Иванов», В.Перелешин в «Орхидее» пытается передать специфический стиль поэзии автора, которому стихотворение посвящено: сам Ю.Иваск следующим образом характеризовал собственную творческую манеру: «Исчерпывающего определения нет ... Некоторые признаки маньеризма. Это игривость, резвость, бравада, акробатика, поза, экивок, иногда - извращенность, декадентство ... не исключает искренности, порывов, верований. Еще двусмысленность, формализм - обнажение приемов, экспериментализм ... Каждый художник - играющий человек ... , но маньерист - в большей степени, чем все артисты» (ИВАСК 1970, с. 172). Не случайно и посвящение Ю.Иваску стихотворения «Читая Константина Леонтьева» (Ар.47): Ю.Иваск - автор книги «Константин Леонтьев (1831-1891): Жизнь и творчество», печатавшейся в первой половине 60-х годов в журнале «Возрождение» и переизданной отдельной книгой в
Берне в 1974 году, уже после написания Перелешиным его стихотворения. Наконец, вполне тематически согласуется с творчеством Иваска, поэта- метафизика, и посвященное ему стихотворение «Земное в небесном» (ИзГВ 7576): в нем цоэт взыскует гармонии земного и небесного, известной в «первобиблейские» времена и утраченной - в наши .
Рядом со стихотворениями, развивающими традиции любовного и дружеского послания, у Перелешина стоит еще один жанр - стихотворение- молитва. Особенно часто к этой форме поэт прибегал в первых своих трех сборниках, созданных тогда, когда он был на пути к монашескому постригу - и когда писал стихи под именем монаха Германа. Большинство из стихотворных молитв Перелешина отвечают канону жанра: в них звучат мотивы самоумаления, покаяния, отречения от мирских благ и искушений, мольбы о благодати и прощении (см. напр. «Ночное» - В пути 34-35, РГТГК 38-39; «Молитва» - Ду 29, ТР 37, ИзГВ 26, РПГК 67-68, «Томление» - ЗнМ 27, РПГК 81-82). Эти стихотворения пронизаны библейской образностью, реминисценциями, символикой их отличает несколько архаизированный слог, с обилием церковнославянизмов. В стихотворении «Звезды» (Кач. 23, РПГК 117-118) с прямым молитвенным словом герой обращается к Богоматери, прося Ее защитить мир от звездных воздействий (Марса, Венеры, Меркурия, Урана): здесь внехристианской, коренящейся в античности и древних восточных мистических учениях астрологии, органичивающей свободу человека предопределенностью звездного расклада, противопоставлено христианское мироощущение, утверждающее свободу нравственного и религиозного выбора человека, а потому возлагающее на него всю полноту ответственности за свою жизнь. Интересно, что поэтом-католиком, да к тому же еще на то время монахом (1943 г.), Матерь Божия названа согласно православной традиции Богородицей. Наконец, в позднем стихотворении «О грехе» (Ар. 26) герой молит о заведомо предосудительных с точки зрения христианских добродетелей вещах - и сам осознает их греховность.
Помимо прочих нестрогих классических жанров, Перелешин предпочитает также жанр элегии. Среди опытов данной формы у поэта особенно интересно стихотворение «Элегия» (В пути 42, РПГК 25), написанное элегическим дистихом - парным чередованием гекзаметра и пентаметра : Ветер торопит на юг; высыхают прощальные слезы, Миг, - и подымет матрос якорь тяжелый со дна. Снятся уже парусам золотые морские просторы, Волны уже о корму пенные чешут хребты. Будешь ты слушать теперь нереид и веселых тритонов, Будешь следить, как вдали тонет в волнах Фаэтон. Кто же, о кто же другой повторит вас, античные ритмы. Снежным седым небесам милой суровой страны?
Использование нечастого в поэзии XX века античного размера не кажется здесь обычной стилизацией - оно подкреплено и жанром стихотворения (элегия), и его античным антуражем (нереиды, тритоны, Фаэтон), и элегическим настроением (сожаление о покидаемой земле). Наконец, выбор элегического дистиха согласуется и с финальной мыслью произведения: поэт ощущает себя одним из последних наследников классической традиции. Вынужденный оставить родную страну, он скорбит о том, что на родине некому будет эту традицию продолжить. Необходимо отметить, что противопоставление родины и чужбины происходит не по оси «Восток - Запад» (как это традиционно для эмигрантской поэзии), а по оси «Север - Юг» - оппозиция, характерная не только для Перелешина, но и для одного из первых поэтов-эмигрантов Публия Овидия Назона, автора «Скорбных элегий» и «Писем с Понта», правда, по сравнению с элегиями римского поэта, эта оппозиция «перевернута».
Метрический и строфический репертуар поэзии В. Перелешина
В области рифмы Перелешин был не меньшим пуристом, чем в области лексики или строфики. Он, за редким исключением, избегал рифм «изношенных» или банальных, в том числе и пресловутых «глагольных», высмеянных еще А.С.Пушкиным. Практически нет у него и так называемых «белых» (безрифменных) стихов, за исключением тех случаев, когда того требует выбранная метрика (к примеру, гекзаметр) или если это перевод (к примеру «Из слышанного. Стихотворение Jly Синя» - ЮД 37). Поэт предпочитает рифмы точные, полногласные, глубокие, он даже обыграл эту свою склонность в стихотворении «Верховья» (Зап. 12): «Ночь. В расселину слов / шелестит пианино / томной музыкой слов: / clandestino-destino, // подвесной - и весной, / неревнивой - и нивой, / показной - и казной / несчастливой - и сливой». Дактилические рифмы в поэзии Перелешина нечасты, поскольку, видимо, не позволяют добиться необходимой чистоты рифменного созвучия, не прибегая к словам одной части речи и грамматической формы (скажем, к глаголам). Так, в сборниках «В пути» и «Добрый улей» дактилические клаузулы отсутствуют вообще; в книге «Южный дом» - уже 3 стихотворения из 30-ти; в «Заповеднике» соотношение стихотворений с дактилической и с иными рифмами еще больше - 12 из 69-ти, тогда как к последним сборникам их число вновь падает: так, в книге «Двое и снова один» всего одно подобное стихотворение на 32 входящих в сборник. Случаев гипердактилической рифмы у Перелешина нами не обнаружено.
Рифм нетрадиционных, экспериментальных, в поэзии Перелешина еще меньше - их буквально можно пересчитать по пальцам. Особенно это касается твердых жанровых форм. Здесь очень интересно мнение самого поэта, критически оценившего опыты переложений португальских поэтов советскими переводчиками: «По своей природе сонет должен быть чеканным, точным, строгим, сонарным. В переводе португальских сонетов применение «грязных» рифм недоп) стимо. Любая затасканная рифма («кровь - любовь», «она - весна - луна - волна») лучше, чем самый оригинальный рифмоид («пружинам - жиром»): лучше, ибо ближе к подлиннику» (ПЕРЕЛЕШИН 1975, с.294).
Поэтому так резко осудил Перелешин автора венка сонетов Владимира Батшева в своем неопубликованном «Сонете» :
Нетрадйционные рифмы Битюг тебя лягнул, зафордыбачив, Потом побил сердитый управдом? Так привяжи ко лбу пузырь со льдом, Но не пиши сонетов, битый Батшев! А может-быть, впустую порыбачив Над сулемой отравленным прудом, Ты возомнил, что ты - Сюлли Прюдомм, И воспарил, сонет пересобачив? Поверь, ни Дант, ни Гете, ни Гафиз не ведали о рифмах «пить - карниз», «Заре-жалеть», «назначен» и «миндалин». Не знал и я. Но в рифме нужен сдвиг, Так вызволи ее из-под развалин, В бьпу - питух, в сонете - большевик! 27 ноября 1973 года.у Перелешина появляются лишь в 70-е годы и почти целиком связаны с несколькими, подчеркнуто экспериментальными стихотворениями. Неожиданной кажется неравносложная рифма «музыкой / русской» в достаточно строгом стихотворении «Карнавал» (Кач. 6, ИзГВ 59)
Как своеобразный эксперимент, в основе которого лежит определенное задание, выглядит небольшое стихотворение «Ловцы» (Кач. 7, ИзГВ 57): Лучше не заводи Бесполезного невода: Не нужны невода! Хоть крапива - не заводи, А песок - не вода, Без сетей, и на отмели Мы у стольких, смотри, Не свободу ли отняли? Столько рыбы! Не сотня ли Да полсотни, да три? Рифмовка данного стихотворения соответствует следующей схеме: аБдбАдбВдгВдВдг, где Бд и Вд - дактилические рифмы. Причем «б» и Вд здесь - рифмы составные, каламбурные («невода - не вода»; «отняли - не сотня ли»), а пара «а - Ад» и «б - БД» - рифма омографическая (не заводИ - не зАводи, нЕвода - невод А, не водА). Более того, в случае пары а Бд («не заводи - невода») мы имеем дело еще и с диссонансной рифмой (совпадения звукового комплекса из согласных при различных ударных гласных в клаузуле) . Стихотворение обыгрывает евангельский сюжет (Иоан. 21:1-11) об учениках Христа, с помощью воскресшего Учителя поймавших на Тивериадском море 153 рыбы. Рыба в христианской символике означает человеческую душу, которую проповедники - рыбари улавливают в свои сети. Рифмическая вязь в стихотворении «Ловцы» на своем уровне передает ощущение переплетения нитей, из которых сплетены сети . Другой пример диссонансной рифмы находим в стихотворении «Дождь» (Кач. 11, ИзГВ 53): Сам на голой доске, голова на камне. д Взяв разбег по верхам исхудалых рощ, Сквозь решетку стучится весенний дождь. Для чего, незванный, пришел ко мне?
В данном случае можно предположить и просто ошибку в ударении, простительную для автора-эмигранта («на камнЕ» вместо «на камне»). Однако несмотря на оторванность от Родины, Перелешин до конца дней великолепно владел родным языком; к тому же стихотворение взято из сборника «Качель», где встречаются подобные случаи диссонансов . В том же произведении третья строфа с опоясывающей рифмовкой дает еще один пример диссонанса: «инок - клинок - венок - снежинок» . Возможная схема этой рифмовки - АааА, где АА и аа - точные рифмы, а Аа - диссонансные. Наконец, на диссонансах построено одно из самых изощренных по своей рифмовке стихотворений «После заката» (Кач. 43, ИзГВ 54): Вечереет. Шальные краски Переходят в полутона. Снова пустит кактус ростки Одного и того же сна, - Одного и того же стона.
Фоника и просодия лирики В. Перелешина
В области рифмы Перелешин был не меньшим пуристом, чем в области лексики или строфики. Он, за редким исключением, избегал рифм «изношенных» или банальных, в том числе и пресловутых «глагольных», высмеянных еще А.С.Пушкиным. Практически нет у него и так называемых «белых» (безрифменных) стихов, за исключением тех случаев, когда того требует выбранная метрика (к примеру, гекзаметр) или если это перевод (к примеру «Из слышанного. Стихотворение Jly Синя» - ЮД 37). Поэт предпочитает рифмы точные, полногласные, глубокие, он даже обыграл эту свою склонность в стихотворении «Верховья» (Зап. 12): «Ночь. В расселину слов / шелестит пианино / томной музыкой слов: / clandestino-destino, // подвесной - и весной, / неревнивой - и нивой, / показной - и казной / несчастливой - и сливой». Дактилические рифмы в поэзии Перелешина нечасты, поскольку, видимо, не позволяют добиться необходимой чистоты рифменного созвучия, не прибегая к словам одной части речи и грамматической формы (скажем, к глаголам). Так, в сборниках «В пути» и «Добрый улей» дактилические клаузулы отсутствуют вообще; в книге «Южный дом» - уже 3 стихотворения из 30-ти; в «Заповеднике» соотношение стихотворений с дактилической и с иными рифмами еще больше - 12 из 69-ти, тогда как к последним сборникам их число вновь падает: так, в книге «Двое и снова один» всего одно подобное стихотворение на 32 входящих в сборник. Случаев гипердактилической рифмы у Перелешина нами не обнаружено.
Рифм нетрадиционных, экспериментальных, в поэзии Перелешина еще меньше - их буквально можно пересчитать по пальцам. Особенно это касается твердых жанровых форм. Здесь очень интересно мнение самого поэта, критически оценившего опыты переложений португальских поэтов советскими переводчиками: «По своей природе сонет должен быть чеканным, точным, строгим, сонарным. В переводе португальских сонетов применение «грязных» рифм недоп) стимо. Любая затасканная рифма («кровь - любовь», «она - весна - луна - волна») лучше, чем самый оригинальный рифмоид («пружинам - жиром»): лучше, ибо ближе к подлиннику» (ПЕРЕЛЕШИН 1975, с.294).
Поэтому так резко осудил Перелешин автора венка сонетов Владимира Батшева в своем неопубликованном «Сонете» : Битюг тебя лягнул, зафордыбачив, Потом побил сердитый управдом? Так привяжи ко лбу пузырь со льдом, Но не пиши сонетов, битый Батшев! А может-быть, впустую порыбачив Над сулемой отравленным прудом, Ты возомнил, что ты - Сюлли Прюдомм, И воспарил, сонет пересобачив? Поверь, ни Дант, ни Гете, ни Гафиз не ведали о рифмах «пить - карниз», «Заре-жалеть», «назначен» и «миндалин». Не знал и я. Но в рифме нужен сдвиг, Так вызволи ее из-под развалин, В бьпу - питух, в сонете - большевик! 27 ноября 1973 года.
Нетрадйционные рифмы у Перелешина появляются лишь в 70-е годы и почти целиком связаны с несколькими, подчеркнуто экспериментальными стихотворениями. Неожиданной кажется неравносложная рифма «музыкой / русской» в достаточно строгом стихотворении «Карнавал» (Кач. 6, ИзГВ 59) .
Как своеобразный эксперимент, в основе которого лежит определенное задание, выглядит небольшое стихотворение «Ловцы» (Кач. 7, ИзГВ 57): Лучше не заводи Бесполезного невода: Не нужны невода! Хоть крапива - не заводи, А песок - не вода, Без сетей, и на отмели Мы у стольких, смотри, Не свободу ли отняли? Столько рыбы! Не сотня ли Да полсотни, да три? Рифмовка данного стихотворения соответствует следующей схеме: аБдбАдбВдгВдВдг, где Бд и Вд - дактилические рифмы. Причем «б» и Вд здесь - рифмы составные, каламбурные («невода - не вода»; «отняли - не сотня ли»), а пара «а - Ад» и «б - БД» - рифма омографическая (не заводИ - не зАводи, нЕвода - невод А, не водА). Более того, в случае пары а Бд («не заводи - невода») мы имеем дело еще и с диссонансной рифмой (совпадения звукового комплекса из согласных при различных ударных гласных в клаузуле) . Стихотворение обыгрывает евангельский сюжет (Иоан. 21:1-11) об учениках Христа, с помощью воскресшего Учителя поймавших на Тивериадском море 153 рыбы. Рыба в христианской символике означает человеческую душу, которую проповедники - рыбари улавливают в свои сети. Рифмическая вязь в стихотворении «Ловцы» на своем уровне передает ощущение переплетения нитей, из которых сплетены сети . Другой пример диссонансной рифмы находим в стихотворении «Дождь» (Кач. 11, ИзГВ 53): Сам на голой доске, голова на камне. д Взяв разбег по верхам исхудалых рощ, Сквозь решетку стучится весенний дождь. Для чего, незванный, пришел ко мне?
В данном случае можно предположить и просто ошибку в ударении, простительную для автора-эмигранта («на камнЕ» вместо «на камне»). Однако несмотря на оторванность от Родины, Перелешин до конца дней великолепно владел родным языком; к тому же стихотворение взято из сборника «Качель», где встречаются подобные случаи диссонансов . В том же произведении третья строфа с опоясывающей рифмовкой дает еще один пример диссонанса: «инок - клинок - венок - снежинок» . Возможная схема этой рифмовки - АааА, где АА и аа - точные рифмы, а Аа - диссонансные. Наконец, на диссонансах построено одно из самых изощренных по своей рифмовке стихотворений «После заката» (Кач. 43, ИзГВ 54): Вечереет. Шальные краски