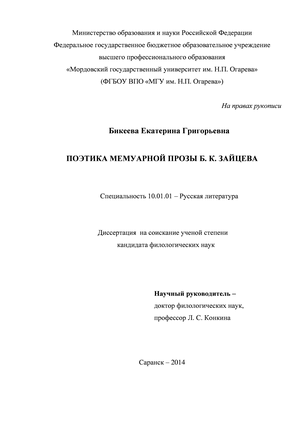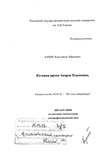Содержание к диссертации
Введение
1. Жанровое своеобразие мемуарной прозы Б. К. Зайцева 17
1.1. Мемуары и дневники Б. К. Зайцева в ряду художественно-документальных жанров в литературе русской эмиграции первой волны 17
1.2. Жанровый состав мемуарных книг Б. К. Зайцева «Москва» и «Далекое» 33
1.3. Мемуарный фрагмент в составе дневников «Странник», «Дневник писателя», «Дни» 56
2. Специфика мемуарного повествования в книгах Б.К.Зайцева «Москва» и «Далекое» 76
2.1. Сюжетообразующая функция хронотопа «Москва – Далекое» и особенности композиции 76
2.2. Изобразительная и психологическая функции хронотопа в мемуарных книгах «Москва» и «Далекое» 95
2.3. «Чужое» слово в повествовательной структуре книг Б. К. Зайцева Москва» и «Далекое» 107
3. Автор-повествователь и мемуарный герой в мемуарной прозе Б. К. Зайцева 125
3.1. Специфика построения образа мемуарного героя в мемуарной прозе Б.К.Зайцева: характеры и обстоятельства 125
3.2. Автор-повествователь в мемуарных книгах Б.К.Зайцева и в дневниковых циклах 150
Заключение 172
Библиографический список
- Жанровый состав мемуарных книг Б. К. Зайцева «Москва» и «Далекое»
- Мемуарный фрагмент в составе дневников «Странник», «Дневник писателя», «Дни»
- Изобразительная и психологическая функции хронотопа в мемуарных книгах «Москва» и «Далекое»
- Автор-повествователь в мемуарных книгах Б.К.Зайцева и в дневниковых циклах
Жанровый состав мемуарных книг Б. К. Зайцева «Москва» и «Далекое»
Мемуарная литература, укоренившись в отечественной литературной традиции в начале ХVIII в., на протяжении XIX и XX столетий привлекала к себе значительное число авторов. С появлением этого вида автобиографической и документальной прозы в новой для себя роли мемуаристов выступали самые разные люди – общественные и политические деятели, люди духовного звания, участники и свидетели важнейших исторических событий, деятели культуры, науки, представители светской элиты, наконец, литераторы – писатели, поэты, литературные критики.
Воспоминания, или мемуары (от фр. mmoire), – повествование в форме записок от лица автора и одновременно участника или очевидца событий, о которых идет речь. По форме изложения, как правило, от первого лица, по отсутствию развернутых сюжетных линий, фактографичности, основанной на событиях собственной биографии, и хроникальности воспоминания очень тесно примыкают к дневнику и автобиографии. Поэтому иногда трудно провести четкую грань между дневником, мемуарами и автобиографической прозой.
Начало изучению поэтики и художественного своеобразия произведений, относящихся к автобиографическим и документальным жанрам, в отечественной науке о литературе положили представители формальной школы. Так, Ю. Н. Тынянов, прослеживая движение литературных форм в русской литературе от ХVIII к началу ХIX в., указывает на появление малых жанров, в которых аллегория уступает место психологизму, а «грандиозная» эмоция – эмоции «малой». И «самые податливые» явления в этом процессе находятся в быте – в письмах, в альбомах и дневниках, в салонных разговорах «милых дам» и т.д.: все они становятся фактом литературным. Здесь, считает Ю. Н. Тынянов, и были найдены самые податливые приемы письма, оформляющие недоговоренность, фрагментарность, намеки, ввод литературных «мелочей» («безделки», буриме, шарады и т.д.), присутствие разного рода бытовых деталей [см.: 239, с. 267].
До середины XVIII – начала XIX в. весь этот материал стоял вне магистральной линии движения литературы. Но позднее все эти жанры – письма, дневники, альбомные «мелочи» и т. д. постепенно передвигаются в самый центр литературы. Так «исчезала и изгонялась манерность, изгонялась перифраза, шла эволюция к грубой простоте… Это была не безразличная простота документа, извещения, расписки – это была вновь найденная литературная простота. В жанре по-прежнему подчеркивалась его внелитературность, интимность, но она подчеркивалась нарочитой грубостью, интимным сквернословием, грубой эротикой» [см.: 239, с. 268]. Так, по мнению Ю. Н. Тынянова, формируется поэтика жанров «о себе», в которые включаются автобиографии, письма и воспоминания, дневники, записные книжки, автобиографические и биографические очерки, а также другие документальные свидетельства о себе, о своих современниках, о произошедших событиях. И все это многообразие литературных форм, или «литературных фактов», так или иначе становится явлением литературного процесса и требует определения своего места в нем и своей специфики как форм документально-мемуарной литературы.
В настоящее время отечественные исследователи активно изучают поэтику мемуарной прозы. Так, Г. Г. Елизаветина считает, что мемуары – это в большей степени воспоминания об исторических или общественно значимых событиях, автобиография – рассказ о собственном жизненном пути. Один из важнейших вопросов, который решался отечественной наукой, – жанровая природа мемуаров. А. Г.Тартаковский, автор книги «Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. От рукописи к книге» [см. : 226], а также О. В. Мишуков в монографии «Русская мемуаристика первой половины XIX века: проблемы жанра и стиля» [см. : 141], А. В. Антюхов в диссертационном исследовании «Русская мемуарно-автобиографическая литература XVIII века. Генезис. Жанрово-видовое многообразие. Поэтика» [см. : 289] касаются именно этой проблемы. Эти работы дают основание для исследования мемуарной литературы ХХ в. не только как явления литературной жизни, но и как жанрового феномена. О непроявленности жанровых границ мемуарной прозы писал И. О. Шайтанов в работе «”Непроявленный жанр”, или Литературные заметки по мемуарной форме» [см. : 275].
Е. Л. Кириллова определяет мемуарную литературу как метажанр с различными жанровыми модификациями и характерными жанрообразующими доминантами – «памятью» и «субъективностью» [см. : 305]. Е. Г. Местергази прежде всего выделяет документальное начало в литературе ХХ в., в том числе в мемуарной прозе [см. : 133, 317].
К началу ХХ в. «литература о себе» составляет значительный пласт, а в литературном процессе русской эмиграции «первой волны» в силу известных причин занимает исключительное место. К различным видам мемуарной литературы в этот период можно отнести исповеди, автобиографии, дневники, воспоминания, записные книжки, очерки, автобиографические романы и другие произведения. Написанные в разных жанрах, они имеют одну общую черту – документальную основу. Все они, как правило, основаны на событиях жизни их авторов, включая рассказ о процессе интеллектуального становления, духовно-мировоззренческих исканиях и т. д. от лица повествователя (Ich-erzhlung как формы романного повествования). Особенность такого повествования заключается еще и в том, что сведения о событиях, о которых идет речь, авторы не могут получить из каких-либо других источников, кроме собственной памяти. В настоящее время наметилась тенденция к изучению так называемой автобиографической и документальной литературы. И здесь возникают вопросы, связанные со структурой такого рода произведений и их элементами: соотношением «истины» и «вымысла», «художественности» и «документальности», «субъективного» и «объективного» [см. : 317, 324, 327].
Мемуарный фрагмент в составе дневников «Странник», «Дневник писателя», «Дни»
В зайцевских эссе, в которых присутствует мотив смерти или размышления о смерти, неизбежное в жизни каждого человека мемуарист пытается передать через дантовские образы: «…спустились мы в “бытие”. Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в “темный лес”. Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона. Не забыть Рафаэля. Не позабудешь Италии, и не разлюбишь ее» [4, т. 2, с. 465]. Эта нарочитая литературность письма, высокий слог, метафоричность изложения, недосказанность, составляющие основные поэтологические особенности подачи этого мотива, окрашивают его в просветленные тона.
Если обратиться к книге «Далекое», которая по времени ее создания приходится на послевоенные годы, то, действительно, мотив смерти, расставания «навсегда» присутствует в ней. Этот мотив неизбежен: уходило целое поколение. Но странным образом у Б. З. Зайцева, много писавшего о смерти близких и дорогих ему друзей, товарищей по литературному труду, по эмиграции, соотечественников и т. д., этот мотив всегда сопряжен не с апокалиптическими настроениями, а с мотивами памяти и «незабвения». Этим темам посвящены эссе «Возвращаясь от Всенощной», «О любви (Балтрушайтис)», «Памяти Ивана и Веры Буниных», «Еще о Пастернаке» и др. Размышления о вечном, о неизбежном нередко перетекают у Б. К. Зайцева в прощальное слово. Тон этих эссе ностальгически-прощальный: с русским Парижем, с теми, кто разделил с Зайцевым изгнание, и т. д.
Эссе «Возвращаясь от Всенощной» начинается очень просто, словами Веры Александровны Зайцевой: «Пойдем по rue de Passy…» Так, путь по улицам Парижа – rue Jean Bolonge, rue Vineuse, rue Singer и т. д. – становится прощальным словом. Каждое название улицы связано с дорогими для Б. К. Зайцева именами, и каждое название – воспоминание: «…здесь… прожили мы первые две недели эмигрантской жизни», «вот там, на улице Colonel Bonnet, жили Мережковские», «на углу Raynouard u Chernoviz заседал в пятом этаже “Илюша” Фондаминский», всем помогал, всех устраивал, мирил, был каким-то премудрым Соломоном “Современных записок”…» и т. д. [4, т.3, с. 447].
И постепенно приходит воспоминание: о людях – Мережковский и Гиппиус – «Зина, а к чаю есть пирожные?», Осоргин – «приятель молодых лет», Павел Николаевич Апостол, «Илюша» Фондаминский – погибшие при немцах. На станции метро Exelmans «вспоминали о Шмелеве – недавно еще “обитал” он в этих краях» [4, т. 3, с. 447]. Прием «дороги» дает возможность мемуаристу припомнить многих, которых уже нет. Но он приходит к определенному заключению: «Я довольно давно заметил, что четыре старых русских писателя, все из Москвы, все Россией рожденные и в ней сложившиеся, живут по линии метро Pont de Sevres – Montreuil. Бунин ближе всех к центру, затем Ремизов, Шмелев, дальше всех я» [4, т. 3, с. 448].
И печальное заключение оставляет светлый след: «Теперь остался я один. Но это все ничего. Не вечно же тут жить. Не будет и меня. Жизнь идет – “жили-были”. Не нами литература началась, не нами кончится. Все хорошо, все в порядке» [4, т.3, с. 448]. Эти слова полны философского покоя, человеческого оптимизма и твердой уверенности в будущем. Мемуарист понимает, что жизнь кончается, и на знакомых улицах уже нет знакомых людей: все ушли навсегда – завершились их тревоги, надежды, чаяния, страсти, ссоры, маленькие слабости и т. д. Остается только одно – жизнь в будущем.
Эссе «О любви», посвященное памяти Ю. К. Балтрушайтиса, также проникнуто мотивом расставания, который формирует и его интонацию. Здесь Б. К. Зайцев говорит проникновенные слова и о самом поэте, которого сравнивает с Тютчевым – «иногда Тютчев вспоминается», но тут же, как бы «одергивая» себя: «Но в обаянии словесном кому угнаться за Тютчевым? И страстности, кипения тютчевского (в любви) тоже нет». Но постепенно мысль «о любви» переходит в другую плоскость – в размышления о жене Балтрушайтиса – Марии Ивановне: «С виду Мария Ивановна, оставшись одна, не изменилась: такая же спокойная и приветливая, негромко говорящая на отличном московском наречии (урожденная Оловянишникова), какая-то “основательная”, “дос-тойная”»[4 , т. 3, с. 442].
Эссе завершается размышлением о русских женах, вернее, вдовах: «К гордости, чести литературы русской и русской женщины, я вижу ряд преданных, смиренных в любви к ушедшим вдов. Имен не называю. Но бескорыстие, благоговение их единит. Творчество ушедшего друга – их жизнь. Они собирают письма, тратят последнее на издание книг, пишут воспоминания, иногда обрабатывают недоконченное» [4, т. 3, с. 442].
И вновь рассуждение о кресте, жизни, долге и любви: «Годами нести крест одинокой, достойной жизни, годами трудиться не для себя, а для славы ушедшего, годами хранить могилу, ее украшать, если можно, и годами оберегать память – это и есть та любовь, над которой ничто не властно» [4, т. 3, с. 442]. Этими словами завершается эссе, формируя его кольцевую композицию.
В книге «Далекое» тема прощания находит свое воплощение в жанре некролога. Это – не только «О любви», но и «Дух голубиный», «Памяти Ивана и Веры Буниных», «П. П. Муратов» и др.
Глава «Дух голубиный (К. В. Мочульский)» также слово о человеке уже ушедшем. От традиционного некролога «Дух голубиный», как и другие, подобные главы, отличается свободным построением, основанным на мотиве памяти, прихотливо развивающегося «свитка воспоминаний»: первое впечатление, жизнь в оккупированном Париже, когда осталась «кучка людей» «страннического и вольного духа, единившиеся в религии и искусстве» [4, т. 3, с. 410]. Далее рассказ о том, как вместе жили летом в Бургундии, как читали Данте, как Мочульский рассказывал о Достоевском. Потом рассказ о семье, о корнях, о жизни и смерти… «Да, жизнь любил. Но в предсмертных томлениях все принял и примирился. … От Бога и смерть – радость. В письмах же, чем далее, чем рука слабее, тем тон выше, обращенья нежнее. (В последнем уже прямо: “Возлюбленные мои…”)» [4, т. 3, с. 413].
Изобразительная и психологическая функции хронотопа в мемуарных книгах «Москва» и «Далекое»
В повествовательной структуре мемуарных книг Б. К. Зайцева значительное место занимают реминисценции, цитаты, литературные ассоциации и другие явления повествовательной структуры, которые, взятые в совокупности, могут быть охарактеризованы как «чужое» слово (М. М. Бахтин), или неавторское слово. «Прямое» авторское слово (М. М. Бахтин) было рассмотрено в предыдущем разделе данной работы при анализе заголовочного комплекса: названий обеих книг, их глав и отдельных разделов. В данной части работы рассмотрены присутствие и функции так называемых «чужих» слов в повествовательной структуре мемуарных книг Б. К. Зайцева.
Проблема неавторского, или «чужого» слова, была поставлена М. М. Бахтиным в рамках теории романного слова. «Чужое» слово – это слово другого лица, не автора, введенное в текст произведения. Обобщая положения, выдвинутые М. М. Бахтиным в связи с рассмотрением слова в романах Достоевского, можно сказать, что ученый выделял два типа слов – «изображающее» и «изображенное», которые реализуют речь повествователя и речь героев, то есть «чужую» по отношению к повествователю.
В основе взаимодействия «своего» и «чужого» слов, считал М. М. Бахтин, лежат диалогические отношения самих высказываний, в которых раскрываются смысловые позиции автора и его героев. Не менее важным для данной работы следует считать утверждение М. М. Бахтина, что «диалогические отношения возможны и к своему собственному высказыванию, к отдельным его частям и к отдельному слову в нем, если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внутренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним» [28, с. 315]. При этом многие слова в повествовании могут быть обращены к читателю – «однонаправленное», а также могут выступать как направленные на самого говорящего, становясь двуголосыми словами. Двуголосое слово рождается в условиях диалогического общения, а мемуарный автор, ведя диалог с самим собой с разных временных позиций (или «точек зрения»), вольно или невольно расставляет существенно важные, прежде всего, для него самого, акценты.
«Чужое» слово графически может быть выделено или не выделено, но оно всегда должно быть прочитано как таковое, потому что независимо от того, выделено ли оно самим автором или нет, оно всегда находится в диалогических отношениях со словом повествователя. В ряду так называемых «чужих» слов выделяется несколько типов – эпиграфы, речь персонажей, цитаты, вставные мнимые или подлинные документы и т. д. Проблема «чужого» слова в том виде, как она была поставлена М. М. Бахтиным, актуальна и для мемуаров Б. К. Зайцева.
Обратимся к анализу слов такого типа в мемуарных книгах Б. К. Зайцева и их роли в тексте. Одним из ярчайших примеров «чужого» слова в авторском тексте являются эпиграфы. Эпиграф относят к так называемому «заголовочному комплексу», и в современной отечественной науке о литературе утверждается, что эпиграф представляет явление, без которого трудно представить литературу ХХ в. Обычно эпиграф рассматривается в структурно-функциональном аспекте, как и во втором разделе первой главы данного ис-108 следования., где указано, что заголовок, как и эпиграф и предисловие, помогают читательскому восприятию прочитанного, в том числе и мемуарного повествования.
В данном разделе эпиграф рассматривается как одна из форм «чужого» слова, направленного на углубление смыслового наполнения текста мемуаров. К главам книги «Москва» использовано всего четыре эпиграфа, в книге «Далекое» – пять. В подавляющем большинстве случаев это цитаты из текстов разных авторов, то есть Зайцеву не принадлежат. Только в одном случае это – перевод нескольких терцин из «Божественной комедии» Данте, сделанный самим мемуаристом.
Эпиграф всегда считался важным элементом большой прозаической формы, прежде всего, романа, причем элементом, требующим тщательной отделки. Так, в рассказе «Даниэль Жовар, или Обращение классика» Т. Готье есть такие слова: «Единственная профессия, которая не требует обучения, это профессия писателя … вы сдираете листик здесь, листик там, составляете предисловие и послесловие, подписываетесь каким-нибудь псевдонимом, объявляете, что вы померли от чахотки или всадили себе пулю в лоб, подаете вашу стряпню с пылу с жару, и в итоге вы сфабрикуете из всего такой смачный успех, какого не видел мир. Есть одна вещь, которая требует тщательной отделки: эпиграфы. Ставьте эпиграфы на английском, немецком, испанском, на арабском даже; если вам удастся раздобыть эпиграф на китайском языке, это возымеет чудесное действие,» [см. : 52].
Можно уверенно утверждать, что эпиграф программирует читательское внимание и придает главе дополнительное смысловое наполнение. Так, к рассказу о бесславном выступлении В. Я. Брюсова на торжествах, посвященных открытию памятника Гоголю на Пречистенском бульваре, дан эпиграф из стихотворения Брюсова «Бальдеру Локки»:
Но последний царь вселенной, Сумрак! Сумрак! – за меня. На собрании Брюсов прочитал доклад на тему: «Испепеленный. К харак-109 теристике Гоголя», который, по словам мемуарист», был очень плохо принят: он произнес речь «н е д л я юбилея. Не того ждала публика, наполнявшая зал. Понимал ли он это? Вряд ли. Душевного такта, как и мягкости, никак от него ждать нельзя было. … Раздались свистки. Свистали дружно, в этом нет сомнения. Брюсов побледнел, но продолжал … » [4, т. 2, с. 406].
В данном случае эпиграф, с одной стороны, отчетливо подчеркивает самомнение Брюсова, что далее отражено и в тексте мемуаров: «Казаться магом, выступать в черном сюртуке со скрещенными на груди руками “под Люцифера” доставляло ему большое удовольствие. Родом из купцов, ненавидевший “русское”, смесь таланта с безвкусием, железной усидчивости с грубым разгулом… Тяжкий, нерадостный человек» [4, т. 2. с. 405]. С другой стороны, данный эпиграф выражает и отношение к Брюсову самого мемуариста: «Тяжкий, нерадостный человек» и портрет его дается почти в гротесковом виде: «Помню его спину, фрак, выдававшиеся скулы, резкий, как бы тявкающий голос» [4, т. 2, с. 406]. Таким образом, в воспоминаниях Б.К.Зайцева этот так называемый «царь вселенной» несколько окарикатурен.
Вместе с тем в большинстве случаев в своих характеристиках литераторов-современников Б. К. Зайцев, как правило, деликатен, сдержан, лаконичен. Даже портрет не вызывавшего его особых симпатий М. Горького у него не так карикатурен, как портрет Брюсова, данный в этом отрывке. В приведенном примере эпиграф эстетически и методологически оправдан и направлен на то, чтобы вызвать у читателя дополнительные ассоциации. Он выступает в роли своеобразного «пуанта», в котором совмещаются две точки зрения – автора-повествователя и его персонажа.
Следующие эпиграфы в книге «Москва» также представляют собой цитаты. Так, в главе «Мы военные. Записки “шляпы”», представляющей собой страницы воспоминаний Б. К. Зайцева о его учебе в Александровском военном училище, ассоциативные ряды, связанные с военной тематикой, нашедшей отражение, в том числе, и в русской литературе возникают довольно часто. Эпиграф воспроизводит строки из лермонтовского стихотворения «Бо-110 родино», причем подано оно в виде ротной песни с определенными звуковыми обозначениями и повторами: Скажи-ка, дядя, ве-едь недаром, Москва спале-е-нная пожаром, Французу отдана… Французу отдана. Мы шли Арбатом, возвращаясь в училище. Роту вел красивый прапорщик Николай Сергеич» [4, т. 2, с. 440].
«Наша рота певучая. Какие бы мы ни были “извозчики”, а поем, действительно, хорошо, и “жеребцы” нам завидуют. А под песню, даже на морозе, идти легче» [4, т.2, с. 439]. Как в самом названии главы «Мы военные. Записки “шляпы”», так и в последующем повествовании встречаются слова, выражающие армейский жаргон, – «шляпа» – неумелый, безнадежно штатский человек, с точки зрения профессионального военного. Это прозвище, как и прозвище «фараоны», то есть вновь прибывшие курсанты, или «портупеи», отражают характер военного быта, создают определенный колорит.
Рассказ о курсантских буднях вызывает в памяти Б. К. Зайцева – «шляпы» – непременную ассоциацию с Отечественной войной 1812 г. и с великим романом Л. Толстого, а потому в тексте мемуаров значительное место занимают реминисценции.
Автор-повествователь в мемуарных книгах Б.К.Зайцева и в дневниковых циклах
Едва ли не каждый рассказ о священнике завершается такими глубоко прочувствованными и умиротворяющими словами. В главе «Архимандрит Киприан» рассказывается о священнике, но и вся она проникнута светлым очарованием этим человеком: «Сложная и глубокая натура. Характер трудный, противоречивый, с неожиданными вспышками. Колебания от высокого подъема к меланхолии и тоске, непримиримость, иногда нетерпимость. Острое чувство красоты и отвращение к серединке. Мистик, одиночка, облик артистический, некое безошибочное благородство вкусов» [4, т. 3, с. 390].
К монахам или людям церкви у мемуариста было особое отношение. И поэтому страницы мемуаров, в которых речь идет о священниках, то есть о людях, духовно близких самому Б. К. Зайцеву, его голос становится особенно проникновенным, он часто обращается к некоторым деталям, и они всегда дополняют и завершают образ. Так, например, рассказывая об о. Киприане, мемуарист обращается к описанию его комнаты: «В комнате его всегда пахло ладаном, висели портреты Александра I, митрополита Филарета, Константина Леонтьева. Старинный образ, лампадки, стены все в книжных полках, в окнах зелень каштанов. Впечатление келии ученого монаха» [4, т. 3, с. 390]. Эти детали обстановки комнаты много говорят о человеке, который в ней живет. Например, упомянуты портреты, которые висели на стенах: Александра I, митрополита Филарета, философа и богослова К. Леонтьева. Каждый из них оставил глубокий след в русской истории, культуре и духовной жизни нации.
Важно, на наш взгляд, подчеркнуть особенность выстраивания образа мемуарного героя, его характера, его поступков, его речи. Здесь от автора не требуется художественного вымысла. Как правило, образ, «выстраивает» сама жизнь, и Б. К. Зайцев использует эти возможности в полной мере, в результате возникает живой и полнокровный образ человека, его судьбы с промахами, ошибками, успехами, удачами. Мемуарист только расставляет акценты и
Образы зайцевской мемуарной прозы были оценены уже в эмигрантской печати. Об этом писал герой его же, зайцевской мемуарной прозы – архимандрит Киприан. Он подчеркивал, что та манера, в которой писатель создает свои образы, отличает высокое мастерство в сочетании с высоким нравственным началом и исключительной человечностью.
В.Т. Захарова указывала, что одной из важнейших черт импрессионизма является «стремление автора к достоверности изображаемого, к правде реального человеческого бытия» [74 , с. 50]. Для мемуарной прозы Б.К.Зайцева такое стремление обусловлено особенностями мемуарного жанра, его изначальной направленностью на реалистичность, пропущенную через субъективность авторского восприятия.
Вывод, который следует сделать из приведенных аналитических разборов, заключается в следующем. Мемуарный герой создается Б. К. Зайцевым в реалистической манере, с которой писатель никогда не порывал, но одновременно и в характерных только для него формах, где глубоко личный, порой субъективный взгляд на человека, с опорой на сохранившееся в памяти мемуариста впечатления, преобладают.
Утверждение самого писателя, что он «начал с импрессионизма», нисколько не противоречит такому выводу, поскольку ретроспективный взгляд, характерный для мемуарного жанра, позволяет автору мемуарного повествования создать образ не только в достоверности событий жизни той или иной известной личности, но одновременно показать и свою собственную авторскую оценку. Между тем мемуарные образы, созданные Б. К. Зайцевым, отличаются разной интонационной окрашенностью – лирической, иронической, комической, драматической или трагической и т. д.
Зайцевские мемуарные герои очень реалистичны и одновременно ассоциативны. Они созданы через «припоминание» в их живой достоверности подробностей, деталей, обстоятельств, с одной стороны, и одновременно осмыслены в контексте уже прошедших лет. Порой на незначительном пространстве очерка или даже просто при упоминании кого-либо Б. К. Зайцеву удается создать завершенный образ человека, проживающего ту или иную жизнь во всех многочисленных перипетиях его судьбы. Важную роль в создании образа мемуарного героя играют портретное описание, детали внешности и особенностей характера человека, его пристра стий, причуд, симпатий или антипатий и т. д., в результате чего возникает ощущение полноты личности, ее завершенности. Вместе с тем голос мемуари ста порой становится крайне субъективным, чувствуются его собственные симпатии и антипатии, которых он не скрывает. Его тон обычно корректно сдержанный, иногда становится колючим, а порой приобретает покровитель ственно-снисходительный оттенок. В тех местах своих мемуаров и дневников, в которых Б. К. Зайцев как бы «прощается» со своим героем, причем проща ется навсегда, его голос становится проникновенным и возвышенно эмоциональным. Нередко авторское субъективное начало как бы «отодвигается» и фигура мемуарного героя укрупняется, приобретает завершенность романного образа. Б. К. Зайцев как «летописец» тонко подмечает многие детали, вписывая их в большой исторический отрезок времени, на фоне которого они укрупняются и делаются знаками индивидуальности того или иного героя. Поэтому можно сказать, что мемуарист создает портрет целого поколения на фоне социальных, политических и мировоззренческих потрясений времени.
Б. К. Зайцев свободно выражает свое отношение к увиденному, пережитому и одновременно стремится в своих очерках, рассказах, набросках точно передать индивидуальность того или иного человека.