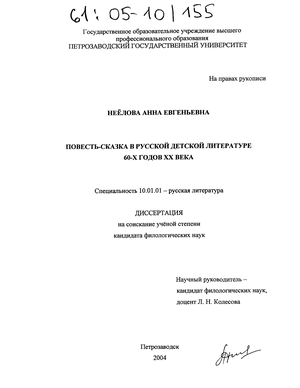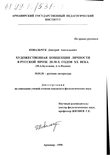Содержание к диссертации
Введение
I глава. «Много хороших людей...». Социально-нравственная доминанта жанра С. 15-67.
1. Детская повесть-сказка 60-х годов XXвека в контексте своей эпохи С. 15-28.
2. «Лицо жанра». Борьба социального догматизма и нравственно-философской проблематики. Сказочник В. Каверин С. 29-67'.
II глава. «Вниз по волшебной реке». Особенности поэтики повести-сказки 60-х годов XX века С. 68-153.
1. Типы фольклорных заимствований С. 72-86.
2. Поэтика чуда: «Исполнение желаний» С. 87-103.
3. «Тенденции, прямо противоположные фольклорным» С. 104-119.
4. Сказочник Э. Успенский С. 120-153.
III глава. «Понедельник начинается в субботу». Жанровый синтез С. 154-196.
1. Многообразие форм жанрового синтеза С. 157-180.
2. Сказочники А. и Б. Стругацкие С. 181-196.
Заключение С. 197-208.
Библиография. С. 209-249.
- Детская повесть-сказка 60-х годов XXвека в контексте своей эпохи
- Типы фольклорных заимствований
- «Тенденции, прямо противоположные фольклорным»
- Многообразие форм жанрового синтеза
Введение к работе
За последнее десятилетие прошлого века история русской советской литературы стала предметом острых споров. Литературоведческие и литературно-критические дискуссии, продемонстрировав широкий спектр различных, подчас диаметрально противоположных мнений, тем не менее, убедительно показали актуальность и необходимость серьёзного изучения в свете современных филологических и общественно-политических представлений истории русской литературы XX века, в том числе и предназначенной для юных читателей.
Пережив «детскую болезнь» тотального отрицания достижений советских писателей, общественное мнение в начале XXI века всё больше склоняется к тому, что «в советской России существовала великая детская литература»1. Эти слова с полным правом можно отнести к самому любимому юными читателями жанру детской литературы - жанру литературной сказки.
«Возникшая в 80-е годы XVIII века книжная сказка, - отмечает К. Е. Корепова, - оказалась жанром на редкость жизнеспособным, вероятно, потому, что опиралась на устную фольклорную традицию и развивала тенденции, уже наметившиеся в фольклоре. Авторские привнесения в ней соответствовали новым эстетическим запросам читателей»2. Становление нового литературно-сказочного жанра завершилось в творчестве А. С. Пушкина, которому, по словам И. П. Лупановой, принадлежит «почин в области создания русской литературной сказки»3.
1 Майофис М Семиотика детства / М Майофис, И. Кукулин // Новое литературное обозрение - 2002. -
№ 58 (6). - С. 279.
2 Корепова К. Е. У самых истоков / К. Е. Корепова // Лекарство от задумчивости Русская сказка в
изданиях 80-х годов XVIII века. - СПб. Тропа Троянова, 2001. - С. 14. См. также: Овчинникова О В
Сказка в рукописной традиции: Автореф дис.... канд. филол. наук / О. В. Овчинникова, Ин-т рус лит-ры
(Пушкинский Дом). - Л, 1989.
3Лупанова И П. Русская народная сказка в творчестве писателей 1-ой половины XIX века / И П Лупанова - Петрозаводск-гос. Изд-во Карельской АССР, 1959.-С. 149
4 Хотя в русской литературе сказка никогда не являлась «главным жанром», без неё невозможно представить творчество Пушкина, Гоголя, Даля, Ершова, Салтыкова-Щедрина и многих других писателей. В XX веке литературная сказка приобрела особую популярность, прежде всего, в детской литературе.
Поэтому, естественно, интерес к литературной сказке проявляли многие исследователи. Изучалась история литературной сказки XIX века, особенности литературно-сказочного творчества тех или иных писателей4, развитие литературно-сказочного жанра в детской литературе XX века5, проблемы поэтики6. Отечественные учёные интересовались и европейской литературной сказкой7.
4 См , например: Лебедев Я М. Русская литературная сказка до Щедрина / Я. М. Лебедев // Уч зап.
Ростовского-на-Дону гос. пед ин-та, факультет языка и литературы. - Ростов-на-Дону; Ростовское
областное книгоизд-во, 1940. - Т. Ш; Лупанова И. П. Русская народная сказка...; Лупанова И. П.
Иванушка-дурачок в русской литературной сказке XIX века / И. П. Лупанова // Русская литература и
фольклорная традиция - Волгоград: Изд-во ВГПИ, 1983; Леонова Т. Г. Русская литературная сказка XIX
века в ее отношении к народной сказке (Поэтическая система жанра в историческом развитии) /
Т. Г. Леонова - Томск, 1982; Леонова Т. Г. Сказка Н. С. Лескова «Час воли божией» в её отношении к фольклорной и литературной традициям / Т. Г. Леонова // Вопросы фольклора и литературы. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2002; Петрунина Н. М. Пушкин и традиция волшебно-сказочного повествования / Н. М. Петрунина // Русская литература. - 1980. - №. 3; Волков Р. М. Народные истоки творчества А. С. Пушкина (баллады и сказки) / Р. М. Волков. - Черновцы: Изд-во Черновицкого ун-та, 1960, Званцева Е. П. Новое и традіщиошюе в сказках В. Ф. Одоевского / Е. П. Званцева // Проблема традиций и новаторства в русской литературе XIX - начала XX вв. - Горький: Изд-во Горьковского гос. пед ин-та, 1981; Званцева Е. П. Жанр литературной сказки в творчестве А. Погорельского / Е. П. Званцева // Проблемы эстетики и творчества романтиков. - Калинин, 1982; Немзер А. С. Трансформация волшебной сказки в «Ночи перед Рождеством» II. В. Гоголя / А. С. Немзер // Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. - М, 1979, Бушмин А. Сказки Салтыкова-Щедрина / А. Бушмин. - М. - Л.: Гослитиздат, 1960.
5 См , например: Петровский М. Книги нашего детства / М. Петровский. - М: Книга, 1986; Краснова Т. В
ладу со сказкой (традиция фольклорной сказки в творчестве русских писателей XX века) /
Т. В Краснова. - Иркутск: Изд-во Иркутского гос. пед ин-та, 1993; Шаров А. Волшебники приходят к людям / А. Шаров. - М.: Детская литература, 1979, Маркова Е. И. «Роман-сказка» М Шагинян «Месс-Менд» / Е. И Маркова // Традиции и новаторство в литературе и у стном народном творчестве. - Уфа, 1975, Ляхова В. В. Категория фаігтастического в советской сказке для детей / В. В. Ляхова // Проблемы метода и жанра. - Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1980. - Вып. 7. См. также многочисленные публикации в сборнике «Проблемы детской литературы и фольклор» (См.: Колесова Л. Н «Проблемы детской литературы и фольклор» (1976-2001). Библиографический указатель / Л. Н. Колесова // Проблемы детской литературы и фольклор. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. - С. 214-224).
6 См., например: Брауде Л. Ю. К истории понятия «литературная сказка» / Л. Ю. Брауде // Известия АН
СССР. Серия литературы и языка. - 1977. - Т. 36. - Л" 3; Бахтина В. А. Литературная сказка в научном
осмыслении последнего двадцатилетия / В. А. Бахтина // Фольклор народов РСФСР. - Уфа: Изд-во БГУ,
1979, Липовецкий М Н. Поэтика литературной сказки / М. Н. Липовецкий. - Свердловск: Изд-во УрГу,
1992.
7 См , например: Демурова Н. М. Из истории английской детской литературы XVIII-XIX веков /
Н. М. Демурова - М: Изд-во МГПИ, 1975; Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка /
Л. Ю. Брауде. - М.: Наука, 1979; Анатольева Е. Тайны литературной сказки / Е. Анатольева. - М.: Преет, 1998.
Однако многие проблемы как теории, так и истории русской литературной сказки ещё ждут своего разрешения.
Прежде всего, это относится к общим вопросам поэтики литературно-сказочного жанра. Характерно, что до сих пор не существует общепринятого определения литературной сказки. В одной из первых советских литературоведческих и популярной в своё время монографии об интересующем нас жанре её автор, Д. Д. Нагишкин, рассматривал литературную сказку просто как продолжение сказки народной: «А положение в этом жанре именно таково: что такое сказка, каковы её законы - это знают фольклористы, но они не пишут сказок. А те, кто сказки пишут, то есть писатели, зачастую не знают основных особенностей жанра, внутренних законов развития его, несведущи в теории сказки. <...> Создание сказки на современном материале неизбежно должно предполагать постижение основных свойств сказки как жанра, свойств, которые откристаллизовались, получили совершенную форму на протяжении её существования»8.
Получается, по мысли Д. Д. Нагишкина, что писателю достаточно овладеть совершенной формой народной сказки, чтобы создать сказку литературную. Десять лет спустя литературоведение осознало недостаточность такой позиции: И. П. Лупанова в своих статьях о современной сказке и особенно в монографии «Полвека» поставила вопрос об изучении «новых традиций, определивших специфику советской литературной сказки»9 и об их взаимодействии с фольклорной основой литературно-сказочной поэтики. В 70-80-е годы в работах, посвященных литературной сказке, уже, как правило, уделяется особое внимание специфике жанра и его отличительным особенностям.
Из существующих характеристик жанровой специфики литературной сказки по меньшей мере две нам представляются наиболее интересными
НапшікинД Д Сказка и жизнь / Д Д Нагишкин. -М.: Детгиз, 1957.-С. 190-191. 9 Лупанова И П. Полвека. Очерки / И. П. Лупанова. - М.: Детская литература, 1969. - С. 92.
6 (хотя они, как мы уже отмечали, не стали общепризнанными). Первая принадлежит Л. Ю. Брауде, вторая - М. Н. Липовецкому. Л. Ю. Брауде считает, что «литературная сказка - авторское художественное прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчинённое его воле; произведение, преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей»10.
Определение Л. Ю. Брауде, как мы думаем, отражает некоторые существенные стороны поэтики жанра (особенно это касается отмеченной исследователем роли волшебства, чуда), но в целом оно носит описательный характер и поэтому его можно толковать расширительно: ведь и «Пиковая дама» А. С. Пушкина, и «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова вполне ему соответствуют. Впрочем, Л. Ю. Брауде считает, что определение литературной сказки вообще «не может быть универсальным» в силу разнообразия «содержания и направления такой сказки»11.
Однако многообразие различных конкретных форм литературной сказки не освобождает от поисков, условно говоря, инварианта её специфики. В этом смысле представляется более удачным (хотя, к сожалению, таким же громоздким, как и у Л. Ю. Брауде) определение М. Н. Липовецкого. «К литературным сказкам, - отмечает исследователь, - очевидно, следует отнести те произведения, в которых аксиологически ориентированный тип концепции действительности, сложившийся в народной волшебной сказке, представлен не как фрагмент художественного мира, а как его основание и структурный каркас и
10 Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка / Л. Ю. Брауде. - М : Наука, 1979. - С. 6-7 (выделено
автором).
11 Там же.-С. 7.
7 воссоздаётся через систему основных и факультативных носителей "памяти жанра" волшебной сказки. Уже не раз говорилось о том, что волшебно-сказочная ценностная модель мира обязательно переосмысливается, на её фундаменте надстраивается образ современного художнику мира. Но жанровая специфика литературной сказки состоит именно в том, что это всегда такое художественное произведение, жанровой доминантой которого является "память жанра" волшебной сказки (сказочность)»12.
Определение М. Н. Липовецкого, из которого мы будем исходить в нашей работе, сразу же ставит проблему границ жанра. Ведь «память жанра», делая литературную сказку сказкой, может проявляться в разных формах. М. Н. Липовецкий по этому поводу справедливо спрашивает: «Может быть, "память жанра" волшебной сказки функционирует автономно, соединяясь с различными жанрами, и только когда становится жанровой доминантой, принимает вид литературной сказки?»13.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что В. Я. Пропп, считая понятие жанра «чисто условным», о значении
1*1
которого «надо договориться» , подчёркивал: «В широком смысле этого слова жанр может быть определён как ряд или совокупность памятников, объединённых общностью своей поэтической системы»15.
Общность же поэтической системы, её совокупность может, как известно, определяться по различным параметрам. Так, например, М. С. Каган в известной монографии «Морфология искусства» предлагает следующие плоскости дифференциации жанров: первая - тематическая (исторический жанр, детектив, военная проза и т. д.), вторая плоскость связана с познавательной ёхмкостью, то есть с объёмом осваиваемого материала (роман, повесть, рассказ), третья - аксиологическая (гимн, ода,
12 Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки / М. Н. Липовецкий. - Свердловск: Изд-во УрГу, 1992.
- С. 160 (выделено автором).
13 Там же. -С. 161.
14 Пропп В. Я. Фольклор и действительность / В. Я. Пропп. - М: Наука, 1976. - С. 35.
15 Там же -С. 36.
дифирамб, трагедия и т. д.), четвёртая и последняя плоскость выделяется исследователем по типу создаваемых искусством образных моделей. Если единичное важнее общего, то перед нами - очерк, различные документальные жанры. Если единичное находится в равновесии с общим, то это - большинство реалистических жанров. Если общее оказывается важнее единичного, то это - фольклорная сказка16.
Правда, дифференциация жанров М. С. Кагана иногда оспаривается. В. Н. Захаров, к примеру, подчёркивает, что «в классификации М. С. Кагана понятие "жанр" теряет свою терминологическую
определённость» . Однако А. 3. Васильев, развивая идеи В. Н. Захарова, по поводу монографии М. С. Кагана все-таки замечает: «большинство исследователей начинают теперь признавать равноправие различных
классификационных критериев» . Впрочем, и сам В. Н. Захаров признаёт, что «многое в концепции М. С. Кагана встаёт на свои места, когда исследователь определяет жанр конкретного литературного произведения с учетом всех "плоскостей". <...> На практике М. С. Каган точнее, чем в теории»19. В предлагаемой диссертации мы пользуемся концепцией М. С. Кагана именно «практически». При этом важно, что «на практике» произведения, как правило, оказываются шире и больше конкретного жанра. Об этом говорят многие писатели и учёные. Так, Л. В. Чернец в своей книге «Литературные жанры» полностью солидаризируется со словами Л. Н. Толстого: «...в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести»20.
16 Каган М. С. Морфология искусства /М. С. Каган.-Л.: Искусство, 1972.-С. 410-425.
17 Захаров В Н К спорам о жанре / В Н. Захаров // Жанр и композиция литературного произведения -
Петрозаводск- РИО ПетрГУ, 1984. - С. 15.
18 Васильев Л 3 Из истории категории «жанр» / А. 3 Васильев // Проблемы исторической поэтики -
Петрозаводск. Изд-во ПетрГУ, 1990. - С. 20.
'9 Захаров В Н Цит. соч. - С. 15.
20 Чернец Л. В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики) / Л. В. Чернец. - М.: Наука, 1982.
-С. 10.
9 В этом смысле любая (а не только «выходящая из посредственности») литературная сказка в силу фундаментальных особенностей поэтики, оказывается, не вполне укладывается в формальные рамки жанра. По классификации М. С. Кагана, литературная сказка возникает в результате взаимодействия тематической и моделирующей плоскостей дифференциации, что свидетельствует о синтетической природе жанра, что и является одной из фундаментальных особенностей её поэтики. Об этой синтетической жанровой природе хорошо сказал в своё время В. Б. Шкловский: «Сказка не столько пережиток, сколь выражение
новых понятий по старой структуре» . В. Б. Шкловский имел в виду фольклорную сказку, но его слова с полным правом можно отнести и к сказке литературной.
Поэтому и фольклорная, и литературная сказка, совмещая «выражение новых понятий» (для чего требуется соответствующее жанровое оформление), «по старой структуре» оказываются более сложными художественными образованиями, нежели жанр. Термин «жанр» применительно к ним можно употреблять лишь с долей условности, так сказать, в рабочем порядке, для удобства пользования (так часто и делается). В. Я. Пропп пишет: «Общепринято считать сказку жанром. Между тем в состав сказок входят различные по поэтической природе произведения. По своей структуре волшебные сказки - нечто совершенно иное, чем сказки кумулятивные или сказки о пошехонцах. Следовательно, сказки - понятие более широкое, чем жанр (выделено
мной.-А Я.)» .
Поэтому мы вправе считать фольклорную сказку не просто жанром, а единой жанровой системой, в которую входят конкретные жанры сказки о животных, волшебной сказки, бытовой и прочих сказок. Точно так же литературная сказка представляет собой единую жанровую систему,
21 Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного / В Шкловский. - М : Советский писатель, 1970. -
С 216.
22 Пропп В. Я Фольклор и действительность... - С. 37.
10 объединяющую жанры романа-сказки, повести-сказки, сказочной поэмы, пьесы-сказки. Доминантой жанровой системы фольклорной сказки является наличие фантастики, «установки на вымысел», а в художественном мире литературной сказки её конкретные жанры объединяет в единую систему не только фантастика, но и отмеченная М. Н. Липовецким (вслед за М. М. Бахтиным) «память жанра».
Таким образом, цитировавшиеся нами определения литературной сказки Л. Ю. Брауде и М. Н. Липовецкого являются, как теперь можно уточнить, определениями именно общей жанровой литературно-сказочной системы. Читатели могут не осознавать сложной синтетической природы литературной сказки, обусловленной как взаимодействием фольклорных и литературных начал, так и разных жанровых моделей, но они эту природу великолепно чувствуют. И второе более значимо, чем первое. Ю. Н. Тынянов высказал мысль о приоритете именно восприятия, непосредственного чувства в рецепции жанровых доминант и инвариантов: «Каждый жанр важен тогда, когда ощущается»23. В детской литературе такое ощущение жанра вдвойне необходимо: ребенок безошибочно чувствует и ощущает жанр сказки именно потому, что этот жанр - один из его любимых и значимых.
Литературная сказка, представляя собой единую жанровую систему, в то же время входит в состав ещё более общей жанровой системы -фантастической литературы, включающей в себя, кроме литературной сказки, жанры фэнтези и научной фантастики. При всех отличиях их объединяет в единое целое жанрообразующая роль фантастического («установки на вымысел»), как это имеет место и в фольклорной сказочной жанровой системе. Поэтому в нашей работе мы постоянно будем учитывать взаимодействие различных жанров русской фантастической литературы XX века, приводящее очень часто к жанровому синтезу.
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов - М Искусство, 1977. - С. 150
11 Предлагаемая диссертация посвящена детской повести-сказке 60-х годов. Выбор именно этого периода не случаен. Прежде всего, если литературная сказка довоенного периода исследована достаточно подробно , то литературная сказка второй половины XX века ещё ждёт своего изучения. Кроме того, 60-е годы представляют собой, как мы постараемся показать, ключевой период в истории детской литературной сказки XX века, в который происходит важная корректировка и семантики, и поэтики, меняется социально-нравственная доминанта литературно-сказочного жанра, что предопределяет дальнейшее развитие литературной сказки вплоть до начала XXI века. Такое понимание роли 60-х годов в истории жанра вполне соотносится, на наш взгляд, с суждениями М. Чудаковой «о завершении первого цикла литературного процесса советского времени в 1940-1941 годах, о последующем промежутке и начале второго цикла (выделено мной. - А. К) в 1962 году»25. 60-е годы, как убеждает в этом изучение фактического материала, как раз и начинают новый цикл в развитии детской литературной сказки, в котором доминирующим жанром оказывается именно повесть (роман)-сказка.
Наша работа носит историко-литературный характер, в котором особо важным представляется фольклористический аспект, обусловленный самой природой изучаемого жанра. Поэтому исследование ведётся на основе как фольклорного, так и литературного материала при помощи сочетания сравнительно-исторического и сравнительно-типологического методов. Такое сочетание Б. Н. Путилов называет «историко-типологическим», подчёркивая, что «в конечном счёте, целью историко-
Кроме многочисленных работ об отдельных писателях-сказочниках 20-30-х годов, см, например. Привалова 3 В Советская детская литературная сказка 20-30-х годов: Автореф дис....канд фил наук/ 3 В Привалова; МОПИ им. Н. К. Крупской. - М , 1959, Ляхова В. В. Советская детская драчаліческая сказка30-х годов: Автореф дне... канд фил. наук/В. В Ляхова. -Точек, 1980, Д>бровская И Г. Советская детская сказочная повесть 30-х годов (вопросы сюжетосложения): Автореф. дис.... канд. фил наук / И. Г. Дубровская, Горьковский гос. ун-т им. Н. И .Лобачевского. - Горький, 1985. 25 Ч>дакова М. Военное стихотворение Симонова «Жди меня...» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени / N1. Чудакова // Новое литературное обозрение. - 2002. - № 6(58). - С. 224. См. также: Ч>дакова М. Литература советского прошлого / М. Чудакова. - М., 2001. - С. 362-365.
типологических изучений является не объяснение отдельных фактов, а установление закономерностей и обнаружение процессов»26.
Такой подход сразу ставит вопрос о критериях отбора фактического материала. Ясно, что простое описание всего корпуса литературно-сказочных произведений 60-х годов не позволит «установить закономерности и обнаружить процессы». Оно необходимо, но должно быть не итогом исследования, а предпосылкой к нему, осуществлённой до начала историко-типологического изучения. Как заметил В. Б. Шкловский, «научная мысль сейчас более заинтересована не ковшами элеваторов, которые бы черпали новый материал, а ситами, которые помогли бы его
0*7
процедить и объяснить» . Мы пошли по следующему пути: фронтальное обследование литературно-сказочных произведений 60-х годов (и в детской периодике того вреіиени, и в отдельных изданиях), проведённое с учётом критических оценок (или отсутствия таковых), читательских реакций (по данным журнала «Детская литература», специализированных детских периодических изданий), степени воздействия на последующие поколения писателей-сказочников, позволило выделить достаточно многочисленную репрезентативную группу писателей, определяющих, как мы постараемся показать, «лицо жанра» в 60-е годы. К этой группе сказочников мы и будем обращаться в первую очередь в историко-типологическом изучении процессов развития повести-сказки в эпоху 60-х годов, учитывая, конечно, и весь корпус литературно-сказочных
произведении .
Среди специфических особенностей детской литературы, которые ярко проявляются в жанре повести-сказки и которые необходимо постоянно учитывать, особо важной нам представляется принципиальная
26 Путилов Б. Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора / Б Н Путилов - Л :
Наука, 1976 - С. 12. Вслед за Б. Н Путиловым, мы под типологией понимаем «закономерную,
обусловленную рядом объективных факторов повторяемость в природе и обществе, которая
обнаруживает себя в предметах и явлениях, в свойствах и отношениях, в элементах и структурах, в
процессах и состояниях» (Путилов Б Н. Методология... . - С. 9).
2 Шкловский В. Тетива... - С. 204.
28 См. I раздел Библиографии в конце работы
двухадресное^ детской книги: в ней имеется и «детское», и «взрослое» содержание. В критической и исследовательской литературе, посвященной повестям-сказкам 60-х годов (за исключением, пожалуй, только сказочного творчества А. и Б. Стругацких) «взрослый» пласт семантики практически не рассматривался (если не брать в расчёт отдельные реплики и замечания, как правило, не рефлексивного, а эмоционального характера). Мы же в нашей работе будем постоянно стремиться выявлять и анализировать этот «взрослый» смысл «детского» текста. Некоторые современные исследователи считают этот смысл «периферийным» . Мы постараемся показать его важность и равноправность с собственно детской семантикой сказочных произведений, более того, усиление «взрослого» плана содержания в 60-е годы.
Предлагаемая диссертация состоит из трёх глав. В первой главе рассматриваются содержательные характеристики повести-сказки 60-х годов, выявляется социально-нравственная доминанта жанра. Вторая глава посвящена особенностям поэтики, которые, в широком смысле слова, определяются взаимодействием фольклорно-сказочной «памяти жанра» и творческой индивидуальности писателя. Здесь наше исследование соприкасается с областью исторической поэтики, задача которой, по классическому общеизвестному определению А. Н. Веселовского, состоит в том, чтобы «определить роль и границы предания в процессе личного творчества»30. Как замечает А. В. Михайлов, это определение «следует разуметь не так, что поэтика ограничивает предание в пределах личного творчества, но так, что и в пределах личного творчества она изучает продолжающуюся жизнь предания»31. Изучение литературно-сказочной поэтики не может обойтись без внихмания к «продолжающейся жизни предания» (фольклорной сказки) в авторском тексте.
29 Кулешов Е. В. Предисловие / Е. В. Кулешов // Детский сборник: Статьи по детской лігтературе и
антропологии детства. - М: ОГИ, 2003. - С. 4.
30 Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. - Л.: Художественная литература, 1940.
- С. 493.
31 Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры / А В Михайлов -
М: Наука, 1989.-С. 15.
Третья глава диссертации анализирует многообразие форм жанрового синтеза, составляющее характерную примету своеобразия повести-сказки 60-х годов и усвоенную последующими периодами. Жанровый синтез - это, условно говоря, в известной степени итог той трансформации, которую претерпела в 60-е годы детская литературная сказка.
Мы постараемся показать в работе, что особую типичность для изучаемой эпохи представляет творчество трёх писателей-сказочников: В. Каверина, Э. Успенского, А. и Б. Стругацких. В произведениях этих писателей специфические содержательные и формально-поэтические характеристики литературной сказки 60-х годов (и сама духовная атмосфера того времени) представлены в концентрированном, ярком, выпуклом виде. Поэтому каждая глава диссертации заканчивается разделом, посвященным одному из этих писателей. По справедливому замечанию Т. Г. Леоновой, ответ на все вопросы при изучении литературной сказки «даст анализ конкретного материала»32. Анализ конкретных произведений самых ярких сказочников 60-х годов призван не только проиллюстрировать положения соответствующих глав, но и показать смысловую глубину на первый взгляд «простых» детских текстов.
Леонова Т. Г. Русская литературная сказка XIX века... / Т. Г. Леонова. - Томск, 1982. - С. 7.
I глава «Много хороших людей...». Социально-нравственная
доминанта жанра
1. Детская повесть-сказка 60-х годов XX века в контексте своей эпохи
В своей известной монографии, посвященной литературно-сказочному жанру, М. Н. Липовецкий справедливо заметил, что «литературная сказка неизменно активизируется в периоды значительных историко-культурных переломов, когда меняется духовная ориентация общества»1. 60-е годы, хотя сегодня они оцениваются по-разному, как раз и представляют собой такой период. По мысли М. Н. Липовецкого, «наивысшая активность литературной сказки приходится, прежде всего, на начало 20-х годов; далее - на вторую половину 30-х и начало 40-х годов; затем - на рубеж 50-60-х; и, наконец, на так называемые годы застоя, особенно на рубежи 60-70-х и 70-80-х годов. Все эти периоды могут быть определены как время идейных перевалов, ценностных кризисов и сломов, переживаемых всем обществом» .
Периодизация, предложенная М. Н. Липовецким, выглядит, на наш взгляд, расплывчатой: получается, что «наивысшая активность» литературной сказки наблюдалась в каждом десятилетии XX века, начиная с 20-х годов. Однако если вдуматься в слова М.Н.Липовецкого, то окажется, что самый активный период в истории литературной сказки -именно 60-е годы, с чем трудно не согласиться. Не случайно в рассуждениях исследователя интересующий нас период упоминается дважды, причём особо отмечаются его начало и конец.
1 Липовецкий М Н. Поэтика литературной сказки / М. Н Липовецкий. - Свердловск: Изд-во УрГу, 1992
-С 43
2 Там же -С 43.
Однако прежде чем говорить об особенностях детской повести-сказки в контексте интересующей нас эпохи, необходимо объяснить, какой смысл мы вкладываем в понятие «60-е годы». По точному замечанию современного литературоведа «представляется очевидным», что «из множества написанных за последние десятилетия статей и книг (при всей важности и актуальности многих из них) обобщающая и авторитетная точка зрения на литературный процесс... XX века так и не сложилась»3. Это самым непосредственным образом отражается на проблеме периодизации литературного процесса XX столетия. Современное литературоведение стремится уйти от популярного в советские времена простого членения литературной эволюции на периоды партийного строительства. Сегодня говорят об «особенностях развития литературы 40-х - 60-х годов», «периоде 1956-1968: литературе времени "оттепели"»5, «детской литературе 60-80-х годов»6 и т. д. Такой разнобой, существующий и во «взрослом», и в «детском» современном литературоведении, создаёт путаницу, которая проникает даже в учебные программы, казалось бы, по определению, призванные аккумулировать устоявшиеся и общепринятые точки зрения. Так, например, вузовская программа курса русской литературы прошлого века, составленная кафедрой истории русской литературы XX века МГУ, выделяет, в числе прочих, период литературы «середины 1950-1990-х гг.» . Совершенно очевидно, что вторая половина 50-х годов и 90-q годы представляют собой принципиально разные периоды и в эстетическом, и в мировоззренческом смыслах.
3 Голубков М. М. Русская литература XX в: После раскола / М. М. Голубков. - М.: Аспект Пресс, 2001. -
С. 8.
4 Русская литература XX века: В 2-х т. / Под ред Л. П. Кременцова. - М: Академия, 2002. - Т. 2: 1940-
1990-е годы - С. 5-28.
s Акимов В. М Сто лет русской литературы. От Серебряного века до наших дней. - СПб: Лики России, 1995.-С. 188.
6 Арзамасцева И. Н. Детская литература / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - М: Академия; Высшая
школа, 2000. - С. 341-417.
7 Программа дисциплины «История русской литературы XX века» (1890-1990 гг.). - М.: Диалог - МГУ,
1997. - С. 68. Ср. также периодизацию «Новейшей русской литературы» в «Учебных программах»
кафедры истории русской литературы СпбГУ (изд-во СпбГУ, 2000. - С. 178-232).
17 Отсутствие единодушия и даже противоречия в решении проблемы структурирования литературного процесса как раз и требуют объяснить, почему мы рассматриваем 60-е годы как особый период в развитии если и не всей русской литературы XX века, то, по крайней мере, литературной сказки.
Прежде всего отметим, что в современном общественном сознании понятие «60-е годы» существует как нечто цельное и семантически определённое. Правда, эта семантическая определённость оценивается сегодня по-разному. Вот, к примеру, два совершенно противоположных взгляда на эпоху 60-х годов её современников: в то время как Я. В. Чеснов, автор учебного пособия по этнологии, говорит о «глухих 60-х годах»8, известный карельский писатель С. Панкратов вспоминает: «Мы тогда слишком поверили в тот ветер перемен, который повеял в нашем обществе в начале 60-х. Стали выражать свои мысли достаточно раскованно, поверили, что жизнь действительно можно прожить.с полной, без страха, безоглядной интеллектуальной отдачей»9. Так же противоречиво интересующая нас эпоха характеризуется и в новейших (опубликованных уже в XXI веке) работах по истории русской литературы. Одни скептически говорят о том, что «сегодня явно переоценивают значение эпохи, которая предшествовала современной, эпохи "оттепели". Её подчас объявляют чуть ли не ренессансом русской литературы, пришедшим на смену мрачной ночи культа»10. Другие же, напротив, считают, что конец 50-х - 60-е годы представляют собой, «как сейчас можно предположить, последний этап в развитии русской культуры, когда голос писателя, если воспользоваться лермонтовской строкой, "звучал как колокол на башне вечевой / во дни торжеств и бед народных"»11.
Мы не берём на себя ответственность за решение трудной задачи -определить, кто прав, а кто нет в этом споре, тем более, что он имеет не
8 Чеснов Я В. Лекции по исторической этнологии / Я. В. Чеснов. - М.: Гардарика, 1998. - С. 70.
9 Панкратов С. Прощание с Дмитрием Балашовым... / С. Панкратов // Север. - 2000. - J& 9. - С. 58.
10 Русская литература XX века... - С. 249.
11 Голубков М. М. Цит. соч. - С. 243.
только литературно-художественное значение, но и выявляет признаки политической ангажированности. Заметим лишь, что истина, как всегда бывает в таких случаях, лежит посередине. В этом смысле более справедливо, на наш взгляд, мнение В. М. Акимова, который утверждает: «Несомненна наивность миропонимания "шестидесятников", корни их были неглубоки и питались нередко от утопических иллюзий минувшей эпохи. Но неоспорима историческая заслуга этого поколения перед культурой: она скорее всего имеет нравственный характер - это было первое поколение в советской истории, которое во всеуслышание заявило о ценностях внутренней свободы личности, о праве на искренность, "праве на себя"»12.
С этим утверждением исследователя можно согласиться, если понимать слово «наивность» не в его обыденном значении (тогда «корни» действительно будут неглубокими), а как указание на близость миропонимания эпохи миропониманию ребёнка, сохранение и, может быть, возрождение у многих представителей 60-х годов «памяти детства»13. Такая наивность, оставаясь вполне детской, имеет, тем не менее, глубокие культурные корни. Характер этой наивности блестяще передал в своё время Г. X. Андерсен: «Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своём месте. Ни одно платье короля не вызывало ещё таких восторгов.
Да ведь он голый! - закричал вдруг какой-то маленький мальчик.
Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! - сказал его отец, и все стали шёпотом (выделено мной. -А.Н.) передавать друг другу слова ребёнка»14.
Стоит только поставить на место невинного мальчика «наивные» (по
B. М. Акимову) литературу и театр «шестидесятников», как вся эта
12 Акимов В. М. Циг. соч. - С. 191 (выделено автором).
13 См. подробно об этой категории: Рогачев В. А. «Память детства» как категория поэтики детской
литературы / В. А. Рогачев // Проблемы детской литературы. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -
C. 111-114.
14 Андерсен Г. X. Новое платье короля / Г. X. Андерсен // Андерсен Г. X. Сказки и истории: В 2 т. -
Кишинев: Лумина, 1973 -Т. 1.-С. 115.
19 знаменитая сцена из андерсеновской сказки окажется точным символическим выражением атмосферы 60-х, а, впрочем, и последующих годов.
Так понимаемая «наивность» принципиально противоположна «инфантильности», с которой обычно в бытовом сознании связывают это понятие. В этом смысле мнению В. М. Акимова нисколько не противоречит противоположная на первый взгляд (но только на первый) позиция составителей современного учебного пособия по истории русской литературы 20-х - 90-х годов XX века под редакцией С. И. Кормилова. Авторы этого пособия, ссылаясь на известную статью М. Чудаковой15, заявляют, что «инфантилизм "сталинистов" бесспорен», подчёркивая, что «в 60-е годы литература выбирается из этого инфантилизма, а детская литература в последующие десятилетия проникается "взрослой" иронией (Э. Успенский)»16.
Действительно, как мы только что заметили, это суждение кажется противоположным мысли Акимова об «инфантилизме» шестидесятников, но своеобразие эпохи, на наш взгляд, как раз и заключается в том, что литература, и детская в том числе, преодолевая в 60-е годы инфантильный характер сталинского периода, сохраняет и даже возрождает ту высокую «наивность», которая испокон веку помогала народной сказке сохранять и выражать идеалы народного общежительства.
Если так понимать проницательно отмеченный В. М. Акимовым «наивный» характер изучаемой эпохи, то можно высказать
1*7
предположение, что «бурное развитие» детской литературы в 60-е годы было далеко не случайным и соответствовало, вместе, скажем, с расцветом поэзии, самому духу времени. Ведь именно «на рубеже 50-60-х годов...
15 Чудакова М Сквозь звезды к терниям. Смена литературных циклов / М. Чудакова // Новый мир. -
1990.-№4.-С. 248-259.
16 История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена. /Отв ред СИ Кормилов. -
М.: Изд отдел фил. фак-та МГУ, 1998. - С. 29.
17 Колесова Л. Н. Нравственные искания в современной прозе для детей / Л. Н. Колесова - Петрозаводск:
Изд-во ПетрГУ, 1987. - С. 10.
20 детская литература решительно повернулась к действительности, к сложным жизненным конфликтам...»18.
Здесь возникает большая и интересная тема, выходящая за рамки нашей работы. Поэтому заметим лишь, что представление о сказке (и фольклорной, и литературной) как о символическом «зеркале» той или иной эпохи вообще-то не является новым. Так, например, С. Маршак в своё время точно заметил: «Можно сказать с уверенностью, что в своих волшебных сказках Андерсен рассказал больше и правдивее о реальном мире, чем многие романисты, претендующие на звание бытописателей»19. Это афористическое высказывание классика русской детской литературы XX века можно отнести и к творчеству всех хороших писателей-сказочников, работавших после Андерсена.
Таким образом, подводя итог нашим предварительным рассуждениям, мы можем сказать, что при всех современных спорах о периодизации и «взрослой», и детской литературы XX века, 60-е годы в её истории образуют самостоятельную, очень важную и, в известном смысле, ключевую эпоху.
Естественно, эту эпоху надо воспринимать, перефразируя ахматовские строки, не в «календарном», а в «легендарном»20 смысле: литературная эпоха 60-х годов началась в конце 50-х и, как мы считаем, сохранила своё влияние на 70-80-е годы. В. М. Акимов совершенно справедливо говорит о «литературе времён «застоя» (конец 60-х - 80-е гг.): «Но главным событием литературы этого двадцатилетия было, конечно же,
18 Там же. - С. 50. «Бурное развитие» претерпевает и детское литературоведение Ср : «60-е годы,
пожалуй, самые «урожайные» на книги о детской литературе. Издаются работы, принципиально важные
в осмыслении детской литературы, понимании процессов, происходящих в ней, предъявляющие к
детской литературе все более высокие и в первую очередь эстетические, а не педагогические, как
раньше, требования». (Колесова Л. Н. Проза для детей. 1917-1987. Семинарий/ Л. Н. Колесова. -
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. - С. 60.)
19 Маршак С. Праздник сказки (к 150-летию со дня рождения Андерсена) / С. Маршак // Вопросы детской
литературы 1955 год. - М.: Детгиз, 1955. - С. 328.
:о Ср: «А по набережной легендарной
Приближался не календарный -
Настоящий Двадцатый Век.» (Ахматова А. Поэма без героя / А. Ахматова // Ахматова А. Стихи и проза. - Л.: Лениздат, 1976. - С. 451).
21 развёртывание сюжетов прозы, возникших ещё в годы оттепели» \ То же самое можно сказать и о детской литературе 70-90-х годов. Вот как оценивают эти десятилетия современные детские писатели. В 2002 году журнал «Детская литература» предложил некоторым из них оценить состояние новейшей детской литературы. Писатель-сказочник А. Саломатов ответил: «На мой взгляд, за последние два десятилетия ничего не изменилось» , С. Сахарнов добавил: ключевая особенность литературы 90-х годов - «переиздание сказок и новые познавательные, обучающие книги»23, И. Вачков пессимистически заметил: «...судя по фамилиям на обложках издающихся сейчас (да и десять лет назад) книг, новых ярких имён среди печатающихся авторов не появилось»24. Конечно, оценки писателями состояния дел в детской литературе последних двух десятилетий, как и полагается писателям, безусловно, субъективны, но и на научно-практической конференции «Что будут читать дети XXI века», состоявшейся в Санкт-Петербурге летом 2001 года, отмечалось, что современная детская литература может предложить ребёнку не так уж и много, «ато, что всё-таки предлагается, ...отнюдь не лучшего качества» .
Следовательно, мы можем считать, что детская литература 60-х годов по-прежнему сохраняет своё определяющее значение для литературного процесса последующих десятилетий. В полной мере это относится к предмету нашего исследования.
Прежде всего заметим, что эпоха 60-х годов отмечена своеобразным взрывом интереса к фантастическим жанрам, что особенно ярко проявляется в детской литературе. Правда, те исследователи, которые отрицают литературную самоценность изучаемой эпохи и «растворяют» её
21 Акимов В. М Цит. соч. - С. 199.
22 Саломатов А. «Времена для писателей не самые благоприятные...» / А. Саломатов // Детская
литература - 2002. - 1-2. - С. 109.
23 Сахарнов С. В. Журнал - это дверь в литературу / С. В. Сахарнов // Детская литература - 2002. - № 3.
-С. 15-16
24 Вачков И. Продолжая традиции научно-художественной книги / И. Вачков // Детская литература -
2002.-№3.-С. 113.
25 Михайлова Л. П. Что будут читать дети XXI века / Л. П. Михайлова // Детская литература - 2001. -
N 5-6. - С. 89.
22 в более крупных литературных периодах, удивительным образом этого расцвета фантастики не замечают, приписывая достижения 60-х годов последующим десятилетиям. Так, например, М. И. Мещерякова утверждает, что «по сути дела 80-е годы стали временем настоящего открытия отечественными авторами современных разнообразных жанровых форм художественной условности»26, и затем настойчиво подчёркивает: «Очевидно (выделено мной. - А. //.), что начиная с 80-х годов в русской детской и подростково-юношеской литературе стала актуальной потребность построить новую целостную модель мира и человека в нём с высокой степенью обобщения и безусловного приятия, что предполагает активное развитие условных форм отражения действительности»27.
М. И. Мещерякова считает отмеченную закономерность «очевидной», т. е. как бы и не требующей доказательств. Парадокс заключается в том, что «активное развитие условных форм отражения действительности» с высокой степенью обобщения «целостной модели мира и человека», как в этом убеждает фактический литературный материал, очевидно и легко обнаруживается уже в литературной сказке 20-30-х годов. Достаточно вспомнить сказочный эпос К. Чуковского, «Золотой ключик или приключения Буратино» А. Толстого, «Три толстяка» Ю. Олеши, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова . В 60-е годы (подробнее об этом позднее) происходит усиление и активизация отмеченного М. И. Мещеряковой процесса. Эта активизация фантастических условных форм в 60-е годы с ещё большей степенью отчётливости, нежели в литературной сказке, наблюдается в родственном ей жанре научной фантастики, однако, опять-таки, находятся исследователи, которые и эту особенность детской и молодёжной литературы 60-х годов «отбирают» у неё и переносят в последующие
26 Мещерякова М. И. Р>сская детская, подростковая и юношеская проза второй половины XX века:
проблемы поэтики / М. И. Мещерякова - М.: Мега Трон, 1997. - С. 250.
f Там же -С. 329.
:8 См. об утом, например: Петровский М. Книги нашего детства / М. Петровский. - М : Книга, 1986.
23 десятилетия. В уже цитировавшейся нами монографии среди прочих отмечается следующая особенность литературы 70-90-х годов XX века: «После долгих лет (т. е. после того, как закончились 60-е годы. - А. Н.) прозябания фантастического жанра, когда его поклонники были вынуждены удовлетворяться переводными произведениями, отечественная фантастика вновь предстала во всём богатстве и разнообразии стилей и жанров. <...> Признаны и широко печатаются А. и Б. Стругацкие («Пикник на обочине», 1972, «Жук в муравейнике», 1980) и др»29.
В этой цитате всё неверно. Во-первых, поклонники фантастического жанра не могли в 30-50-е годы «удовлетворяться переводными произведениями», поскольку их почти не было. Один из первых серьёзных сборников зарубежной фантастики вышел лишь в 1964 году, и в предисловии к нему А. Громова специально подчёркивала: «Этот сборник - первый в своём роде, до сих пор в нашей стране такие не издавались...»30. Активная публикация переводных произведений начинается с середины 60-х годов31 и продолжается в 70-90-е годы. Во-вторых, богатство и разнообразие фантастических стилей и жанров проявилось именно в 60-е годы, когда в научную фантастику пришли молодые, талантливые писатели: братья Стругацкие, Кир Булычёв, С. Гансовский, О. Ларионова, А. Громова, Е. Войскунский и И. Лукодьянов, М. Емцев и Е. Парнов, С. Жемайтис и многие другие. В-третьих, братья Стругацкие были признаны и широко печатались не в 70-80-е, а в 60-е годы. В 70-е же годы их печатали очень мало. Этот факт настолько общепризнан, что вошёл даже в энциклопедию: с конца 1960-х годов «братья Стругацкие всё чаще стали испытывать трудности с публикацией произведений на родине, многие их книги были изуродованы цензурой, а "творческая полемика" с авторами стала носить характер
"9 Р)сская литература XX века... - С. 252.
30 Громова А. Раздумья о человеке / А. Громова // Современная зар)бежная фантастика. - М.: Молодая
гвардия, 1964. - С. 5-6.
31 В 1965 году в издательстве «Молодая гвардия» начинает выходить широко известная любителям
жанра «Библиотека современной фантастики», вскоре дополненная серией «Зарубежная фантастика»
(издательство «Мир»), продолжающаяся до сих пор.
политического разноса»32. Такое количество фактических ошибок, допущенных лишь на одной странице солидной, современной, выпущенной в 2002 году монографии, заметим в скобках, ярко свидетельствует о неразработанности истории так называемых «условных форм отражения действительности» (литературная сказка, научная фантастика, фэнтези).
Итак, именно в 60-е годы, а не позднее, в нашей литературе фантастические жанры делают своеобразный качественный скачок, переводящий их на новый художественный уровень. Не случайно А. Ф. Бритиков, автор одной из первых серьёзных итоговых монографий, посвященных научной фантастике, говорит о её «расцвете» в 60-е годы, обусловленном качественным изменением проблематики и поэтики жанра33. Заметим, что монография вышла в самом конце изучаемой нами эпохи и была вызвана, как мы полагаем, именно этим «расцветом».
Наряду с интересом к научной фантастике, возрастает интерес и к другим формам проявления фантастичности и сказочности в отечественной литературе. Как замечает М. И. Мещерякова, говоря о пьесах Е. Шварца: «только в шестидесятых годах творческое наследие сказочника было освоено по-настоящему» . В это же время происходит «второе рождение» А. С. Грина. Из полузабытого писателя он превращается поистине во властителя дум молодёжи и привлекает внимание серьёзных литературоведов. Характерно, что одна из первых обобщающих монографий, посвященных гриновскому творчеству, как и монография А. Ф. Бритикова, так же появляется в конце интересующего нас периода и тоже оказывается следствием всеобщего интереса к писателю: «По воспоминаниям Н. Н. Грин, писатель сказал ей в 1926 году: "Эпоха мчится мимо нас... Я наслаждаюсь возможностью быть таким, как
32 Гаков В. Стругацкий Аркадий Натанович и Стругацкий Борис Натанович / В. Гаков, В. А. Рсвич //
Энциклопедия фантастики. Кто есть кто. - Минск- Галаксиас, 1995. - С. 541.
33 Бритиков А Ф. Р}сский советский научно-фантастический роман / А. Ф. Бритиков - Л: Наука, 1970
- С. 272.
34 Мещерякова М И. Цит. соч - С 257.
25 я есть... Но когда же путь мой и эпохи сойдутся?" Судя по всё растущей в настоящее время популярности писателя, подлинная встреча Грина с эпохой произошла в последнее десятилетие»35. При этом важно отметить, что в середине 60-х годов Грин осознаётся как поэт (и фантаст) детства: «...чем лучше человек, тем больше в нём детского. Никто не знал этого вернее, чем Александр Грин: "Детское живёт в человеке до седых волос", -говорил он, считавшийся сугубо взрослым писателем. А между тем во всех его лучших книгах живёт такая удивительная чистота, такое ясное и здоровое видение мира, так целомудренно преломляются факты и явления жизни, что нельзя иначе назвать их как детскими - и в самом высоком значении слова. И если называть Грина фантастом, то именно он -основоположник нашей фантастики души и сердца» . Наконец, вспомним, что в 60-е годы состоялась первая легальная российская публикация (пусть и в сокращённом варианте) знаменитого романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» , в котором фантастика играет смыслообразующую роль.
На этом фоне резкого усиления различных элементов фантастики в отечественной литературе 60-х годов совершенно естественным и закономерным представляется увеличение удельного веса литературной сказки и, прежде всего, повести-сказки в детской литературе. В редакционном вступлении, открывающем седьмой номер журнала «Детская литература» за 1966 год, полностью посвященный сказке, справедливо отмечалось, что «никогда ещё в нашей стране не издавалось
такое множество сказок, как в последние годы» .
Шестидесятые годы, действительно, представляют собой очень плодотворный период в развитии русской литературной сказки. Не
35 Ковский В. Романтический міф Александра Грина / В. Ковский - М : Наука, 1969. - С. 265.
36 Званцева Е. Устарел ли Жюль Берн? / Е. Званцева // Детская литература - 1966. - Кя 7. - С. 17.
37 Булгаков М Мастер и Маргарита /М. Булгаков//Москва - 1966. -№ 11; 1967. -J61,
38 [Б а ] Здравствуй, сказка' // Детская литература. - 1966. - Кя 7. - С. 2. Наши подсчеты показывают, что
в ведущих детских журналах на протяжении 60-х годов было опубликовано - в «Пионере» 39 сказок, в
«Костре» - 41, включая народные. Учитывая ограниченность журнальной площади, можно сказать, что
это очень большое количество текстов, тем более, что среди них есть произведения большого обьбма
Например, повесть-сказка Ю.Томина печаталась в 5 номерах «Костра» (Томин Ю. Шел по городу
волшебник /Ю.Томин// Костер.- 1963. -JftNa 10, 11;12. 1964.-Л'<>№ 1; 2)
26 случайно именно в это время появляются повести-сказки таких известных в нашей детской литературе писателей, как А. Алексин («В Стране Вечных Каникул», 1965), В. Крапивин («Я иду встречать брата», 1962), Ю. Томин («Шёл по городу волшебник», 1963), Р. Погодин («Шаг с крыши», 1968), Э. Успенский («Крокодил Гена и его друзья», 1966) и многих других.
Именно в это время оформляются (или завершаются) самые знаменитые циклы повестей-сказок А. Волкова, Н. Носова, В. Каверина. А. Волков, например, свою первую сказочную повесть «Волшебник Изумрудного города», как известно, написал в 1939 году, а её продолжения, составившие цикл, стали появляться почти 25 лет спустя: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (1963), «Семь подземных королей» (1964), «Огненный бог марранов» (1968), «Жёлтый туман» (1970). Лучшие сказки «Немухинского цикла» - «Много хороших людей и один завистник» (1960), «Лёгкие шаги» (1963), «Летающий мальчик» (1969) - В. Каверин опубликовал так же в интересующий нас период. В 1965 году читатели получили сказочный роман Н. Носова «Незнайка на Луне», завершающий цикл приключений популярного героя.
Естественно, названные произведения оказались неоднородны по своим художественным качествам (так, можно отметить, что «Незнайка на Луне» значительно слабее первой книги цикла, о чём мы ещё специально поговорим позднее), но в целом эти повести-сказки, вследствие своего циклообразующего характера, перевели предыдущие произведения А. Волкова, Н. Носова, В. Каверина на новый уровень, сыграв роль своеобразного «усилителя». Возник «определённым образом организованный контекст», который К. Г. Тарасов считает одним из жанрообразующих признаков цикла39. Этот контекст и играет роль «усилителя» образных систем, созданных в первых повестях-сказках отмеченных нами циклов. Ведь «цикл - это тексты в тексте, это всегда
Тарасов К. Г. Вопросы поэтики цикла В. Драгунского «Денискины рассказы» / К. Г. Тарасов // Проблемы детской литературы и фольклор - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. - С. 75.
контекст, так как контекстные связи вытесняют связи внутритекстовые» . Иными словами, на фоне новых историй совсем по-другому зазвучали истории старые, произошло своеобразное увеличение смысла.
Наряду с оформлением циклов, которые начинались в предшествующие периоды, в 60-е годы появляются произведения, которые вырастут в циклы в 70-80-е годы. Так, в 1964 году увидела свет «повесть-фантазия» Е. Велтистова «Электроник - мальчик из чемодана», а в 1971 и 1975 годах появились её продолжения* - «Рэсси - неуловимый друг» и «Победитель невозможного». Позднее, по многочисленным просьбам читателей, Е. Велтистов написал и четвёртую повесть - «Новые приключения Электроника», отдельное издание которой вышло в 1989 году. И хотя в критике уже отмечалось, что третья часть трилогии («Победитель невозможного») «менее увлекательна и убедительна», так как «герои её, ученики 8-го класса, совершают открытия, решают такие задачи, с которыми не могут справиться учёные»41, всё равно благодаря сказочно-фантастическому циклу Е. Велтистову по праву «досталась большая читательская привязанность»42.
В 1965 году Киром і Булычёвым была опубликована' подборка рассказов «Девочка, с которой ничего не случится», выросшая в широко известный ряд повестей о девочке из будущего Алисе. В 1962 году читатели познакомились с Юрой Баранкиным, главным героем сказочной повести В. Медведева «Баранкин, будь человеком!», а в 1977 году автор пишет продолжение: «Сверхприключения сверхкосмонавта», которое вместе с первой повестью составило «поэму в двух книгах», печатавшуюся под общим названием «Фантазии Баранкина» (1978).
Популярный цикл создал В. Мелентьев. Первая повесть, «33 марта», была опубликована в 1958 году, а затем вышли две другие, продолжающие
А0Там же. -С. 77.
41 Шесгапзлова К. П. Велтистов Евгений Серафимович / К. П. Шестипалова // Русские детские писатели
XX века. Биобиблиографический словарь. - М.: Флинта. Наука, 1997. - С. 94.
42 [Б а ] Памяти Евгения Серафимовича Велтистова // Пионерская правда. - 1989. - 5 сентября. - С. 4.
рассказ о небывалых приключениях Юры Бойцова и Васи Голубева («Голубые люди Розовой земли» (1966) и «Чёрный свет» (1970)).
Активность процесса циклизации убедительно свидетельствует о расцвете литературной повести-сказки в 60-е годы, что отражается и в её поэтике, и в её проблематике.
Интересным явлением в истории литературной сказки 60-х годов стали также сказочные повести С. Прокофьевой и Е. Чеповецкого. В произведениях С. Прокофьевой критика отмечала «сложный сюжет, динамизм, почти драматическую характерность персонажей», использование традиций Олеши и Шварца43. Приветствуя «приход в литературу новых сказочников», критика 60-х годов также отмечала удачные публикации Е. Чеповецкого, подчёркивая, что писатель языком сказки умеет говорить с ребёнком «о том, чего он пока не знает, о чём узнает лишь впоследствии - но, узнав, поймёт, что уже подготовлен был к этому знанию» . Самой лучшей из всех сказок Е. Чеповецкого признавались «Приключения шахматного солдата Пешкина» - «наголо бритого, в атаках битого, победами знаменитого деревянной армии
рядового» . И, конечно же, литературным событием стала публикация в 1965 году повести-сказки братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», сильно повлиявшей на дальнейшее развитие и литературной сказки, и научной фантастики.
Все названные произведения и по сей день пользуются заслуженной популярностью и неизменным вниманием читателей. По мотивам книг Е. Велтистова, К. Булычёва, В. Медведева, А. Волкова, Н. Носова, Э. Успенского, А. и Б. Стругацких и других сняты великолепные художественные и мультипликационные фильмы.
43 Марченко А. Расширение вселенной / А. Марченко // Детская литература. - 1969. - № 12. - С 4.
44 Бейлина Н. Сказочный мир Ефима Чеповецкого / Н. Бейлина // Детская литература - 1967. - № 12. -
С. 54.
45 Там же.-С. 54.
2. «Лицо жанра». Борьба социального догматизма и
нравственно-философской проблематики.
Сказочник В. Каверин
Естественно, панорама жанра, которую мы пытались представить, далеко не исчерпывается названными именами. О многих других писателях-сказочниках 60-х годов речь пойдет позже. Мы же стремились отметить прежде всего тех писателей, условно говоря, первого и второго ряда, которые вместе определяли «лицо жанра» в изучаемую эпоху.
Каким же было это «лицо жанра»? Ответить на этот вопрос - значит выявить социально-нравственную доминанту жанра. Правда, сделать это достаточно сложно, поскольку, как справедливо заметил Ю. М. Лотман, «стоит сформулировать любое правило, как тотчас же живая история литературы предлагает столько исключений, что от него ничего не остаётся» . Но при этом «исключения» и «правила» всё-таки не отменяют, а дополняют друг друга. Это хорошо известно теоретикам литературы. В другой своей статье Ю. М. Лотман подчёркивает: «Утверждения: "Всё различно и не может быть описано ни одной общей схемой" и "Всё едино, и мы сталкиваемся лишь с бесконечными вариациями в пределах инвариантной модели" - в разных видах постоянно повторяются в истории культуры от Екклесиаста и античных диалектиков до наших дней. И это не случайно - они описывают разные аспекты единого механизма культуры и неотделимы в своём взаимном напряжении от её сущности»47. Точно так же литературную эволюцию повести-сказки 60-х годов можно описать, используя и первое, и второе из сформулированных Ю. М. Лотманом утверждений. Однако динамика этой эволюции станет понятной, если мы будем учитывать, что большой корпус различных и несводимых к общей схеме литературно-сказочных текстов всё-таки обнаруживает черты
46 Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. - М.: Искусство, 1970. - С. 346.
47 Лотман Ю. М. Механизмы культуры / Ю. М. Лотман //Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. -
Таллин: Александра, 1993. - Т. 3. - С. 342.
зо определённой системности, или, по крайней мере, её возможности. М. М. Бахтин в своё время настаивал: «Вряд ли можно говорить о необходимости в гуманитарных науках. Здесь научно можно только раскрыть возможности и реализацию одной из них»48. Говоря о социально-нравственной доминанте детской повести-сказки, мы будем рассматривать её не как некую «необходимость», как это было свойственно теории и практике социалистического реализма, а именно как реализацию наиболее вероятной, обусловленной самой атмосферой 60-х годов, возможности.
Как мы полагаем, реализация жанровой доминанты в 60-е годы проходила в борьбе двух «возможностей» развития, каждая из которых представляла собой определённую тенденцию. Первая из этих тенденций была более традиционна для советской литературной сказки предшествующих периодов. Вторая - нет.
Мы начнём с первой. И. П. Лупанова справедливо подчёркивает, что «истинная жизнестойкость сказки проявилась <...> в том, что она оказалась в 20-х годах родоначальницей новых традиций, определивших специфику советской литературной сказки на все последующие годы. Главной из них явилась традиция изображения противоборствующих сил как социально враждебных. Идущая непосредственно от сказочного фольклора, эта тенденция взрывала благодушную традицию дореволюционной литературной сказки с её мнимыми конфликтами и назойливыми моральными сентенциями»49.
Внесение в сказочные конфликты социального содержания возможно, как мы думаем, лишь на уровне иносказания50. По мысли
48 Бахтин М М. Из записей 1970-1971 годов / М. М. Бахтин // Бахтин М. М Эстетика словесного
творчества - М: Hckjcctbo, 1979. - С. 344 (выделено автором).
49 Лупанова И П Полвека. Очерки /И. П. Лупанова -М : Детская литература, 1969. - С. 92.
50 Не случайно отказ от иносказания привел к появлению в 20-е годы многочисленных подделок под
сказку. Как отмечает И. П. Лупанова, «новое социальное содержание втискивалось либо в рамки старых,
привычных сюжетных схем дореволюционной сказочной книжки, либо в рамки традиционного народно-
сказочного сюжета. В первом случае появлялись на свет всевозможные «бунты игрушек» и «бунты
кукол».... <...Ж многочисленным промахам привели и попытки переосмысления традиционно-
фольклорных сказочных сюжетов. Сказки вроде «Золотого петушка-самолета» (Н. Рязанов, 1924) или
М.М.Бахтина, «человек нового времени не вещает, а говорит ... оговорочно» , то есть иносказательно. Как справедливо замечает В.В.Смирнова, «...главная прелесть сказки - иносказание, тот скрытый смысл поступков и образов, который раскрывается лишь тому, "кто имеет уши - слышать", тот намёк на подлинную жизнь, на современность, о котором ещё Пушкин сказал:
Сказка ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок»52. Однако иносказание, содержащее в себе «добрым молодцам урок», бывает, как известно, разным. Оно может быть однозначным, и тогда возникает худосочная аллегория, а может быть многозначным, и тогда «намёк» как бы растворяется в живой плоти сказочного образа, рождая символ. Классические примеры такого символического иносказания в истории советской литературной сказки широко известны. Это «Золотой ключик или приключения Буратино» А. Толстого, «Три толстяка» Ю. Олеши, пьесы Е. Шварца. Удивительное совмещение социального пафоса и яркого, праздничного, самоценного, фантастического мира, созданного этими писателями, достаточно подробно изучено в научной литературе о детской повести-сказке XX века53. Собственно, такое иносказательное совмещение социальности и сказочности - черта не только советской, но и мировой литературной сказки и родственных ей жанров. Достаточно сослаться на «Приключения Чипполино» Дж. Родари или «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиена (вплоть до чрезвычайно популярного в начале XXI века цикла о Гарри Поттере, созданного Дж. Роулинг). Однако в истории советской детской литературы социальный пафос сказочного повествования зачастую превращался в
«Необычайных приключений товарища Чумички» (Р. Волженин, 1924) оказывались пародийными не только по отношению к втиснутому в них «революционному» содержанию, но и по отношению к народно-поэтической традиции». (ЛупановаИ П. Полвека... -С. 92-93).
51 Бахтин М. М Из записей 1970-1971 годов... - С. 336
52 Смирнова В В. Книги и судьбы. Статьи и воспоминания /ВВ. Смирнова - М: Советский писатель,
1968 - С. 54 (выделено автором).
53 См, например, упоминавшиеся выше работы И. П. Лупановой, М. Н. Липовецкого, М. Петровского и
других
социальный заказ. Ведь советская детская литература, особенно 30-50-х годов, определялась «у нас государственной точкой зрения», которая «была стимулом для полной перестройки всего дела эстетического воспитания детей»54.
При этом хотелось бы подчеркнуть, что само по себе это обстоятельство не является негативным. Трудно согласиться с современными авторами, которые изображают историю советской сказки как некую эстетическую пустыню. Так, например, современная эстонская детская писательница Реэт Куду утверждает: «при советском строе <...> принцы, принцессы, балы и Золушки оказались в опале (а Е. Шварц, а Т. Габбе, а С. Маршак? - А. К). Бесполезные мечтания и прозрения вечности через сказку стали считаться государственным преступлением. Что с того, что Золушка-то из кухни, из обслуги. Она мечтала о дворцах, умоляла фею, чтобы ей попасть в аристократическое общество. Почти во всех сказках мечтают ведь о высших сферах, о том, что недосягаемо обычным образом. А именно это было табу. Мечтать бы следовало об уравниловке. Ещё того лучше совсем не мечтать. Жизнь требовала "мужественных" акций, не голых мечтаний. В соцреализме просто не было места фантазии. Если и по сю пору наши критики требуют "двумя ногами твёрдо стоять на земле", давать в рассказах "правду жизни" и поменьше "отсебятины", которую "дети не понимают". Нет сомненья, что это не серьёзный, по-настоящему, анализ того, в чём же дети подлинно нуждаются, а морок советского воспитания. Советский человек должен был обходиться пустыми магазинными полками, советский ребёнок должен был обходиться без сказок»55.
Эта картина истории советской литературной сказки, нарисованная эстонской писательницей, является, если снова вспомнить М. М. Бахтина,
54 Смирнова В. В О детях и для детей / В В Смирнова - М : Детская литература, 1967. - С. 10. Критик)*
взаимоотношений «государственной точки зрения» и детской культуры см : Келлн К. «Маленькие
граждане большой страньо>: интернационализм, дети и советская пропаганда / К. Келли // Новое
литературное обозрение. - 2003. -№ 2 (60). - С. 218-251.
55 Куду Р. Сказка как избавляющая сила / Р. Куду // Детская литература - 1991. - № 5. - С. 7.
33 лишь «возможностью», которая, к счастью, не нашла своей реализации. Ведь конъюнктурный и просто ошибочный характер рассуждений Р. Куду очевиден и не требует доказательств. Эти рассуждения опровергает наличие той богатой библиотеки советских литературных сказок, которая постоянно переиздаётся и в постсоветское время.
Однако с течением исторического времени советская педагогика и творческая писательская практика всё больше склонялись к тому, чтобы в сказочном иносказании сильнее всего был заметен намёк, чтобы аллегория преобладала над символом. Яркий пример этого - одна из самых значительных повестей-сказок, созданных в 50-е годы, - «Королевство кривых зеркал» В. Губарева. Сказочное путешествие Оли в Зазеркалье писателю было нужно прежде всего для того, чтобы рассказать читателю-ребёнку о мире социального неравенства и классовой борьбы, а также о тех детских недостатках, которые являются «родимыми пятнами» этого мира, и лишь талант писателя спасает произведение от голой назидательности. К слову сказать, в кинофильме, созданном уже в 60-е годы, акцент сделан как раз на смягчении дидактической интонации. Показательно в этом смысле направление, в котором шла переработка «Приключений капитана Врунгеля» А. С. Некрасова (1939) для второго послевоенного издания. Как свидетельствует исследователь творчества писателя, «Некрасов стремился приблизить книгу к заботам сегодняшнего дня, к актуальным проблехМам мировой политики»56. Талант писателя опять-таки спас весёлую и увлекательную сказочную повесть от голой дидактики, но её усиление во второй редакции книги несомненно.
Таким образом, анализируемая нами тенденция, со всеми её достоинствами и недостатками, была унаследована детской повестью-сказкой 60-х годов. Мы сейчас не говорим об откровенно халтурных произведениях, вроде книги А. Некрасова (как можно полагать,
Д)бровская И. Г. Этот неутомимый Врунгсль («Приключения капитана Врунгеля» А. С. Некрасова) / И Г. Дубровская // Проблемы детской литературы. - Петрозаводск: РИО ПетрГУ, 1987. - С. 91.
34 однофамильца автора «Приключений капитана Врунгеля») «Сказка о химии»57. Даже «закалённый» рецензент, явно отдающий предпочтение «реальным» и благонамеренно-социальным детским текстам, не выдержал и заявил, что сочинение Некрасова - «это попытка переложить в форме сказки... решение пленума ЦК КПСС», она всего лишь «газетная информация, замаскированная под сказку»58.
Однако указанная тенденция была заметна в 60-е годы и в самых известных произведениях литературно-сказочного жанра. Не случайно Ю. Ярмыш в 80-х годах, вспоминая эволюцию литературно-сказочного жанра, замечал, что «сказке всё более становится присуща такая черта басни, как аллегория»59. Ю. Ярмыш считал, что аллегория идёт на пользу сказке, «жанры взаимообогащаются»60, - писал он, но литературная практика свидетельствует об обратном. Наглядным примером этого может служить знаменитый сказочный цикл А. Волкова. В первой книге, «Волшебнике Изумрудного города», изображалась, как известно, чудесная «страна необычайной красоты» , путешествуя по которой девочка Элли находит верных друзей - Страшилу, Железного Дровосека, Трусливого Льва, помогает им обрести свою истинную сущность и, можно сказать, спасает волшебную страну. Сюжетика и проблематика «Волшебника Изумрудного города» достаточно близки к знаменитой сказке Ф. Баума, поэтому многие характеристики баумовской Дороти могут быть отнесены и к волковской Элли. Как замечает А. Берне (со ссылкой на М. Херна): «если Дороти - Колумб... сказочной страны, она также становится и её
ft)
Линкольном» . Далее исследовательница, ссылаясь на Сару Джил и, заявляет: «фантастическое путешествие Дороти освободило её друзей так
57 Некрасов А Сказка о химии / А. Некрасов - М : Малыш, 1965.
58 Колосов Ю. Детям о химии / Ю. Колосов // О литературе дія детей - Л.: Детская литература, 1966. -
Вып 11.-С. 24-25.
59 Ярмыш Ю. О жанре мечты и фантазии / Ю. Ярмыш // Детская литература - 1980 - № 10. - С. 18
60Там же. -С. 18.
61 Волков А. Волшебник Изумрудного города / А. Волков. - М : Советская Россия, I960. - С. 17.
62 Byrnes A The Child. An Archetypal Symbol in Literature for Children and Adults I A. Byrnes - New York-
Peter Lang, 1995.-P. 29.
35 же, как освободило её»63. Однако, при всей серьёзности морально-нравственной проблематики, и сказка Ф. Баума, и сказка А. Волкова привлекали маленьких (и взрослых) читателей прежде всего яркой, талантливо выписанной, самоценной картиной фантастического сказочного мира.
Попутно заметим, что близость сказок Баума и Волкова давала основание некоторым критикам упрекать русского писателя чуть ли не в
64 тт 65
плагиате . На эти упреки достойно ответил сам автор , а также те исследователи его творчества, которые серьёзно изучали сказочные произведения писателя. Они убедительно показали, что «волковский "Волшебник..." обрёл статус самостоятельного произведения (что, кстати, не раз подтверждено специальной экспертизой)» .
Однако дело даже не в «специальной экспертизе». Стоит только включить первую повесть-сказку А. Волкова в контекст всего цикла, созданного писателем в 60-70-е годы, как обвинения критики отпадут сами собой. А. Берне справедливо отметила, что сказочный роман Ф. Баума «был нужной книгой в нужное время. Он предлагал молодым читателям возможность быстрого спасения от общества» . Баумовский эскапизм заметен и в «Волшебнике Изумрудного города». Однако в появившихся в 60-е годы новых частях сказочного цикла внимательный читатель замечает новую тенденцию борьбы с этим эскапизмом. А. Волков, «уводя» читателя
63 Byrnes A The Child . - P. 29.
64 См, например СивоконьС Долгожданное продолжение / С Сивоконь//Семья и школа -1963 -
№ 12 - С. 29, Арбитман Р. Капитан Фьючер в стране большевиков / Р. Арбитман // Знамя - 1993 - № 8 - С 199.
65 См Волков А Письмо в редакцию / А Волков // Семья и школа - 1964 - № 3 - С. 48, Волков А
Четыре путешествия в волшебную страну К истории сказочного цикла «Волшебник Изумрудного
города» / А Волков // Детская литература - 1968 - № 9. - С. 22-24
66 Розанов А Суть волшебства / А. Розанов // Детская литература. - 1991. - № 7. - С. 70. См также
Дубровская И. Г. Советская детская сказочная повесть 30-х годов (вопросы сюжетосложения). Автореф
дис . канд филол. наук / И. Г. Дубровская; Горький, 1985. - С. 7; Петровский М. Правда и иллюзии
страны Оз / М Петровский // Петровский М. Книги нашего детства... - С. 222-273; Латова Н
Удивительные приключения «Волшебника страны Оз» в России / Н. Латова // Детская литература -
1995 - Кя 1-2. - С. 49-53; Неелов Е. М Заметки на тему «Сказка и современность» / Е М Неелов//
Проблемы детской литературы и фольклор - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. - С 37-39,
АнхимоваО А Специфика образной системы повести-сказки А М. Волкова «Волшебник Изумр>дного
города» /О А Анхимова // Проблемы детской литературы и фольклор - Петрозаводск- Изд-во ПетрГУ,
2001.-С 98-128
67 Byrnes A The Child .. - P. 28
от реальности и от общества, неожиданным образом приводит ребёнка к этой реальности, к настоящим духовным ценностям общества.
Однако на этом пути, условно говоря, от Баума к Волкову, были не только приобретения, но и потери, так как во второй и следующих книгах цикла всё чаще давала о себе знать та тенденция прямого сближения сказки и социальной (и даже политической) реальности, о которой мы говорили. Т. Кожевникова в своё время писала: «В 1963 году дети получили от А. Волкова продолжение его первой сказки под названием "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Обаяние её так же велико, как и первой. Так же великолепен сюжет, живописны герои, которые уже крепко
у* Q
полюбились детям, так же хитро спрятана мораль» .
В этих словах Т. Кожевниковой всё верно, кроме последнего. Мораль в «Урфине Джюсе...» спрятана уже не так хитро, как в «Волшебнике Изумрудного города». За попыткой завоевания Урфином Джюсом и его дуболомами Изумрудного города проступают порой вполне заметные намёки на реальную историю, ведь недаром в фольклорной волшебной сказке такого рода сюжеты просто отсутствуют. В ещё большей степени социальный аллегоризм усиливается в третьей части цикла, сказочной повести «Семь подземных королей» (1964). Прямые параллели с соврехменностью в её политическом аспекте приводят к тому, что в ряде эпизодов сказка перестаёт быть сказкой. Вспомним, что, в конце концов, жители Страны Подземных рудокопов «совершили самый большой
переворот в ее истории» : при помощи усыпительной воды погрузили в волшебный сон всех своих семерых королей, а после пробуждения сказали им, что они не короли, а пролетарии и крестьяне. «И дело пошло. Короли, министры, советники превращались в рудокопов, литейщиков, металлистов, портных, поваров... . Лакеи, солдаты, шпионы становились пахарями, огородниками, звероловами, рыбаками... . Призрак голода
Кожевникова Т. Для кого пишут сказки? / Т. Кожевникова // Детская литература. - 1967. - № 7. - С. 5. Волков А. Семь подземных королей / А. Волков. - М.: Советская Россия, 1976. - С. 206.
37 отступил от Подземной страны навсегда»70. А после победы народа состоялся митинг: «Слово взял один из рудокопов.
- Эх, ребята, о чём говорить? Неужели для себя не поработаем?
Ведь это не то что при королях спину гнуть... » .
В этой цитате наглядно видно, как сквозь ткань сказки проступает совсем несказочная социальная и политическая доктрина, а сказочные персонажи начинают говорить языком героев советских историко-революционных романов.
К счастью, подобные разрывы сказочной ткани у А. Волкова не столь часты, недаром Н. Латова отмечает, что «Семь подземных королей»
- «единственная книга, которая выпадает из этого (общего для всего цикла.
- А. Н.) ряда» . Бесспорно, что волковский цикл принадлежит к числу
лучших детских повестей-сказок XX века, но бесспорно также, что
последовавшие за «Волшебником Изумрудного города» сказочные повести
оказались всё-таки менее яркими, чем первая книга. И произошло это
вследствие усиления социального «намёка» в противовес живой плоти
образа.
Усиление социального «намёка» заметно и в творчестве других писателей-сказочников 60-х годов. Так, например, отметив безусловное достоинство «Сказки о ветре в безветренный день» С. Прокофьевой (1967),
A. Марченко справедливо упрекнула писательницу: «И мастерство, с
каким С. Прокофьева строит сюжет, и множество остроумных находок
(превосходно обыгран, например, комизм нелепого существования
знатных невидимок) - всё принесено на алтарь злободневности, и сказка,
прорешечённая социальными намёками, превращается в аллегорию»73.
В своём логическом развитии изучаемая нами тенденция приводит, по сути дела, к исчезновению сказки. Об этом в начале 70-х годов говорил
B. Непомнящий в известной статье, посвященной памяти К. Чуковского.
70Там же -С. 210.
71 Там же -С. 212.
72 Латова Н Цит. соч. - С. 51.
73 Марченко А. Расширение вселенной... - С. 9.
Отметив, что «пагубное для сказки прямое "сближение с жизнью" в наше время вполне реальное явление», он сформулировал важный тезис: «Как только сказка изменяет своей природе и начинает в той или иной форме дублировать действительность, подлаживаться под неё, ...представлять чудом то, что таковым не является, - она перестаёт выражать свою истину, а значит - и вообще истину» . Так случилось с третьей частью трилогии Н. Носова о приключениях Незнайки. Если первая книга этой трилогии представляет собой одну из лучших детских повестей-сказок XX века, открывая перед читателями уютный и человечный в своей патриархальности сказочный мир детства, то «Незнайка на Луне» оказался, в сущности, уже не сказкой, а популяризаторским произведением, использующим своеобразную художественную инерцию первой и второй частей трилогии. Примеры этого можно найти почти на каждой странице текста. Вот один из них - пресс-конференция по поводу появления земных коротышек на Луне:
«В приёмной между тем появилась представительница одной из рекламных фирм. На ней было узенькое ярко-зелёное платье, на голове такой же ярко-зелёный модный берет, из-под которого выбивались в разные стороны космы. Видно было, что, пока она продиралась сквозь толпу на улице, причёска её претерпела значительные изменения. Лицо у неё было строгое и решительное, с прямым, остроконечным, несколько красноватым носом и крошечными серыми глазками, в которых светилось упрямство. В руках она держала несколько фанерных плакатов, укреплённых на палках, на груди висел небольшой фотографический аппарат в кожаном футляре.
Подбежав к Незнайке, она сунула ему в руки плакат, на котором было написано:
74 Непомнящий В. Что ждет сказку? Памяти Корнея Ивановича Чуковского / В. Непомнящий // Детская литература - 1973. - Jft 3. - С. 17 (выделено автором). Ср. оііубликованньїй в этом же номере «Детской литературы» фельетон Э. Успенского, высмеивающий сказки, против которых выступает В. Непомнящий: Успенский Э. «Сказка про лошадь, которая облизывала почтовые марки» / Э. Успенский // Детская литература - 1973. - № 3. - С. 18-20.
39 Жалеть не будут коротышки И не потратят деньги зря, Коль будут все жевать коврижки Конфетной фабрики "Заря".
Отскочив шага на два-три назад, она навела на Незнайку фотографический аппарат и сделала снимок» .
Мы привели эту длинную цитату (одну из многих возможных) специально для того, чтобы, во-первых, нас не могли упрекнуть в произвольном вырывании из контекста неудачных выражений писателя, а, во-вторых, - и это главное, - чтобы, так сказать, «по-детски» спросить: разве то, что описывает Н. Носов, похоже на сказку? Недаром критики, которым нравится третья часть носовской трилогии, вынуждены демонстрировать завидную изобретательность, защищая её. Так, С. Сивоконь в своих «Очерках о юморе в советской литературе для детей» пишет: «Да, тот же социальный разрез буржуазного общества, какой находим мы в "Незнайке на Луне", сам по себе ничего бы не стоил и остался бы популярным изложением учебника политэкономии, если бы писатель не показал, как живётся в этом обществе реальным, живым людям.
Ведь это не какой-то там абстрактный "начинающий капиталист" открывает на морском побережье Луны залежи поваренной соли... . Нет, это уже хорошо знакомый нам Пончик - не очень, может быть, симпатичный, но всё же знакомый» б.
Такая защита писателя, как мы полагаем, хуже огульной критики. Действительно, сам С. Сивоконь признал, что «Незнайка на Луне» «ничего бы не стоил и остался бы популярным изложением учебника политэкономии», если бы Н. Носов не рассказал нам, как живут в лунном мире «реальные, живые люди». В качестве примера таких «реальных,
75 Носов Н. Незнайка на Луне / Н. Носов. - М.: Детская литература, 1967. - С. 144-145.
76 Сивоконь С. И. Весёлые ваши друзья: Очерки о юморе в советской литературе для детей /
С. И. Сивоконь. - М: Детская литература, 1986. - С. 75-76.
40 живых людей» критик называет Пончика и других коротышек. Именно рассказ об их судьбе, по мысли С. Сивоконя, раскрывает (тут он ссылается
7*7
на К. С. Станиславского) «жизнь человеческого духа» .
Правомерно спросить: почему сказочные коротышки вдруг стали реальными, живыми людьми, то есть, уже не сказочными персонажами? Кроме того, если повесть-сказку Н. Носова спасают «уже хорошо знакомый нам Пончик» и другие персонажи, то это значит, что третья часть носовской трилогии «питается» художественной энергией первых двух: ведь с Незнайкой и его друзьями, в том числе и с малосимпатичным Пончиком, мы познакомились (и полюбили их) ещё в первой части трилогии. Итак, получается, что герои остаются старыми, и именно это спасает третью часть. Что же она создаёт нового? С. Сивоконь сам ответил: «популярное изложение учебника политэкономии». Сказка стала так похожа на жизнь, что перестала быть сказкой. Собственно, об этом говорил в уже упоминавшейся статье В. Непомнящий: «...если изъять из сказки её непохожесть на жизнь, оставляя в то же время сказочную форму, обязательно требующую вымысла, то произойдёт очень неприятная, хотя и не всегда сразу заметная вещь: замещение хорошей, сказочной лжи ложью настоящей - несказочнои и нехорошей» .
Справедливости ради заметим, что последняя часть этой цитаты к Н. Носову отношения не имеет: в «Незнайке на Луне» нет «настоящей -несказочной и нехорошей» лжи. Сатира Н. Носова, безусловно, точна, она правдиво показывает «родимые пятна» капитализма. Более того, исторические события 90-х годов привнесли в «Незнайку на Луне» новый смысл - сегодня третья часть носовской трилогии воспринимается не только как иносказательное повествование о лунной жизни, но и как прямое повествование о российской жизни последнего десятилетия (вспомним хотя бы приведённую выше цитату из носовского текста).
Там же. - С. 75.
Непомнящий В. Что ждет сказк}?... - С. 17 (выделено автором).
41 Другое дело, что эта сатира не является сказкой, а лишь использует сказочную форму.
Итак, тенденция, берущая своё начало в изображении, по цитировавшимся выше словам И. П. Лупановой, противоборства сказочных сил как сил социально враждебных, приводит в своём историческом развитии к превращению сказочного повествования в аллегорическое изображение тех или иных социальных и политических реалий современности. Эта тенденция прослеживается на всём пути эволюции советской литературной сказки, что, к слову сказать, проявляется в её дидактическом пафосе. Социально-политическая ангажированность произведений, созданных в русле данной тенденции, несомненна и сохраняет своё влияние и в изучаемую нами эпоху. Это была, как мы уже говорили, одна из «возможностей» развития жанра, которая нашла (и не могла не найти) в исторических условиях советского периода нашей истории свою реализацию. Она стала бы единственной, если бы своей реализации не требовала и другая тенденция - нравственно-философского осмысления действительности, интересная, конечно, по-своему, как ребёнку, так и взрослому. Эта тенденция возникла, как и первая, ещё в 20-е годы, но была менее влиятельна, чем первая. Окрепла эта тенденция и стала превалировать над первой именно в 60-е годы. К её характеристике мы сейчас и перейдём.
Когда В. Непомнящий в упоминавшейся нами статье протестовал против прямого сближения сказки с жизнью, он вовсе не имел в виду непременное отсутствие в литературной сказке современного, даже злободневного, жизненного содержания: «...осуществляющиеся "незримо", на протяжении веков, идеи и процессы, - подчёркивал критик, - сказка представляет как конкретные и зримые единичные акты и события, материализуя их в такой форме, для которой "и невозможное возможно". Стало быть, поистине - "сказка ложь, да в ней намёк".
И, стало быть, сказка действительно связана с жизнью, но не по принципу сходства или подобия, не "ортодоксально", а парадоксально»79.
Попутно отметим, что В. Непомнящий, как и В. Смирнова (мы цитировали её в начале главы) апеллируют к знаменитой пушкинской формуле сказки, но понимают её совершенно» по-разному. Сказочная семантика и в фольклорной сказке, и в момент становления жанра литературной сказки в первой! половине XIX века80, и в литературной сказке XX столетия прежде всего символична. И эта символика объединяет и детский, и взрослый планы содержания литературной сказки.
Интересующая нас сейчас вторая тенденция, в противовес первой, ярко заявила о себе в 1960 году, что уже само по себе символично, в самом начале изучае.мого периода, когда из печати вышла повесть-сказка В. Каверина «Много хороших людей и один завистник». Как отмечает И. П. Лупанова, «сказки Каверина открыли' новую страницу не только в творчестве самого писателя, но и» в развитии жанра литературной сказки» . Эта «новая страница» как раз и связана с интересующей нас ведущей тенденцией, во многом определившей «лицо» жанра детской повести-сказки в 60-е годы.
Любопытно отметить, что сказочное творчество В. Каверина при этом развивалось в направлении, противоположном тому пути, который прошли А. Волков и Н. Носов. Если последние начинали свою «карьеру» сказочников созданием самоценных символических сказочных миров (в «Волшебнике Изумрудного города» и «Приключениях Незнайки и его друзей»), а закончили её сочинением произведений, в которых аллегория, особенно у Н. Носова, преобладала над символом, то В. Каверин двигался в противоположном направлении: от аллегории (в своей первой сказке) к
79 Непомнящий В. Что ждет сказку?... - С. 16.
80 См. об этом, например: Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей 1-ой половины
XIX века / И. П. Лупанова. - Петрозаводск: гос. Изд-во Карельской АССР, 1959, Непомнящий В. Добрым
молодцам урок / В. Непомнящий // Непомнящий В. Поэзия и судьба. - М.: Советский писатель, 1987. -
С.187-260.
81 Лупанова И. П. Любитель Необыкновенных Историй (сказочник В. Каверин) / И. П. Лупанова //
Детская литература. 1963. - М.: Детская литература, 1963. - С. 74.
43 символу (в сказках 60-х годов). М. Генчиева замечает: «Вторжение реального героя в сказку могло превращать её и в аллегорию действительных событий, особенно политических. Пример этого есть в ряде советских сказок. Например, в сказке Каверина "О Мите и Маше, о весёлом трубочисте и о мастере с золотыми руками". Написанная как антифашистская аллегория в 1939 году, сказка использовала мотивы, андерсеновских "Зимних сказок"» .
Характерно, что в этой первой.сказке В. Каверина, представляющей собой политическую аллегорию в духе своего времени, М. Генчиева отмечает влияние Андерсена. В контексте последующей5 эволюции творчества писателя оно не случайно, ведь андерсеновский сказочный мир, переполненный различного рода отзвуками современности, тем не менее, принципиально противостоит её аллегорическому изображению.
«Новая страница» в развитии жанра литературной сказки в сказочной повести В. Каверина, по мысли И. П. Лупановой, автора самого серьёзного исследования сказки «Много хороших людей...», раскрывается в том, что эта сказка Каверина «доказывает, что не исключена возможность .появления в литературно-сказочном жанре тенденций, прямо противополоэюных фольклорным и имеющих все основания перерасти в новую хорошую традицию советской сказки.
Главная идея повести запечатлена в её названии: ''''Много хороших людей и один завистник". Выше говорилось, что традиция народной сказки знает одного героя, противопоставленного целому миру зла и коварства. Советская литературная сказка противопоставляет этому миру коллектив добрых, гуманных и смелых людей» . Эта традиция, как подчёркивает И. П. Лупанова, берёт начало в знаменитом сказочном романе Ю. Олеши «Три толстяка» и получает развитие в 30-е годы. В монографии «Полвека»
82 Генчиева М. Правдивая фантазия и сказочная реальность. Размышления о современной сказке /
М. Генчиева // Детская литерзтура. - 1971. - № 6. - С. 46. М. Генчиева не совсем верно (видимо, это
связано с погрешностями перевода) приводит заглавие сказки Каверина. Ее" точное название - «О Мите и
Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые Руки».
83 Лупанова И. П. Любитель необыкновенных историй... - С. 77 (выделено автором).
44 И. П. Лупанова пишет, что многим сказочным произведениям той поры «свойственны те новаторские черты, что были введены в сказочный обиход романом Юрия Олеши. Во-первых, вместо традиционного народно-сказочного героя-одиночки здесь - одерживающий победу коллектив. Злобного Карабаса-Барабаса побеждает не один Буратино, но все они вместе: и Буратино, и добрый папа Карло, и Мальвина, и Пьеро, и благородный пудель Артемон. Маленькая Гер да ни за что не добралась бьь до царства Снежной королевы, если б не добрый Сказочник, не маленькая Разбойница, не принц с принцессой...»84.
В повести-сказке В.Каверина «Много хороших людей...» происходит характерное именно для детской литературы 60-х годов усиление и обострение этой закономерности: в каверинской сказке «тоже нет героя в традиционно-фольклорном смысле слова. Героем тоже оказывается коллектив, добровольное объединение многих хороших людей, борющихся за жизнь ещё одного хорошего человека - художника Заботкина. Но этому герою-коллективу противостоят не могущественные силы зла, но один отрицательный герой. Перед нами совершенно сознательная трансформация сказочной традиции: вместо фольклорной ситуации - один хороший герой против многих злых существ, в том числе и многих плохих людей (братья героя, сестры героини, жесткосердные цари, злые мачехи и проч.), здесь - много хороших людей против одного
плохого» .
Попробуем теперь осмыслить с точки зрения современных представлений концепцию И. П. Лупановой.
Прежде всего заметим, что семантическая конструкция «много хороших людей против одного плохого» встречается во многих повестях-сказках 60-х годов. Так, например, Урфин Джюс во второй книге волковского цикла один (если не считать его дуболомов) противостоит не
Лупанова II. П. Полвека... - С. 283.
Лупанова И. П. Любитель необыкновенных историй... - С. 77 (выделено автором).
45 только Элли и её друзьям, но и всем жителям волшебной» страны. Это открыто изображается писателем в сценах пленения Урфина Джюса и суда над ним: «Урфин Джюс шёл один, его не окружала стража, наоборот, люди сторонились его, и в этом кольце угрюмых лиц и ненавидящих взоров бывший диктатор чувствовал себя хуже, чем если бы его посадили в темницу.
Урфину не связали'рук, ноги его были свободны, но куда он мог убежать в стране, где его ненавидел, казалось, каждый куст и каждый камень?..»86.
Точноf так же коллектив хороших людей * противостоит одному плохому (профессору Выбегалле, который, кстати, имеет некоторые сходные черты с Великим Завистником из каверинской сказки, о чём мы ещё поговорим в следующих главах) в знаменитой повести-сказке братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». В* известной, сказочной повести Э. Успенского хорошие крокодил Гена и его друзья тоже противостоят одному единственному противнику - злодейке Шапокляк с крысой на верёвочке.
Примеры можно продолжать и дальше, однако здесь возникает важный вопрос: идея коллективизма сама по себе не является специфической для детской повести-сказки. Эта идея< - краеугольный камень всей теории социалистического реализма. Современный исследователь отмечает, что народное сознание, в противовес литературе XVIII-XIX веков, основано «на общинности, на коллективном, всеобщем начале. Именно это начало и осталось в литературе советского периода в качестве не единственного, но доминирующего над всем прочим. И благодаря ему оказался возможным сам феномен советской литературы с заранее предопределённым приоритетом коллектива, массы над личностью, с сознательным подчинением личности массе, в радостном
Волков А. Урфин Джюс и его деревянные солдаты / А. Волков. - М.: Советская Россия, 1985. - С. 192.
46 растворении в ней...» . Как подчёркивали в своё время авторы коллективного труда о проблемах теории социалистического реализма, к числу главных «опорных принципов» этой теории относится «в первую очередь принцип коллективизма», который исходит из постулата о том, что «во взаимосвязях с жизнью,* с миром природы человек может играть двойственную роль только как частица целого (выделено мной. - А. #.),
как часть коллектива» .
Именно в таком> советском духе могла восприниматься (и воспринималась) идея коллективности в детских повестях-сказках. Это казалось многим читателям и критикам, особенно тем, кто стоял на официальных позициях, само собой разумеющимся, естественным и не требующим доказательств. В этом смысле кажутся не случайными параллели и интертекстуальные переклички между детскими повестями-сказками и «взрослыми» произведениями, которые эстетика социалистического реализма рассматривала как образцовые. Вот только одна из таких перекличек. Вспомним сцену суда над диктатором из волковской сказки:
«Через несколько дней состоялся суд над Урфином Джюсом. Жители Изумрудной страны предлагали отправить его в рудники.
- Друзья, - сказал Чарли Блек, - а не лучше ли оставить этого
человека просто наедине с самим собой?
- Правильно, - сказала Элли, - это будет самым тяжёлым
наказанием для него, пусть он поживёт среди тех людей, которых хотел
подчинить себе, пусть всё напоминает ему о его ужасных намерениях и
делах.
- Элли, ты здорово сказала! - воскликнул Страшила. - Я с тобой
согласен!» .
87 Голубков М. М. Циг. соч. - С. 71.
88 Курс лекций по теории социалистического реализма / Под ред Выходдева П. С. - М: Высшая школа,
1973. - С. 142-143.
89 Волков А. Урфин Джюс... - С. 196-197.
Сравним эту сцену с аналогичной сценой суда над Ларрой из знаменитой «Старухи Изергиль» М. Горького:
«Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, - тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:
- Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему - в нём самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!
И тут произошло великое. Грянул гром с небес, - хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого»90.
Структурно-композиционное, отчасти лексическое и семантическое сходство этих отрывков совершенно разных - «взрослого» и детского -писателей очевидно, и объясняется тем, что типовое решение проблемы коллектива и индивида, противопоставляющего себя ему, в советской литературе было, что называется, «общим местом».
И вот теперь мы можем сформулировать вопрос, который возникает при< анализе открытой И. П. Лупановой в, сказке В. Каверина * стержневой семантической конструкции! «хороший коллектив против плохого одиночки».
Дело в том; что в свете современных представлений идея коллективности отнюдь не кажется бесспорно хорошей. Современный исследователь, которого мы* только что цитировали, продолжает: сложившаяся в советской литературе «химерическая( конструкция (коллективности. — А. Н.) заимствовала в уродливом и извращённом виде черты народной культуры (отметим, объективности ч ради, что старуха Изергиль рассказывает именно народную легенду. - А. #.), сделав их антинародными, доводя до апогея идею несвободы человеческой личности,
Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький // Горький М. Поли. собр. соч.: В 25 т. - М.: Наука, 1968. -Т. 1. - С. 80.
48 её подчинённости коллективу - на сей раз коллективу социалистическому, трудовому, цеховому и т. д.»91.
Если с этим утверждением М. М. Голубкова согласиться, то, действительно, возникает вопрос: не являются ли повести-сказки В. Каверина и других писателей-сказочников, утверждавших идею коллективности, с точки зрения современных представлений на самом деле «антинародными», доводящими «до апогея идею несвободы человеческой личности»?
Конечно же, это не так.
Прежде всего заметим, что сказочные коллективы, в силу самой природы жанра хотя и литературной, но, прежде всего, сказки, гораздо ближе к народной культуре, которую М. Голубков оценивает положительно, чем к культуре официальной советской идеологии. А народная культура, выразителем которой в интересующем нас аспекте является фольклорная сказка, «всеобщее начало» понимала иначе, чем литература соцреализма. Дело в том, что официальная идеология одним из главных формообразующих признаков коллектива считала его обязательную формальную, одобренную государством организованность и связанный с ней элемент принуждения (что обуславливало профессиональное или полупрофессиональное руководство тем или иным коллективом). «Краткий философский словарь» 1955 года настаивал: «В деле коммунистического воспитания масс важную роль наряду с убеждением играют меры государственного воздействия»92, а в вышедшем в последние годы советской власти (и потому как бы итоговом) «Философском энциклопедическом словаре» сообщалось: «Важнейшую роль в коллективе играют ячейки массовых общественных организаций -партийных, комсомольских, профессиональных и других, которые призваны активно влиять на деятельность коллектива. <...> Серьёзное
91 Голубков М. М. Цит. соч. - С. 71.
92 16. а] Коммунистическое воспитание трудящихся // Краткий философский словарь. - М: Государств,
изд-во политической литературы, 1955. - С. 202.
49 значение для создания здорового нравственно-психологического климата в коллективе имеет деятельность руководителей разных уровней, призванных сочетать организаторскую и воспитательную работу»93.
Идеальная модель такого коллектива - официальное собрание, которое не прекращается на протяжении всей жизни человека. (Логическое завершение развития такой модели показал Е. Замятин в романе «Мы»).
Вот этого, «важнейшего» для эстетики социалистического реализма аспекта организованности нет в сказочных коллективах В. Каверина и многих других писателей-сказочников 60-х годов. В каверинской повести-сказке о Великом Завистнике нет даже явного лидера (выполняющего если не все, то хотя бы некоторые функции «руководителя»), как это было в романах-сказках М. Шагинян (Мик Тингсмастер, «самый умный», как его
0*1
называют рабочие, «из нашего брата в Америке!» ), Ю. Олеши (Тибул, «лучший гимнаст в стране»9), повестях-сказках А. Толстого (Буратино), А. Волкова (Элли). В сказочной повести В. Каверина Таня, Петька, Лекарь-Аптекарь, Учёный Садовод, Старая Лошадь не включены ни в какую иерархию, они связаны лишь узами взаимной симпатии, какую у Каверина испытывают друг к другу хорошие люди. Объединяет их в единый коллектив прежде всего нравственное чувство.
Идеальная модель такого коллектива - семейный праздник. Недаром повесть-сказка заканчивается (после того, как Великий Завистник был побеждён) сценой дня рождения, на который Таня пригласила не только Петьку, «но и Ниночку, и Лекаря-Аптекаря, и косолапенькую Лору, которая научилась теперь ходить легко, как снегурочка, или, во всяком случае, не так тяжело, как медведь.
Лапин Н И Коллектив / Н. И. Лапин // Философский энциклопедический словарь. - М: Советская энциклопедия, 1989. - С. 265.
94 Шагинян М Месс-Мснд, или Янки в Петрограде. Роман-сказка / М Шагинян. - М : Детгиз, 1957. -
С. 17.
95 Олеша Ю. Три толстяка / Ю. Олеша // Олеша Ю. Избранное. - М: Художественная литература, 1974. -
С. 106.
50 Дети говорили о своих делах, а взрослые - о своих (так и бывает на
семейном празднике. - А. К). И всё было так, как будто на свете нет и
никогда не бывало сказок.
И вдруг Солнечные Зайчики побежали по комнате - весёлые,
разноцветные, с коротенькими розовыми хвостами» .
Итак, та новая традиция, которую заметила в каверииском творчестве И. П. Лупанова, связана с возвращением (или привнесением) в понятие коллективности собственно человеческого смысла: стержнем, опорой понятия становится воплощённая в образе семьи идея родственности. Вспомним, как в «Чебурашке» Э. Успенского Крокодил Гена и друзья строят Дом дружбы (дом для знакомств, то есть, некое официальное учреждение), а когда он, наконец, построен, то оказывается, что он уже не нужен: все не просто подружились, но сроднились друг с другом. Так же обстоит дело и у многих других писателей-сказочников 60-X годов.
Поэтому можно оспорить утверждение новейшего учебника по русской детской литературе: «Обобщающая идея литературы, создаваемой ими (писателями-«шестидесятниками>>. - А. Н.), сводится к утверждению человеческой личности как первейшей ценности, перед которой должны
97 г-ч
отступить идеалы коллективности» . Это утверждение носит концептуальный характер, но с ним нельзя согласиться. Детские писатели в 60-е годы, как в этом убеждает анализ сказочных повестей изучаемого периода, утверждали ценность человеческой личности не вопреки, а благодаря идеалам коллективности, только это была не холодная, официальная, бездушная коллективность, а тёплая, родственная коллективность семьи, включающая в себя и персонажей, связанных кровными узами, и вообще всех «хороших» людей. Собственно, так обстояло дело и в народной культуре, недаром в фольклорной волшебной
96 Каверин В. Много хороших людей и один завистник/ В. Каверин // Каверин В. Три сказки и еще одна
- М: Детгиз, 1963.-С. 84.
97 Арзамасцева И. Н, Николаева С. А. Детская литература... - С. 343.
51 сказке, «"кто бы ни был таков персонаж", он либо является родственником или свойственником, либо выдаёт себя за них, либо оказывается им. <...> Именно отношения родственников или свойственников определяют основные коллизии волшебной сказки»98.
Коллективность в литературной сказке (от Пушкина до наших дней), оказывается внешней формой для выражения архетипической, окончательно сложившейся ещё на стадии фольклорного сознания идеи родственности. В 60-е годы, прежде всего в творчестве В. Каверина, этот внутренний, архетипический план содержания сказочного коллектива становится уже и внешним, открытым для непосредственного читательского восприятия, что меняет нравственный смысл традиционного понятия коллективности. Такую коллективность уже нельзя назвать «антинародной», более того, без неё вообще невозможна свобода человеческой личности.
Дальнейший анализ семантической конструкции «Много хороших людей против одного плохого» в каверинской повести-сказке обнаруживает ещё одну её парадоксальную особенность. Стоит задуматься: а так ли уж похвально, когда много, пусть и хороших, людей борются против одного, пусть и плохого? Ведь с точки зрения современных морально-педагогических представлений ситуация, когда многие нападают на одного, никак не может считаться нравственной.
Так оно и было бы, если бы не одно важное обстоятельство: «один» в сказочной повести В. Каверина не слабее, а безмерно сильнее «многих». Великий Завистник, заявляющий: «чудесами распоряжаюсь лично я впредь до распоряжения»99, безусловно, соотносится с фольклорным волшебно-сказочным образом Кощея Бессмертного. Их объединяет главное - оба они служат смерти и её символически воплощают. Великий Завистник жаждет смерти художника Заботкина, отца Тани, превращает детей в птиц и
98 Новик Е. С. Система персонажей русской волшебной сказки / Е. С. Новик // Структура волшебной
сказки. -М: Рос. гос. гуманитар, ун-т, 2001. - С. 138-139.
99 Каверин В Много хороших людей... - С. 48.
52 животных (это тоже метафора смерти). Писатель, естественно, трансформирует фольклорный образ Кощея-Смерти, привнося в него черты бюрократа, своим равнодушием убивающим окружающих. При этом автор находит такие краски, чтобы не только взрослый, но и маленький читатель почувствовал тот страх смерти, который исходит от Великого Завистника: «Он засунул в мусоропровод свою длинную белую руку, и рука поползла всё ниже - в восьмой, седьмой, шестой, пятый этаж. Нет и нет! Вытянув губы в длинную страшную трубочку, бормоча: "Ах так, миленькие мои! Значит, так? Хорошо же!" - он вернулся в свою комнату»100.
Этот эпизод выдержан в духе не классического, а современного детского фольклора, близкого и понятного маленькому читателю, живущему во второй половине XX века. Образ-мотив ползущей руки -излюбленный в детских страшилках. С. М. Лойтер выделяет среди вариантов этого образа-мотива такие (почти буквально совпадающие с текстом В. Каверина): «Чёрная рука ищет город, улицу, дом, квартиру... . Белая рука появляется из белой тени; высовывается из потолка; протягивается...»101. Эта «рука», несущая смерть102, в повести-сказке В. Каверина совершенно определённо раскрывает в глазах маленького читателя смертельную природу Великого Завистника.
Вот для чего в «Много хороших людей...» необходима коллективность (родственность): для борьбы со Смертью (ведь эта борьба определяет даже саму сюжетику каверинской сказки). Н. А. Хренов справедливо замечает, что именно в традиционной культуре человек научился противостоять смерти, поскольку именно в этой фольклорно-
100 Там же. - С. 45-46.
101 Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология / С. М. Лойтер. - Петрозаводск: Изд-во
КГПУ, 2001. - С. 123. См. также: Лойтер С. М. Современный школьный фольклор. Пособие-хрестоматия
/ С. М Лойтер, Е. М. Неелов. - Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 1995. - С. 42-45; Лойтер С. М Детские
страшные истории («страшилки») / С. М. Лойтер // Русский школьный фольклор От «вызываний»
Пиковой дамы до семейных рассказов. - М.: Ладомир, ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. - С. 124.
102 О генезисе и семантике образа Руки в детском фольклоре см : Чередникова М. П. Современная
детская мифология в контексте фактов традиционной культуры и детской психологии /
М П. Чередникова. - Ульяновск: Лаборатория культурологии, 1995. - С. 58-69.
53 традиционной культуре «свой страх перед ней (смертью. - А. Н.) он преодолевает коллективно (выделено мной. — А. #.)» . Такое коллективно-родственное преодоление страха смерти можно наблюдать и в современном детском фольклоре. При этом важно, что в детской литературе (не входящей в состав традиционно-патриархальной культуры) дело, как правило, обстоит иначе. Б. М. Сарнов справедливо подчёркивает, что «обычно книги, адресованные детям, обходят, игнорируют смерть»104, и связано это с тем, что мысль о смерти для маленького человека, так сказать, онтологически неприемлема. Б. М. Сарнов иллюстрирует этот тезис примером из повести В. Пановой «Серёжа», в которой мальчик, переживающий смерть прабабушки, узнаёт от тёти Тоси, что «мы все ухмрём», и впадает в отчаяние. «Детская книга, - заявляет Б. М. Сарнов, -говорит своему читателю точь-в-точь то же самое, что Коростылёв (один из героев пановской повести. -А.Н.) сказал Серёже:
- Тётя Тося как себе хочет, а ты, лично ты никогда не умрёшь. Я тебе это гарантирую... »105.
Словом, по верному замечанию В. А. Рогачёва, «Детство богато запасами неограниченного оптимизма по отношению к бытию, оно уверено в бессмертии и остранённой статуарности всего сущего на земле»106. Правда, существует и иная точка зрения. С. М. Лойтер пишет, что «В. Н. Топоров называет детство зоной повышенной и открытой опасности; "зоной, находящейся под неусыпным вниманием смерти, когда всякая опасность несёт угрозу жизни, неотменяемую возможность смерти"» . Однако В. Н. Топоров «зоной повышенной опасности» называет не детство вообще, а детство вполне конкретного человека: о «неусыпном внимании смерти», - пишет он, - Мандельштам «узнал ещё в
103 Хренов Н А. Мифология досуга / Н. А. Хренов. - М.: Гос. республиканский центр русского
фольклора, 1998. - С. 298.
1 Сарнов Б. М. Рифмуется с правдой / Б. М. Сарнов. - М.: Советский писатель, 1967. - С. 26.
105 Там же - С. 31 (выделено автором).
106 Рогачев В. А. Гармонии начальные уроки: Научно-критический очерк о художественности детской
поэзии / В. А. Рогачев. - Тюмень: РИС Тюменского ун-та, 1990. - С. 19.
107 Лойтер С. М. Русский детский фольклор... - С. 87.
54 детстве на своём "соматическом", шире - психофизиологическом опыте» , что и определило трагические мотивы его творчества. Это исключение, подтверждающее правило: детство будущего великого поэта в своём «психофизиологическом опыте» и должно быть иным, нежели у обычного, так сказать, среднестатистического ребёнка. Можно предположить, что настоящий опыт детской встречи со смертью прерывает детство, переводит «ребёнка» на уровень если не «взрослого», то подводит к этому уровню109.
Итак, вопреки традиционному в детской литературе «запрету» на серьёзное изображение смерти, повесть-сказка В. Каверина полностью посвящена теме борьбы со Смертью. В. Каверин рассказывает, как представляет себе Великий Завистник похороны художника, подробно изображает предсмертные часы своего героя:
«Он ещё шутил!
- Пожалуй, "Портрет жены художника" придётся назвать портретом его вдовы, - сказал он друзьям.
Это тоже была ещё шутка.
С каждым часом ему становилось всё хуже» 10.
Конечно, в детском сознании трагизм этой ситуации смягчается твёрдым, обусловленным самими законами жанра, ожиданием счастливого конца (который ребёнок великолепно чувствует, хотя, скорее всего, не сможет сформулировать), но взрослый читатель трагизм происходящего ощутит в полной мере (опять-таки благодаря законам жанра, «очищающим» реальные ситуации от лишних бытовых подробностей).
108 Топоров В Н. О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама / В Н Топоров //
Топоров В Н Миф Ритуал. Символ Образ Исследования в области мифопоэтического Избранное -
М Изд группа «Прогресс», «Культура», 1995 - С. 445.
109 Достаточно сослаться на поразительное свидетельство еще одного великого русского писателя -
протопопа Аввакума - об одном из эпизодов своего детства, во многом предопределившего судьбу
Аввакума. «Аз же некогда ввдфвъ у сосуда скотину умершу, и той нощи, возставше, пред образом
плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и MHtj умереть И с тТ]Хъ м^стъ обыкочъ по вся
нощи молитися» (Сочинения Аввакума- Житие // Памятники литературы Древней Руси XVII век Книга
вторая - М : Художественная литература, 1989. - С. 355).
110 Каверин В Много хороших людей... - С. 73.
Философско-нравственная проблематика повести-сказки В.Каверина формируется на сложной игре «детского» и «взрослого» планов повествования, на игре многозначностью символического сказочного образа.
Побеждает Кощея-Смерть, как мы уже отмечали, коллектив-семья. Именно родственность, подчёркивает писатель, способна победить Смерть. Эта победа изображается в двух, соотнесённых друг с другом, эпизодах: в «бытовом», точнее, если можно так сказать, сказочно-бытовом, смешном (и одновременно страшном), когда Великий Завистник в буквальном смысле слова лопается от зависти, и романтически-возвышенном, интертекстуально отсылающим читателя (скорее взрослого, чем ребёнка) к знаменитой сказке Андерсена «Соловей».
Вспомним, у Андерсена Смерть приходит к императору, когда все его бросили: «Бледный, похолодевший лежал император на своём великолепном ложе, все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. <...> Во дворце стояла мёртвая тишина»111. Спасает императора и прогоняет Смерть не механический («воплощение ложного искусства»112), а живой соловей - символ искусства подлинного.
Характерно, что в аналогичной сцене у В. Каверина искусство не может спасти художника Заботкина. По В. Каверину, есть нечто более важное (не эстетика, а этика), что спасает:
У Заботкина «было так много учеников и друзей, что, когда Смерть вошла в комнату, она должна была проталкиваться сквозь толпу, чтобы добраться до его постели.
<...> Друзья расступались неохотно, и она опоздала - ненадолго, всего лишь на несколько минут. Но этого было достаточно: чёрно-белая птица с раздвоенным длинным хвостом мелькнула за окнами, и в
1'' Андерсен Г. X. Соловей / Г. X. Андерсен // Андерсен Г. X. Сказки и истории- В 2 т. - Кишинев: Лумина, 1973. - Т. 1. - С. 264.
112 Сильман Т. Сказки Андерсена / Т. Сильман // Андерсен Г. X. Сказки и истории: В 2 т. - Кишинев: Лумина, 1973.-Т. 1.-С.6.
56 открытую форточку влетел пузырёк, на котором было написано: "Живая вода"»113.
Смерть, которая не может протолкаться через толпу живых людей, объединённых дружескими (родственными) чувствами - это великолепный символический образ бессмертия.
Необходимо отметить, что если в детской литературе тема смерти в её серьёзном семантическом наполнении часто игнорируется, то во «взрослой» образ-мотив бессмертия весьма популярен, но он также часто отрицается. «В большинстве литературных вариантов мотива вечной жизни в XX столетии, - замечает современный исследователь этого мотива, - доминирует констатация несчастного бессмертия, которая приводит к утрате индивидуумом своего человеческого начала»114, и связано это с традиционным, бытующим и по сей день убеждением в том, что «если бы вечная жизнь была бытийно запрограммирована и навязана человеку извне как его неотразимая судьба, вряд ли это сделало бы его счастливее»115.
Сказочная повесть В. Каверина предлагает другое решение проблемы смерти и бессмертия. Коллектив, возрождающий родственность, чтобы победить Смерть (именно так мы интерпретировали семантическую конструкцию «Много хороших людей против одного плохого») прямо отсылает нас к известной философии «общего дела» Н. Ф. Фёдорова. Заметим, что если отечественная философия последних десятилетий советской власти считала Н. Ф. Фёдорова хотя и «колоритным», но «реакционным», «доморощенным богословом» ] , то его влияние на русскую литературу XX века в полной мере начинает осознаваться лишь в
11 г Каверин В Много хороших людей .. - С. 73.
И4Ня\шуА Е Своєрідність трансформації мотиву безсмертя у світовій літературі ІА Е Нямцу// Антофійчук В І, Нямцу А. Е. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі -Чернівці Рута, 1997. - С 58
115 Коган Л А. Жизнь как бессмертие / Л. А. Коган // Вопросы философии. - 1994. - № 12. - С. 43.
116 Пазилова В. П Критический анализ религиозно-философского учения Н. Ф. Федорова /
В П. Пазилова -М: изд-во МГУ, 1985. - С. 96.
57 наши дни . Главная фёдоровская идея - идея родственности (напомним, что именно родственность определяет своеобразие каверинского «коллектива»). Родственность необходима, чтобы с помощью регуляции
1 1 Я
природы победить СхМерть и воскресить умерших (патрофикация) . Думается, что если говорить о «взрослом» философском смысле каверинской сказки о Великом Завистнике, то он напрямую связан с художественным воплощением комплекса идей Н. Ф. Фёдорова (мы сейчас оставляем в стороне вопрос о наличии прямой и сознательной интертекстуальной связи и отмечаем прежде всего несомненное типологическое сходство). С. Г. Семёнова пишет: «В ребёнке, по словам Фёдорова, "не проявилось ещё ни вражды, ни похоти", "чист человек и мир только в его источнике, в его детстве". Все мифологемы первоначальной чистоты, блаженства, Рая, возможно, рождаются психологически из оценки задним числом детского сознания и детского отношения к миру. <...> Вначале дитя не знает, что оно смертно, не знает смертности вообще и поэтому как бы изъято из области переживания зла. <...> И когда ребёнок сталкивается со смертью (как в сказке В.Каверина. -А. Я.), он реагирует полным её неприятием (которое в сказке В. Каверина демонстрирует полная победа над Великим Завистником. - А. К). <...> Дитя уже сейчас, в земной жизни, является - конечно, в несовершенной природной форме - носителем только родственных отношений»119. Этот комментарий С. Г. Семёновой фёдоровских представлений о детстве, на наш взгляд, вполне может служить и комментарием к образам детей в сказке В. Каверина. Детская родственность, «детское отношение, -
117 Об этом >бедительно свидетельствуют материалы VII Фёдоровских чтений, проходивших в Москве в
1995 году, десять лет сп>стя после выхода в свет монографии В. П. Пазиловой. См., напр : Философия
бессмертия и воскрешения: По материалам VII Федоровских чтений, г. Москва, 8-Ю декабря 1995 г.
Вып 1 / Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горького РАН. - М.: Наследие, 1996; Философия бессмертия и
воскрешения: По материалам VII Федоровских чтений, г. Москва, 8-Ю декабря 1995 г. Вып. 2 / Ин-т
мировой лит-ры им. А. М. Горького РАН. - М.: Наследие, 1996.
118 Подробно об этом см.: Семёнова С. Преодоление трагедии: Вечные вопросы в литературе /
С. Семенова. - М.: Советский писатель, 1989; Семёнова С. Николай Фёдоров: Творчество жизни / С. Семенова. -М.: Советский писатель, 1990.
119 Семенова С. Г. Тайны Царствия Небесного / С. Семенова. - М.: Школа-Пресс, 1994. - С. 160-161.
(выделено автором).
58 продолжает Фёдоров, - должно на совершеннолетнем уровне стать нормой для всех» . Заметим, что в повести-сказке В. Каверина взрослые положительные персонажи (Лекарь-Аптекарь и другие) обладают, в сущности, детскими характерами, как бы реализуя в наивной сказочной форме мечту создателя учения об «общем деле» - победе людей над смертью. Исключение составляют, пожалуй, лишь родители главной героини, так как их статус «родителей» требует соответствующего психологического обоснования. Характерно, что наделение взрослых персонажей чертами ребёнка, заметное в литературной сказке на всём протяжении её истории (вспомним хотя бы Айболита и Бармалея у К. И. Чуковского), особенно усиливается именно в 60-е и последующие за ними десятилетия. Особенно ярко это заметно у Э. Успенского и в повести-сказке «Крокодил Гена и его друзья» (старуха Шапокляк), и в повести-сказке «Вниз по волшебной реке» (бояре), и в повести-сказке «Дядя Фёдор, пёс и кот» (в которой черты «детскости» проступают не только, скажем, в почтальоне Печкине, но даже и в маме и папе главного героя).
Фёдоровские представления об «общем деле» помогают понять даже детали художественной ткани сказки В. Каверина. Например, мы помним, что, в конце концов, Великий Завистник в буквальном и переносном смыслах лопнул и «стал похож на воздушный шар, из которого выпустили воздух»121. И далее писатель сообщает: «И Лора увела его, потому что она была хорошая дочка, а папа, даже и лопнувший от зависти, всё-таки остаётся папой»122.
Эта маленькая деталь уже отмечена в литературе о В. Каверине. О. Новикова и Вл. Новиков, авторы критического очерка о писателе, усматривают в этой детали «важную идею гуманного сострадания, на которое имеет право даже Великий Завистник» и поэтому, хотя «с
120 Там же.-С. 161.
121 Каверин В. Много хороших людей... - С. 81.
122 т
Там же.
59 фольклорным злом принято расправляться беспощадно, но Каверин вносит смягчающий корректив, пользуясь правом автора сказки литературной»123.
Думается, что «смягчающего корректива» в сказочной повести писателя нет: ведь фольклорная сказка совсем не требует гибели злодея после победы над ним. Как замечает Е. И. Маркова, «народной сказке не так важно то, что злой царь сварился в котле, как то, что этой своей гибелью он доказал свою неполноценность, свою внутреннюю несостоятельность. Это обнаружение <...> ущербности может и не сопровождаться гибелью антигероя: сказке достаточно того, что он посрамлён. Победа героя обусловлена законом сказочной справедливости»124.
Этим законом сказочной справедливости обусловлено и отношение к Великому Завистнику в сказке В. Каверина. В этом отношении, действительно, можно обнаружить «идею гуманного сострадания», но более правомерной представляется иная интерпретация. Н. Ф. Фёдоров в своих размышлениях большое внимание уделял добрым отношениям детей к родителям, считая эти отношения залогом восстановления родственности. «Определяя благо неоставлением родителей, а зло падением, удалением от них, мы следуем евангельскому критерию», -писал он . Именно так, в буквальном смысле по завету Н. Ф. Фёдорова, и поступает Лора, не оставляя своего отца после его краха. Любопытно отметить, что если Лора следует императиву родственности, то сам Великий Завистник его нарушает: «чтобы хоть немного отдохнуть от отца, Великий Завистник время от времени превращал его в Старого Дрозда» .
123 Новикова О В Каверин. Критический очерк / О. Новикова, В. Новиков. - М.: Советский писатель,
1986. - С. 236.
124 Маркова Е. Роман-сказка М. Шагинян «Мссс-Менд» (к проблеме жанра) / Е Маркова // Традиции и
новаторство - Уфа: Изд-во Башкирского университета, 1975.-С. 119.
125 Федоров Н. Ф. Сочинения / H. Ф. Федоров - М.: Мысль, 1982. - С. 135.
126 Каверин В Много хороших людей .. - С. 31. Позднее, во второй редакции «Великого Завистника»,
писатель, подготавливая текст для включения в уже сложившийся цикл, убрал этот эпизод, но
разрушение Великим Завистником родственности осталось. (Каверин В Много хороших людей и один
завистник / В. Каверин // Каверин В. Ночной Сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в
городе Не\гухине в тысяча девятьсот неизвестном год)': Сказки. - М.: Детская литература, 1982. - С. 125-
170).
60 Лорино же поведение становится залогом будущего воскрешения, ведь «задача сынов человеческих - восстановление жизни, а не одно устранение смерти» . Смерть-Кощей у В. Каверина устранена, и теперь Великий Завистник, благодаря Лоре, имеет право не только на «сострадание», а на «восстановление жизни». Но всё это - уже за пределами сказки.
В современной фольклористике существует мнение, что фёдоровское учение представляет собой не что иное, как рациональное выражение жанрового содержания русской фольклорной волшебной сказки128. Если с этим согласиться, то тогда наша попытка понять философский план содержания каверинской повести-сказки в контексте идей «Философии общего дела» представляется вполне обоснованной.
Тема смерти в детской литературе заслуживает, на наш взгляд, отдельного исследования . Нам же важно отметить следующее: тенденции к превращению сказки в социально-политическую аллегорию, о которой мы говорили в начале второго раздела этой главы, противостояла в 60-е годы тенденция упгубленного нравственно-философского осмысления действительности. Одним из первых в изучаемый нами период эту тенденцию воплотил В. Каверин. Анализ его творчества и, прежде всего, повести-сказки «Много хороших людей и один завистник» показывает, что речь идёт не об упрощённом, а в полном смысле слова философском анализе реалий современности средствами сказочной поэтики. При этом детский и взрослый планы содержания переплетаются, причём роль взрослого плана возрастает. В своё время С. Цимбал точно
127 Фёдоров Н Ф. Сочинения... - С. 135.
1:8 См об этом: Неёлов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки / Е. М. Неёлов -
Петрозаводск: РИО ПетрГУ, 1989.
129 Заметим лишь, что введение этой темы в детскую, особенно сказочную, литературу до 60-х годов
было, скорее, исключением из общего правила (Б. Сарнов в уже цитировавшейся монографии разбирает
в этом плане творчество А. Гайдара), после же 60-х годов, после опыта В. Каверина (а тема смерти важна
для всего его сказочного цикла) и других писателей-сказочников изображение встречи ребенка со
смертью все чаще и чаще появляется на страницах повестей-сказок. Достаточно сослаться на творчество
В Крапивина 70-х - 80-х годов («Голубятня на желтой поляне») и С. Лукьяненко («Рыцари сорока
островов») в 90-е годы
заметил: «Сказка не имеет права быть глупее и наивнее своего времени»130. Эти слова в полной мере можно отнести к сказкам В.Каверина и других представителей второй тенденции.
Характерно, что борьба указанных тенденций проходила не только в творчестве разных писателей, о которых мы уже говорили, но порой и в рамках одного произведения.
Яркий пример такой борьбы даёт повесть-сказка В. Медведева «Баранкин, будь человеком!» (1962). Эта повесть широко известна маленьким читателям. Б. Бегак в конце 80-х годов вспоминал: «Писателя Валерия Медведева открыл для нас немногим больше двадцати лет назад Лев Кассиль. Даже резкий спор у него вышел с коллегами - публиковать повесть о Баранкине или вернуть её автору. Смущала многих эта сказка не сказка, быль не быль»131. Однако эффект, вызванный публикацией повести-сказки В. Медведева, был ошеломительным: «От Москвы до самых до окраин, - свидетельствовал журнал «Детская литература», -девочки и мальчики любят книгу Валерия Медведева "Баранкин, будь
і эл
человеком!". Её читают и перечитывают» .
Увлекательная история приключений двух закадычных друзей, Юры Баранкина и Кости Малинина, которые устали быть людьми и получать «двойки» по геометрии и поэтому превратились сначала в птиц, а потом в насекомых, действительно, волновала воображение читателей. Парадоксально, но ребятам расхотелось быть людьми именно потому, что они пожелали жить по-человечески:
« - ...Превратимся в воробьев и хоть одно воскресенье проведём по-человечески!
- А как это - по-человечески? - спросил ошеломлённый Малинин.
Цимбал С. Творческое своеобразие сказок Евг. Шварца / С. Цимбал // О литературе для детей. Вып. 3. Л.: Детгиз, 1958. - С. 133.
131 Бегак Б. Юра Баранкин и другие/Б. Бегак //Учительская газета. - 1984.-7 января (№3/8316).-С. 4.
132 Долецкая И. Стала ли человеком Эра Кузякина? / И. Долецкая // Детская литература - 1967, - № 8. -
С. 59.
- По-человечески - значит по-настоящему, - пояснил я. - Устроим себе настоящий выходной день и отдохнём как полагается от этой арифметики, от Мишки Яковлева... от всего на свете отдохнём...»133.
Однако, вдоволь намучившись в «превращенном» облике, друзья осознают, что жить по-человечески совсем не означает жить как трутни (в которых мечтали превратиться герои). Как отмечает И. П. Лупанова, «главная идея сказки Медведева не в том, чтобы убедить своих героев, а вместе с ними и похожих на них читателей, что беззаботной, беспечной жизни вообще "не может быть нигде - ни на земле, ни под землёй". Главное в книге - открытие героями в самих себе качеств, которые в процессе всех волшебных превращений помогали им оставаться
человеками» .
Таким образом, главный нравственный императив произведения, отражённый и в заглавии сказочной повести, звучит так: быть человеком! Однако этот призыв можно понимать по-разному, и повесть В. Медведева допускает, по крайней мере, два его толкования.
Первое из них лежит на поверхности текста. Историю превращения мальчишек можно понимать как некую аллегорию, имеющую прежде всего дидактический смысл. Тогда девиз «Быть человеком!» расшифровывается как призыв быть примерным мальчиком, успевающим учеником, хорошим пионером, активным общественником. Увлекательные же приключения героев в этом случае играют роль сладкой оболочки для горькой пилюли суровой морали. Самостоятельного художественного смысла они не имеют. Надо заметить, что повесть-сказка В. Медведева даёт основания для такого её восприятия. Стоит вспомнить, как ведут себя в конце действия, вновь став людьми, Баранкин и Малинин: занимаются уроками до изнеможения, потом идут в сад сажать деревья, потом
133 Медведев В Баранкин, будь человеком! / В. Медведев // Медведев В. Фантазии Баранкина. - М :
Детская литература, 1978. - С. 19-20.
134 Лупанова И. П. Быть человеком! (Размышления о герое современной литературной сказки) /
И П Лупанова//Детская литература 1971 год -М.: Детская литература, 1971. -С. 189-190 (выделено автором).
63 Баранкин снова учит уроки, а утром, аккуратно застелив постель, тихо завтракает и бежит (!) задолго до начала занятий в школу.
Спрашивается, какой ребёнок вдохновится такой жизненной перспективой?
Зато он почти наверняка будет с замиранием сердца следить за перипетиями сражения воробьев, за подкрадывающейся к героям кошкой Муськой, за засыпающим на всю зиму бабочкой-Малининым, за страшной войной муравьев. И вот это-то замирание сердца читателя, то есть, живое эстетическое чувство ребёнка и открывает возможность иной интерпретации произведения, полный смысл которой поймёт скорее уже не ребёнок, а взрослый.
Повесть-сказку В. Медведева можно рассматривать как современный детский вариант древнейшего сюжета, основанного на метаморфозе персонажа. М. М. Бахтин подчёркивает: «Метаморфоза (превращение) - в основном человеческое превращение - ... принадлежит к сокровищнице мирового доклассового фольклора. Превращение и тождество глубоко сочетаются в фольклорном образе человека. В особенно чёткой форме это сочетание сохраняется в народной сказке»135. Поэтому неудивительно, что из народной сказки эта «особенно чёткая» форма метаморфозы перешла и в сказку литературную. Превращение человека в животное (птицу, насекомое) с последующим возвращением человеческого облика заключает в себе устойчивую архетипическую семантику (напомним, что этот мотив мы уже встречали у В. Каверина). М. М. Бахтин отмечает: «Древнейшее фольклорное ядро метаморфозы - ... это смерть, схождение в преисподнюю и воскресение»13 . Можно предположить, что этот семантический ряд сохраняется в глубине медведевской сказки. «Смерти» здесь соответствует тот казённый быт школы и пионерского отряда с бесконечными собраниями, мелочной регламентацией, назойливым
135 Бахтин М М Формы времени и хронотопа в романе / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Вопросы
литерат>ры и эстетики - М.: Художественная литература, 1975. - С. 262 (выделено автором).
136 Там же.-С. 272.
64 повторением прописных истин (« - Физический труд, - сказал главный редактор нашей стенгазеты, - лучший отдых после умственной работы» ). Пребывание героев в зооморфных обликах - это своеобразное «схождение в преисподнюю». Роль преисподней в данном случае играет природа. Стоит обратить внимание на то, что герои, последовательно превращаясь в воробьев, бабочек и муравьев, постоянно сталкиваются со смертельными опасностями. Причём эти опасности писатель изображает подробно и подчёркнуто реалистично:
«В трёх шагах от меня Муська и её помощница замерли на месте. Они присели, выгнули спины трамвайной дугой и заурчали. Царапая железную крышу когтями, приготовились к прыжку. "Собираются прыгать! Значит, мы с Костей не превратились в бабочек, - подумал я. -Не успели! Значит, всё пропало!.." Мне стало холодно. По телу побежали мурашки. Очевидно, это были последние мурашки в моей жизни...» .
А в финале приключений героев, после рассказа о страшной войне муравьев, писатель заставляет героев и маленьких читателей пережить самую настоящую смерть (ведь герои и читатели ещё не знают, что смерть эта мнимая):
«И в это время за моей спиной раздался какой-то ужасный свист. Плотная волна воздуха толкнула меня в бок, перевернула вверх тормашками, завертела волчком и сорвала с паутинки. Кувыркнувшись несколько раз через голову, я успел заметить, как огромный стриж на всём ходу склевал Костю Малинина и взмыл в небо...
Когда я понял, ч-т-о случилось, мне стало дурно, я потерял сознание
f 139
и свалился без чувств на землю...» .
Такое прямое столкновение маленьких героев с миром смерти, уже знакомое нам по сказочному творчеству В. Каверина, подчеркнём ещё раз, удивительно, ведь, как заметил современный философ, метафизика детства
137 Медведев В. Цит. соч - С. 11.
138 Там же.-С. 48.
139 Там же - С. 106-107 (выделено автором)
65 - альтернатива смерти140. Поэтому изображение смерти в детской повести-сказке, нарушая, в известной степени, её эстетические законы, создаёт, тем не менее, сильный художественный эффект. Этот эффект понадобился В. Медведеву, как мы можем полагать, для того, чтобы поставить героев повести лицом к лицу с той «преисподней» природы, которая противостоит человеческому миру. И перед лицом этой преисподней оказываются несущественными те казённые, официальные формы человеческого существования, против которых бессознательно выступают герои в начале действия. Эти формы оказываются временными, преходящими, и за ними открывается радость человеческого существования. Радость настолько большая, что даже повторение учебных заданий и посещение школы оказывается счастьем.
После «воскрешения» - возвращения в привычный человеческий облик - происходит своеобразное перерождение наших героев: они понимают, что значит быть человеком. «И мы стали молча смотреть друг на друга. Костя смотрел на меня, а я смотрел на Костю, и не просто смотрел, а рассматривал всего, с ног до головы, рассматривал, как какое-то потрясающее чудо природы. <...> После всего-всего, что я пережил, уж я-то точно знал, что если руки человека - это чудо, то уж го-ло-ва - это самое расчудесное чудо из всех расчудесных чудес. Даже голова Веньки Смирнова - это тоже чудо. Только он ещё не знает об этом, а во-вторых, не умеет этим чудом пользоваться. А таких, как Венька, на земном шаре может, наверное, много человек набраться. И в Америке есть свой Венька Смирнов, и во Франции, и в Англии... И везде есть такие ребята, которые ни о чём не думают, и такие, которые думают совсем не о том, о чём надо думать, - такие тоже есть. Например, я и Костя Малинин! Но теперь-то я точно знаю, отчего это всё происходит: оттого, что не все ребята знают о
См. об этом: Исупов К. Г. Р>сская философская танатология / К. Г. Исупов // Вопросы философии. -1994. -№3,- С. 106-111.
66 том, как это замечательно интересно - думать вообще и особенно думать о
том, о чём нужно думать. Думать и соображать!» .
Любопытно отметить, что взрослый читатель заметит в этом
монологе Баранкина интертекстуальную отсылку к знаменитому
философскому тезису Декарта: «Мыслю, следовательно, существую».
Собственно, этот монолог героя можно рассматривать как детскую
«расшифровку» рассуждений философа. Композиционно
интертекстуальная перекличка готовится предшествующей монологу Баранкина юмористической сценой, в которой герои выясняют вопрос «существую я или не существую?»142 в дружеской потасовке.
Итак, в повести-сказке два финала. Первый, внешний, абсолютно дидактичен - герои исправились и стали такими, какими хотела их видеть Эрка Кузякина. Второй, внутренний, носит нравственно-философский характер. Героям открылась истина - человек - это чудо. И главное чудо -это умение «думать и соображать», а, следовательно, существовать, быть человеком.
Повесть В. Медведева, таким образом, внешне утверждает мир официальных ценностей советской педагогики, а внутренне эти официальные, казённые псевдоценности (например, получать «двойки» нехорошо, потому что это портит отчётность и мешает соревнованию пионерских отрядов) разрушает, приобщая маленьких читателей к сокровенному, философскому смыслу девиза «Быть человеком!».
Таким образом, социально-нравственную доминанту жанра повести-сказки в детской литературе 60-х годов XX века определяла, как можно полагать, борьба двух тенденций: социальному догматизму и прямолинейной дидактике противостояло стремление многих писателей углублённо разрабатывать философско-нравственную проблематику. В собственно эстетическом плане первой тенденции соответствовало
141 Медведев В Цит соч -С. 110-111.
142 Там же -С. ПО
67 тяготение к аллегорическому использованию сказочных мотивов и образов, второй - создание средствами сказочной поэтики многозначных художественных символов, имеющих как детский, так и взрослый смыслы. В истории советской литературной сказки преобладала (по крайней мере, одобрялась) первая тенденция, в 60-е же годы начинает превалировать вторая, что, собственно, отражает своеобразие эпохи «шестидесятников».
Детская повесть-сказка 60-х годов XXвека в контексте своей эпохи
В своей известной монографии, посвященной литературно-сказочному жанру, М. Н. Липовецкий справедливо заметил, что «литературная сказка неизменно активизируется в периоды значительных историко-культурных переломов, когда меняется духовная ориентация общества»1. 60-е годы, хотя сегодня они оцениваются по-разному, как раз и представляют собой такой период. По мысли М. Н. Липовецкого, «наивысшая активность литературной сказки приходится, прежде всего, на начало 20-х годов; далее - на вторую половину 30-х и начало 40-х годов; затем - на рубеж 50-60-х; и, наконец, на так называемые годы застоя, особенно на рубежи 60-70-х и 70-80-х годов. Все эти периоды могут быть определены как время идейных перевалов, ценностных кризисов и сломов, переживаемых всем обществом» .
Периодизация, предложенная М. Н. Липовецким, выглядит, на наш взгляд, расплывчатой: получается, что «наивысшая активность» литературной сказки наблюдалась в каждом десятилетии XX века, начиная с 20-х годов. Однако если вдуматься в слова М.Н.Липовецкого, то окажется, что самый активный период в истории литературной сказки -именно 60-е годы, с чем трудно не согласиться. Не случайно в рассуждениях исследователя интересующий нас период упоминается дважды, причём особо отмечаются его начало и конец. Однако прежде чем говорить об особенностях детской повести-сказки в контексте интересующей нас эпохи, необходимо объяснить, какой смысл мы вкладываем в понятие «60-е годы». По точному замечанию современного литературоведа «представляется очевидным», что «из множества написанных за последние десятилетия статей и книг (при всей важности и актуальности многих из них) обобщающая и авторитетная точка зрения на литературный процесс... XX века так и не сложилась»3. Это самым непосредственным образом отражается на проблеме периодизации литературного процесса XX столетия. Современное литературоведение стремится уйти от популярного в советские времена простого членения литературной эволюции на периоды партийного строительства. Сегодня говорят об «особенностях развития литературы 40-х - 60-х годов», «периоде 1956-1968: литературе времени "оттепели"»5, «детской литературе 60-80-х годов»6 и т. д. Такой разнобой, существующий и во «взрослом», и в «детском» современном литературоведении, создаёт путаницу, которая проникает даже в учебные программы, казалось бы, по определению, призванные аккумулировать устоявшиеся и общепринятые точки зрения. Так, например, вузовская программа курса русской литературы прошлого века, составленная кафедрой истории русской литературы XX века МГУ, выделяет, в числе прочих, период литературы «середины 1950-1990-х гг.» . Совершенно очевидно, что вторая половина 50-х годов и 90-Q годы представляют собой принципиально разные периоды и в эстетическом, и в мировоззренческом смыслах. Отсутствие единодушия и даже противоречия в решении проблемы структурирования литературного процесса как раз и требуют объяснить, почему мы рассматриваем 60-е годы как особый период в развитии если и не всей русской литературы XX века, то, по крайней мере, литературной сказки.
Прежде всего отметим, что в современном общественном сознании понятие «60-е годы» существует как нечто цельное и семантически определённое. Правда, эта семантическая определённость оценивается сегодня по-разному. Вот, к примеру, два совершенно противоположных взгляда на эпоху 60-х годов её современников: в то время как Я. В. Чеснов, автор учебного пособия по этнологии, говорит о «глухих 60-х годах»8, известный карельский писатель С. Панкратов вспоминает: «Мы тогда слишком поверили в тот ветер перемен, который повеял в нашем обществе в начале 60-х. Стали выражать свои мысли достаточно раскованно, поверили, что жизнь действительно можно прожить.с полной, без страха, безоглядной интеллектуальной отдачей»9. Так же противоречиво интересующая нас эпоха характеризуется и в новейших (опубликованных уже в XXI веке) работах по истории русской литературы. Одни скептически говорят о том, что «сегодня явно переоценивают значение эпохи, которая предшествовала современной, эпохи "оттепели". Её подчас объявляют чуть ли не ренессансом русской литературы, пришедшим на смену мрачной ночи культа»10. Другие же, напротив, считают, что конец 50-х - 60-е годы представляют собой, «как сейчас можно предположить, последний этап в развитии русской культуры, когда голос писателя, если воспользоваться лермонтовской строкой, "звучал как колокол на башне вечевой / во дни торжеств и бед народных"»11.
Мы не берём на себя ответственность за решение трудной задачи -определить, кто прав, а кто нет в этом споре, тем более, что он имеет не только литературно-художественное значение, но и выявляет признаки политической ангажированности. Заметим лишь, что истина, как всегда бывает в таких случаях, лежит посередине. В этом смысле более справедливо, на наш взгляд, мнение В. М. Акимова, который утверждает: «Несомненна наивность миропонимания "шестидесятников", корни их были неглубоки и питались нередко от утопических иллюзий минувшей эпохи. Но неоспорима историческая заслуга этого поколения перед культурой: она скорее всего имеет нравственный характер - это было первое поколение в советской истории, которое во всеуслышание заявило о ценностях внутренней свободы личности, о праве на искренность, "праве на себя"»12.
Типы фольклорных заимствований
Эта классификация является одной из самых полных, но требует всё-таки корректировки: «Переделка фольклорного текста» и связанное с ней изменение смысла - осовременивание и проч. (пункт 7) является, на наш взгляд, не самостоятельным типом фольклорного заимствования, а лишь обязательным следствием, результатом использования любого другого типа. Ведь даже простое цитирование фольклорного произведения (не говоря уже о других типах взаимодействия) в тексте современного писателя меняет собственно фольклорный смысл цитаты и тем самым «переделывает» её. Кроме того, следует учитывать, что некоторые типы почти автоматически влекут за собой другие, так, например, «образное заимствование», как можно полагать, предопределяет «функциональное» (поскольку сказочные фольклорные персонажи и так называемые «чудесные предметы» обладают строго ограниченным и только им принадлежащим набором функций ).
Попробуем, с учётом нашей корректировки, использовать классификацию О. Ю. Трыковой для характеристики многообразия интертекстуальных контактов сказочных повестей 60-х годов и русского фольклора.
Примером сюжетного заимствования может служить входящая в сказочный цикл В.Каверина повесть-сказка «Лёгкие шаги», использующая сюжет «Снегурочки» (СУС 703 ). Обращаясь к фольклорному сюжету, писатель его одновременно переделывает (мы только что об этом говорили), но переделывает так, чтобы читатель (в том числе и маленький) всё время чувствовал фольклорную основу. Как замечают авторы комментария к варианту «Снегурочки» в сборнике русских сказок А. Н. Афанасьева, сюжет «снегурочки» и в этом, и во многих русских текстах «развёрнут неполно» , что даёт возможность В. Каверину компенсировать эту «неполноту» собственной фантазией, превращая фольклорный сюжет в литературную сказочную повесть, но ключевые моменты сюжета сохраняют близость к фольклорному первоисточнику-инварианту. Вот, например, первый из таких ключевых моментов, в своей совокупности образующих фольклорную основу каверинской сказки:
«Девочка покачала головой. - Нет, я из снега, - объяснила она. Вчера ребята слепили снежную бабу. Мимо проходил какой-то старик с бородой. ... Мальчишки ушли, а он меня переделал. На голове у меня было ведро - он его сбросил, в руках швабра - он её вынул. ... Я не слышала, потому что меня ещё не было, но наверно, я уже отчасти была, потому что я всё-таки слышала»24. Это, безусловно, уже литературный текст, но он хорошо и естественно вписывается именно в фольклорный инвариант. В. Каверин использует не какой-то один конкретный вариант, как это сделал в своё время В. И. Даль, совершив в своей «Девочке Снегурочке» сюжетное заимствование из фольклорной сказки «Снегурушка и лиса»25, а весь имеющийся корпус вариантов26, из которых и строится инвариант сюжета. (Такой путь заимствования получает в литературной сказке широкое распространение. Мы его встретим, например, в повести-сказке Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»). Даже тогда, когда В. Каверин отступает от фольклорной традиции, он парадоксальным образом её сохраняет. Вот, скажем, он даёт своей Снегурочке человеческое имя - Настя, что можно расценивать как проявление уже законов литературной поэтики: от имени потянется «ниточка» и к портрету героини, и, затем, к её характеру27 (ничего этого нет и не может быть в классической фольклорной сказке). Однако в некоторых записях XX века, то есть, записях поздних, отражающих последний этап эволюции фольклорно-сказочного жанра в его устном бытовании, вдруг появляется имя Снегурочки: «Нюрочка-Снегурочка» , «Анна-Снегурочка»29, «Саленушка»30. Спрашивается, нарушил или нет В. Каверин фольклорную традицию, дав имя героине? Да, конечно, нарушил, поскольку в классической русской сказке имени нет, и в то же время - не нарушил, так как имя героини соответствует логике фольклорной эволюции на финальной, неклассической стадии. Структурное заимствование - это, по словам О. Ю. Трыковой, «заимствование не конкретного сюжета, а общей структуры, построения сказки», которое «даёт большой простор авторской фантазии и самостоятельности»31. Поэтому не случайно, что оно постоянно используется писателями на протяжении всей истории литературно-сказочного жанра, в том числе и в 60-е годы. Наиболее важными в этом смысле являются те элементы фольклорной сказочной структуры, которые, так сказать, делают сказку сказкой. Первый из них - это «основной», как его назвала Э. В. Померанцева, признак сказки как жанра: «установка на вымысел»32. Мир сказки, в том числе и литературной - это мир осознанного вымысла, который «никогда не выдаётся за действительность»33, в отличие от «взрослой» классической литературы, которая любит выдавать фантастику за действительность, или, по крайней мере, оставлять читателя в неведении относительно реального или фантастического характера развития действия . Наиболее последовательно «установка на вымысел» проявляется в фольклорных волшебных сказках. «Сказка ведь, как известно, основана на волшебстве» . Волшебное, или, точнее, «фантастически-чудесное, является критерием разграничения волшебной сказки как от других жанров народной прозы, так от остальных видов сказки»36. Литературная повесть-сказка, как правило, использует именно этот - «фантастически-чудесный» - тип установки на вымысел. Даже тогда, когда писатель-сказочник обращается к образности и сюжетике сказок о животных, он всё равно прибегает к типу вымысла, характерному для волшебной сказки (пример - сказочные повести Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот» и другие). Таким образом, старые споры критики 30-х годов, о том, нужен или нет в сказке «чисто волшебный момент» , в эпоху 60-70-х годов ушли в историю, хотя рецедивы отрицания самоценности сказочного вымысла ещё и сохранялись38.
«Тенденции, прямо противоположные фольклорным»
Детская повесть-сказка, естественно, подчиняется не только фольклорным, но и общелитературным законам. Эти законы требуют создания в произведении прежде всего характера человека, а это невозможно без подробного и глубокого «изображения чувств, мыслей и переживаний персонажа», то есть, - без психологизма102. Таким образом, вопрос о психологизме тесно связан с вопросом о герое. Этот вопрос оказался актуальным и специфичным для детской литературы 60-х годов. Произведения А. Алексина, Ю. Томина, А. Рыбакова, Н. Дубова, В. Киселёва, Р. Погодина и других писателей на фрне предшествующей традиции в советской детской литературе выглядели столь новаторски, что вызвали критическую дискуссию, длившуюся многие годы. Оценивая итоги этой дискуссии, Л. Н. Колесова отмечает, что в критике той поры существовала мысль об отсутствии в новейшей детской прозе настоящего героя. «Против этой точки зрения и в преддверии дискуссии, и после нее резко и аргументированно выступили И. Лупанова, Л. Разгон, О. Фаин. В своих работах они показали, что современная детская литература не только не дегероизируется, но как никогда раньше (выделено мной. -А. Н.) полна юными и взрослыми героями»103, только это герои именно эпохи 60-х годов: «сегодняшние дети живут в иных, не менее сложных условиях, чем их сверстники 20-40-х годов»101. Художественное изображение этой жизни требует психологического анализа. «Удельный вес психологизма, -замечает Л. Н. Колесова, - в книгах 60-80-х годов заметно возрастает, так что иногда речь должна идти о психологической прозе ("Лгунья" С. Георгиевской и др.). На мой взгляд, - продолжает исследователь, - это связано, как минимум, с двумя причинами. Во-первых, подросток 60-80-х годов XX столетия существенно отличается от своего сверстника первой трети века. Во-вторых, писатели обращаются к сложным жизненным проблемам, в эпицентре которых оказывается юный читатель»105.
Итак, характерная черта поэтики детской повести, отсутствующая в поэтике фольклорной сказки, - обязательное наличие характеров героев и их психологическая разработка. Естественно, что в повестях-сказках эта собственно литературная черта поэтики также присутствует и так же, как во всей детской литературе изучаемого периода, «удельный вес психологизма» в произведениях писателей-сказочников 60-х годов «заметно возрастает». Поэтому многие характеристики особенностей психологизма, характера конфликта, роли художественной детали в психологической детской прозе вполне могут быть отнесены к сказочной повести. «Особенность прозы 60-х - 80-х годов, адресованной детям, -отмечает Л. Н. Колесова, - в характере конфликта. Это конфликт с мещанством, с обывательской психологией, которые в современных условиях проявляются в узости общественного кругозора, в социальной индифферентности, в приспособленчестве, в погоне за престижными вещами и т. д.»106.
Эти слова в полной мере относятся к большинству, если не ко всем повестям-сказкам 60-х годов. Изучая детскую прозу этого и двух последующих десятилетий, Е. В. Посашкова выделила особый, характерный именно для данного периода «тип жанрово-стилевой структуры, которая в (её. - А. Н.) диссертации обозначена термином -повесть "нравственного урока"»107. Повести-сказки А. Волкова, Н. Носова, В. Каверина, А. Алексина, Р. Погодина, Ю. Томина, Э. Успенского, Е. Велтистова, А. и Б. Стругацких, С. Прокофьевой и других с полным правом можно назвать повестями «нравственного урока» (только у одних, как мы отмечали в первой главе, этот урок носит дидактический, а у других - поэтический характер). Предпосылкой возникновения ситуации «нравственного урока» служит, как правило, встреча с чудом.
Однако особенности психологизма в повести-сказке не только повторяют то, что присуще несказочной детской психологической повести, но имеют и отличия, обусловленные собственно сказочной спецификой. Дело в том, что поэтика фольклорной волшебной сказки требует стереотипности, она создаётся на приоритете общего, а не частного. «В отличие от литературного образа с его неповторимым индивидуальным характером сказочный образ в силу специфики фольклорного обобщения обладает, если можно так выразиться, чертами "групповой индивидуализации", являясь в самом прямом смысле слова типом»108. Поэтому ту роль, которую в литературе играет характер персонажа, в фольклорной сказке заменяет функция. Задача писателя, создающего литературную сказку, заключается в совмещении, по возможности, естественном, органическом, сказочной функции и литературного характера. Легче всего это удаётся в образе главного героя, потому что фольклорная функция «герой» даёт писателю полную свободу в её интерпретации (кроме, пожалуй, одного запрета: герой детской повести-сказки, как и сказки фольклорной, не может превратиться, как это иногда бывает во «взрослой» литературе, в «антигероя»). Поэтому главные герои сказочных повестей А. Алексина, Ю. Томина, Р. Погодина, Кира Булычёва и других писателей обладают полновесными, подробно разработанными характерами, психологическая обрисовка которых не уступает таковой в несказочной детской психологической прозе. Вот, к примеру, внутренний монолог Толика из повести Ю. Томина. Толик наконец-то решился рассказать своему другу о волшебном коробке и уже, что называется, открыл рот:
«Но тут Толик замолчал. Он вдруг подумал, что Мишке не надо рассказывать про коробок. Конечно, Мишка - друг. Он никому не проболтался про милицию. Но одно дело милиция, а другое - коробок. За этот день Толик так привык к чудесам, что ему казалось, будто он всю жизнь живёт с этим коробком. А Мишка может кому-нибудь проговориться. Тогда у Толика коробок отнимут. Или стащат. Можно сказать, один раз в жизни повезло Толику. Зачем же болтать об этом первому встречному? Конечно, Мишка не первый встречный. И Толик обязательно с ним поделится. Он даст Мишке пять спичек. Или даже десять. А может быть, половину. Но не сейчас. Потом. Завтра. Или послезавтра»109.
Многообразие форм жанрового синтеза
Процесс взаимодействия повести-сказки с другими жанрами, так или иначе заметный на протяжении всей истории литературной сказки, в 60-е годы XX века резко усиливается и может рассматриваться как специфический для изучаемого периода.
Самая простая форма такого жанрового синтеза состоит в том, что в общей структуре повести-сказки «повесть» усиливается так, что меняет жанровые акценты. Другими словами, жанр повести-сказки вступает во взаимодействие с эюанром повести. Проще всего это достигается за счёт «рамки» (в смысле Б. А. Успенского). Вспомним ещё раз повесть-сказку Э. Успенского «Вниз по волшебной реке». В ней, как мы уже отмечали, роль рамки играет обрамляющая сюжетная линия, повествующая о том, как городской мальчик гостит у своей деревенской бабушки летом. Это повествование составляет типичный сюжет детской (не сказочной) повести. Смену жанровых акцентов подчёркивает различие интонаций: мажорному, весёлому рассказу о приключениях Мити в царстве Макара противостоит минорный тон затаённой печали в обрамляющем сюжете. Последняя глава сказочной повести недаром выразительно называется «Послесказка». В конце главы сообщается, «что деревья в лесу начинали желтеть. Мите пора было ехать учиться...» (ПО). Лето кончилось, возникает ситуация расставания, известная читателю-ребёнку из личного опыта и почти автоматически задающая тон печали, сожаления: «Бабушка! Бабушка! Я на следующий год только к вам, только к вам! Я никуда больше не поеду! Ждите меня!» (110). Поэтому можно вновь оспорить мнение С. И. Сивоконя, считающего, что «юмору повести вредит отсутствие в нём тех грустных ноток, какие составляют, пожалуй, главное обаяние "Дяди Фёдора" или "Крокодилы Гены"»9. В несправедливости этих слов легко убедится каждый, кто возьмёт на себя труд внимательно прочитать повесть-сказку «Вниз по волшебной реке».
По тому же принципу, что и Э. Успенский, строит жанровый синтез в повести-сказке «В стране вечных каникул» А. Алексин, при этом усиливая его ещё в большей степени. В сказке А. Алексина, как и в сказке Э. Успенского, тоже есть обрамляющая сюжетная линия, образованная первой и последней главами, названными соответственно «Пока ещё не началась сказка» и «Через много лет...». Эти главки образуют «рамку» -мемуары взрослого автора-повествователя, вспоминающего своё детство:
«Эту дорогу я знаю наизусть, как любимое стихотворение, которое никогда не заучивал, но которое само запомнилось на всю жизнь. Я мог бы идти по ней зажмурившись, если бы по тротуарам не спешили пешеходы, а по мостовой не мчались автомашины и троллейбусы.
Иногда по утрам я выхожу из дому вместе с ребятами, которые в ранние часы бегут той самой дорогой. Мне кажется, что вот-вот сейчас из окна высунется мама и крикнет мне в догонку с четвёртого этажа: "Ты забыл на столе свой завтрак!" Но теперь я уже редко что-нибудь забываю, а если бы и забыл, не очень-то прилично было бы догонять меня криком с четвёртого этажа: ведь я уже давно не школьник»10. Влияние структуры мемуарной повести в «Стране вечных каникул» столь велико, что она время от времени как бы «разрывает» ткань сказочного повествования. Приведём ещё одну длинную цитату, поскольку важно показать несказочную структуру (как нам кажется, в данном случае «показать» означает и «доказать»): «Валерик ... пытался вести меня за собой, но я то и дело терял его след и сбивался с дороги. Ведь это он, к примеру, заставил меня заниматься в школе общественной работой: быть членом санитарного кружка. В те предвоенные годы часто объявлялись учебные воздушные тревоги. Члены нашего кружка надевали противогазы, выбегали с носилками во двор и оказывали первую помощь "пострадавшим". Я очень любил быть "пострадавшим": меня заботливо укладывали на носилки и тащили по лестнице на третий этаж, где был санитарный пункт. Мне тогда и в голову не приходило, что скоро, очень скоро нам придется услышать сирены настоящей, не учебной тревоги, и дежурить на крыше своей школы, и сбрасывать оттуда фашистские зажигалки. Я и представить себе не мог, что мой город когда-нибудь оглушат разрывы фугасных бомб...»11. Эта цитата - «кусочек» совершенно не сказочной повести о детстве. На первый взгляд, эта повесть абсолютно несовместима с волшебным мотивом «исполнения желаний» (вероятно, влияние мемуарной структуры и послужило одной из причин, по которым некоторые критики, как мы отмечали в предыдущей главе, отказывали повести-сказке в наличии чуда), однако именно синтез жанров повести-сказки и мемуаров (пусть и не всегда органичный) составляет своеобразие произведения.
Ещё одна форма жанрового синтеза заключается в том, что литературная сказка может «заключать союз» с самыми разными жанрами, но взятыми не отвлечённо, не в виде неких инвариантных жанровых структур, а воплощённых в конкретных и, что главное, хорошо знакомых юным читателям произведениях. По такому пути пошёл Р. Погодин в повести-сказке «Шаг с крыши». В этой повести герой, Витька Парамонов, отправляется, благодаря волшебной синей вороне, в прошлое - сначала в каменный век, затем во Францию времён мушкетёров и, наконец, в Россию эпохи Гражданской войны. Описание исторического прошлого построено на интертекстуальной отсылке к известным книгам.
Каменный век: «Низкоплечий, скуластый воин тащил на плечах раненого. Два копья торчали над ними. Две дубины, тяжёлые и суковатые, и два каменных топора свисали к земле. Воин положил раненого, подсунул ему под голову камень.