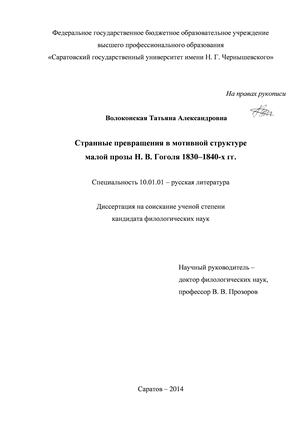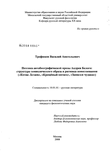Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Странные превращения в художественном мире Н. В. Гоголя: семантический диапазон понятия 18
1.1. Объем понятия «странное превращение» в письмах Н. В. Гоголя 18
1.2. «Заколдованное место» как сфера действий странных превращений в малороссийских циклах Н. В. Гоголя 38
1.3. Кузнец Вакула в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» как образ «порогового» человека 46
Глава 2. «Странные» циклы Н. В. Гоголя: от «Арабесок» к «Петербургским повестям» 54
2.1. Апофеоз странных превращений в сборнике «Арабески» как причина кризиса эстетической онтологии Н. В. Гоголя 54
2.2. Категории времени и вечности в поэтике «Арабесок» 76
2.3. Распад «Арабесок» и проблема петербургского цикла 96
2.4. Две редакции повести Н. В. Гоголя «Портрет»: от причин к результатам странных превращений 113
Глава 3. Мотив странных превращений в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя 124
3.1. Повесть Н. В. Гоголя «Невский проспект» как модель мира странных превращений 124
3.2. Мотив бегства от черта в повести Н. В. Гоголя «Нос» 170
3.3. Размыкание границ мира и текста в повести Н. В. Гоголя «Шинель» 178
3.4. Мотив пристального взгляда в петербургском цикле Н. В. Гоголя 189
Заключение 203
Список литературы 208
- «Заколдованное место» как сфера действий странных превращений в малороссийских циклах Н. В. Гоголя
- Кузнец Вакула в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» как образ «порогового» человека
- Категории времени и вечности в поэтике «Арабесок»
- Мотив бегства от черта в повести Н. В. Гоголя «Нос»
Введение к работе
Изучение поэтики гоголевских текстов на рубеже XX–XXI веков подразумевает выстраивание целостной онтологической концепции, присущей Гоголю. Как отмечает Андрей Белый, «говорить содержательно о центральном сюжете творчества Гоголя – значит: говорить о содержании мировоззрения Гоголя»1. По мнению М. Я. Вайскопфа, право исследователя проводить параллели между организацией художественной реальности гоголевских текстов и авторским стилем находит основание «в отчетливом осознании им [Гоголем] своего творческого процесса как рефлексии и в осмыслении конструируемой им художественной реальности как реальности своего внутреннего мира»2.
Сюжет Гоголя в исследовательских интерпретациях традиционно
наделяется двумя особенностями. Первая из них – динамический потенциал его
художественной реальности, «сплошная превращаемость» ее составляющих,
которую отмечают М. Н. Виролайнен, М. Я. Вайскопф, А. Х. Гольденберг,
В. А. Зарецкий, А. И. Иваницкий, А. Д. Синявский. Второе важнейшее свойство –
восприятие отдельных элементов гоголевского мира как странных, непонятных,
разрушающих причинно-следственные и пространственно-временные связи,
обладающих неявной природой, которая предполагает вмешательство
потусторонних сил, – об этом говорят С. А. Гончаров, В. М. Маркович, Ю. В. Манн, К. В. Мочульский. Основной стилистический прием писателя может быть охарактеризован как «остранение» (термин В. Б. Шкловского3) – «эстетический принцип, согласно которому знакомое изображается как незнакомое и странное, привычное – как непривычное и удивительное»4.
Понятия «странный» и «превращение» сближаются в обозначении значимого для Гоголя сюжетного элемента в работах В. Ш. Кривоноса, однако исследователь не выделяет особо мотива странных превращений, который, на
1 Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л., 1934. С. 6, 79.
2 Вайскопф М. Поэтика петербургских повестей Гоголя. (Приемы объективации и гипостазирования)
// Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: работы 1978–2003 годов. М., 2003. С. 50.
См.: Шкловский В. О теории прозы. М., 1929. С. 13 и далее.
Гюнтер Х. Остранение // Поэтика: слов. актуал. терминов и понятий / гл. науч. ред.
Н. Д. Тамарченко. М., 2008. С. 154.
наш взгляд, является осевым для внутреннего сюжета Гоголя. Странное предполагает отклонение от общепринятой нормы, противопоставление себя окружающему, вызывает особую реакцию со стороны наблюдающих его, подразумевает активное действие сверхъестественных сил и нарушение законов логики; превращение подразумевает изменение формы или сути явления, подмену одного фрагмента действительности другим, а также искажение общего миропорядка, исконной божественной гармонии. Составное понятие «странное превращение» в контексте гоголевских произведений оказывается тесно связанным одновременно с потусторонним миром (и в частности – его демонической областью) и с психическим состоянием свидетеля метаморфозы.
Мотивный анализ текстов Гоголя представляется нам продуктивным, так как предполагает комплексное изучение всех уровней: от конструктивно-стилистических приемов автора и композиционно-фабульной организации до психопоэтики и мифолого-архетипической составляющей. Во внутреннем сюжете гоголевских произведений мотив странных превращений становится комплексной единицей текста; в качестве его манифестаций выступают мотивы бегства от черта, сдвига и разрушения границ, сна и пробуждения, заколдованного места, чудесного рождения, испытания, живых вещей и многие другие. Кроме того, странные превращения у Гоголя имеют тенденцию соединяться в цепочку, отдельные звенья которой выходят за пределы внутренней реальности текста, поэтому интересующий нас мотив оказывается в том числе и метаописательной категорией, характеризующей стиль повествования, а также изменения повестей в авторском и читательском сознании.
Исходя из всего вышеизложенного, мы формулируем тему диссертационного исследования как «Странные превращения в мотивной структуре малой прозы Н. В. Гоголя 1830–1840-х гг.», подразумевая и составной характер мотива странных превращений, реализуемого через систему переплетающихся алломоти-вов, и его стержневое значение для развития сквозного гоголевского сюжета.
Актуальность исследования обусловлена возможностью синтезировать различные исследовательские концепции на основе выявления единого сюжета
гоголевских текстов. На данном этапе гоголеведения эта работа приобретает особое значение, так как после двухсотлетнего юбилея писателя обнаружилось формирование новой традиции литературоведческого изучения его творчества как с идейно-образной, так и с композиционной точек зрения. Публикация Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах, осуществляемая в настоящий момент коллективом ИМЛИ РАН во главе с Ю. В. Манном, демонстрирует возвращение исследователей к учету авторской воли в определении границ гоголевских циклов и, следовательно, к постижению целостного художественного высказывания, которое представляет собой каждый из них. В этом отношении важность мотива странных превращений, указывающего направление, в котором развивалась творческая мысль писателя, представляется нам бесспорной.
Научная новизна работы состоит в том, что в поэтике произведений Гоголя выделен сквозной комплексный мотив, изучение которого открывает причины и методы перехода писателя от одного прозаического цикла к другому. Прослеживается взаимозависимость между особенностями художественной реальности повестей и авторской манерой ее изображения. Определяются основания частой у Гоголя реинтерпретации собственных произведений, а также контекстуальные изменения их смыслового наполнения в восприятии читателей.
Цель исследования – выявить роль мотива странных превращений в становлении и развитии художественной онтологии и антропологии Гоголя.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий ряд задач:
-
исследовать круг наиболее устойчивых манифестаций комплексного мотива странных превращений в структуре произведений Гоголя;
-
на лексико-стилистическом, сюжетно-образном и идейно-композиционном уровнях текстов проследить, в какой степени движение внутреннего сюжета писателя зависимо от перемен в его отношении к странным превращениям действительности;
-
охарактеризовать причины и последствия отклонения читательского восприятия от авторской воли в установлении структуры и состава
гоголевских циклов (разрушение сборника «Арабески», выделение цикла «Петербургские повести»);
4) определить возможные варианты выбора человеком своего пути в художественном мире Гоголя, а также функцию деятельного приобщения к искусству и религии в осуществлении этого выбора.
Материалом диссертации являются прозаические циклы Н. В. Гоголя 1830–1840-х гг., в которых постепенно формируется понимание писателем собственной деятельности как миссии спасения мира – вывода его из-под власти демонических сил. Основное внимание в работе уделяется сборнику «Арабески» и вышедшему из него циклу «Петербургские повести». Малороссийские циклы «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», а также примыкающие к петербургским текстам повесть «Коляска» и отрывок «Рим» привлекаются к исследованию с точки зрения сквозных мотивов и идей, которые формируют единый сюжет, связанный с мотивом странных превращений. Дополнительным материалом становится эпистолярное наследие писателя, способствующее обозначению семантического диапазона понятия «странное превращение».
Объект исследования – художественная онтология и антропология Гоголя, получающие свое воплощение в циклах его повестей.
Предмет исследования – формы реализации мотива странных превращений в гоголевских текстах, указывающие на изменения в авторской концепции мира и места человека в нем.
В основу методологии работы положены, в первую очередь, принципы имманентного анализа художественного текста, необходимость которых была сформулирована А. П. Скафтымовым в статье «К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы»: «Только само произведение может за себя говорить. Ход анализа и все заключения его должны имманентно вырастать из самого произведения»5. Кроме того, необходимой составляющей нашего исследования становится сопоставительный анализ
5 Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения / сост. В. В. Прозоров, Ю. Н. Борисов. М., 2007. С. 27.
гоголевских произведений в рамках цикла, а также в различных контекстах, в
которые их помещают автор или читатели. Наряду с этим в диссертации
использованы элементы биографического, мифопоэтического,
культурологического, психологического и структурно-семиотического методов. Мы не применяем в работе принципы сравнительно-исторического метода, поскольку в фокусе нашего интереса находятся не пути возможного заимствования Гоголем идей восприятия мира, а формы реализации этих идей в рамках художественной реальности его текстов.
Методологическую основу диссертации составили теория хронотопа М. М. Бахтина, теория автора М. М. Бахтина, Н. Т. Рымаря и В. П. Скобелева, теория семиосферы Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, наблюдения в области мотивологии А. Н. Веселовского, представителей новосибирской и саратовской филологических школ. Культурологической основой стали исследования в области обрядов перехода и инициации в их культурном и литературном бытовании (работы А. ван Геннепа, В. Тэрнера, О. М. Фрейденберг, Е. М. Мелетинского, Л. Д. Бугаевой). Историко-литературная база представляет собой исследование поэтики гоголевских текстов в трудах Андрея Белого, Ю. М. Лотмана, Ю. В. Манна, А. Д. Синявского, М. Я. Вайскопфа, В. Ш. Кривоноса и др.; отдельно необходимо отметить работу В. Н. Топорова о Петербургском тексте русской литературы. Ядром словарно-энциклопедической базы являются «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, современный вариант толкового словаря под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «Литературная энциклопедия терминов и понятий» под редакцией А. Н. Николюкина, «Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий» под редакцией Н. Д. Тамарченко.
Источниками текстов Гоголя стали Полное академическое собрание сочинений в 14 томах 1937–1952 гг. и Полное академическое собрание сочинений и писем в 23 томах, выходящее в свет с 2001 г. Произведения и письма Гоголя главным образом цитируются по 14-томному собранию, однако в главе, посвященной сборнику «Арабески», цитирование осуществляется по третьему тому 23-томного
собрания, в котором состав сборника был восстановлен в полном объеме. Первая редакция повести «Портрет» цитируется по 23-томному собранию, вторая – по 14-томному; повести «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» цитируются по 23-томному собранию во второй главе исследования, по 14-томному – в третьей главе. Кроме того, в работе используется научно-вспомогательный аппарат издания сборника «Арабески» в серии «Литературные памятники».
Теоретическая значимость исследования заключается в изучении сквозного сюжета гоголевских произведений, а также истории их критического и литературоведческого восприятия с точки зрения комплексного мотивного подхода.
Практическая значимость состоит в возможности использования материалов исследования при разработке общих историко-литературных курсов и спецкурсов для студентов филологических факультетов высших учебных заведений, на уроках литературы в средней школе, а также при научном издании и комментировании произведений Гоголя.
Положения, выносимые на защиту:
-
В становлении и развитии онтологического и антропологического аспектов гоголевской картины мира наблюдается прямая зависимость от перемены отношения писателя к странным превращениям действительности. Изначально допуская, что человек может использовать энергию странных превращений для благого преобразования мира, если обладает силой воли и созидательным потенциалом гения, Гоголь впоследствии приходит к утверждению демонической сути таких метаморфоз, способствующих отклонению мира от божественной гармонии.
-
В текстах Гоголя мотив странных превращений выступает как комплексная категория, реализуемая посредством многочисленных алломотивов, изображающих, а в какой-то степени и формирующих «ирреальную реальность» (Ю. В. Манн) его художественного мира.
-
Сборник «Арабески» и цикл повестей 1842 г. служат отражением двух последовательных этапов гоголевского решения проблемы странных
превращений. «Арабески» выражают неудачную попытку
позитивного использования метаморфоз средствами искусства. Цикл повестей 1842 г. демонстрирует целенаправленный выход из-под власти странных превращений, который оказывается доступен автору и читателям в их движении к «Мертвым душам», но не персонажам, замкнутым внутри герметичного пространства метаморфоз.
-
Мотив странных превращений определяет и пути трансформации гоголевских циклов в читательском сознании: разделение «Арабесок» на публицистическую и художественную половины, выделение «Петербургских повестей» из цикла 1842 г. Если в первом случае разрушение текстового единства происходит в том числе и с участием Гоголя, то во втором появление неавторского цикла кардинально меняет суть художественного высказывания писателя, подменяя сотериологическую картину мира эсхатологической концепцией, которая становится основой петербургского мифа и Петербургского текста русской литературы.
-
В результате кризиса, вызванного переоценкой проблемы странных превращений, Гоголь противопоставляет их демонической силе необходимость деятельного духовного роста личности, обозначаемого им как «чудное преображение». Основными ориентирами человека на этом «вертикальном» пути становятся подлинное искусство и искренняя вера как две формы бытия в Боге.
Апробация основных научных результатов и выводов проходила в рамках работы семинара «Проблема интерактивности в филологии и журналистике» под руководством проф. В. В. Прозорова (2008–2014 гг.), на заседаниях кафедры общего литературоведения и журналистики Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, а также на научно-практических конференциях различного уровня: Всероссийская конференция молодых ученых «Филология и журналистика в XXI в.» (Саратов, 2009– 2011, 2013–2014 гг.), Литературные Хлестаковские чтения (Саратов, 2012 г.),
Межвузовская научно-практическая конференция молодых исследователей
«Литература в системе культуры» (Тверь, 2012 г.), XXXIII Зональная
конференция литературоведов Поволжья (Саратов, 2012 г.), Научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках Международного
молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ – 2013» (Москва, 2013 г.). По
теме диссертации опубликованы 9 работ, из них 4 статьи – в журналах,
включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 5 статей – в сборниках по материалам научных конференций.
Структура диссертационной работы обусловлена поставленными задачами и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 220 наименований.
«Заколдованное место» как сфера действий странных превращений в малороссийских циклах Н. В. Гоголя
География художественного мира Гоголя несколько сродни представлениям любого взрослеющего человека (или человечества в целом) об окружающем пространстве. Каждый этап познания мира сопровождается замыканием его в круговую границу, за пределами которой – белые пятна, потустороннее существование, средневековое «hic sunt leones/dracones»54. У Гоголя еще с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в роли этих самых львов и драконов – нечисть и отдавшиеся во власть ее отщепенцы человечества: ведьмы и колдуны. Как пишет Андрей Белый, «…"все, что ни есть на свете", которое гопакует, гарцует, воюет и валится в смерть в действительности, – лишь "эта вот" показанная кучка: десяток казаков, засевших в траве; горсть обитателей десятка хат; но вне ее в момент срастания каждого с каждым – провал, из которого кривится рожа нечистого, "собачьего сына"; и это – инородец, приползший к хуторку, чтоб нагадить»55. Отсюда – такое настойчивое присутствие в гоголевских текстах мира «с изнанки жизни», столкновение с которым и приводит персонажей к бесчисленным и неодолимым метаморфозам – странным превращениям.
Характерно, что потусторонний мир хотя и оказывается, по выражению Ю. М. Лотмана, «пространственно несовместимым» с человеческим миром56, однако же упорно и небезуспешно пытается несовместимость эту преодолеть. Мало того, не только мертвая панночка и возглавляемое Вием войско нечисти стремятся вступить в очерченный Хомой Брутом меловой круг, но и сам философ не удерживается от желания выглянуть за его пределы. Межпространственная динамика доминирует над замкнутостью и статикой; граница между мирами становится куда более значимой для художественной реальности, чем пространства, этой границей разделяемые. Помимо «того» и «этого» света у Гоголя возникает третий тип – «пороговое» пространство, в котором осуществляется переход от жизни к смерти и наоборот. Пространство это получает наименование «заколдованного места» – от соответствующего образа в одноименной повести из «Вече-ров»57: «Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: "проклятое место!" взошел на середину, где не вытанцы-валось позавчера и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно» [I, 313]. Особенности развития мотива заколдованного места в прозе Гоголя напрямую связаны с динамикой интересующего нас мотива странных превращений: как пространство и атрибутируемые ему процессы.
Вопрос о соотношении преемственности и развития фантастических образов в повестях Гоголя можно по-прежнему считать открытым: мнения исследователей по нему разделились. Ю. М. Лотман говорит о постепенном переходе от «фантастического» пространства к «бытовому» и о превращении последнего в «фикцию», что возвращает его к исходной фантастичности, но на другом, бюро кратическом уровне58. М. Я. Вайскопф, напротив, предпочитает видеть в творчестве Гоголя единый сюжет, следуя в этом за Аполлоном Григорьевым и Андреем Белым59. К моменту создания «Петербургских повестей», отмечает Ю. В. Манн, «у Гоголя фантастика ушла в стиль»60, а по мнению Андрея Белого, гоголевская нечисть изначально – «стилизация страха: перед всем чужеродным»61.
Разнородность содержания всех трех прозаических циклов («Вечера…», «Миргород» и «Арабески») и авторское своеволие, с которым Гоголь распоряжался их составом и судьбой, еще больше препятствуют согласию литературоведов. Так, Белый и Вайскопф, взявшись делить творчество писателя на фазы, совпали в итоге только в их количестве: три62. В случае с Гоголем исследователю не поможет даже хронология публикаций: «Миргород» и «Арабески», традиционно воспринимаемые как последовательные этапы гоголевской творческой мысли, на деле выходят в одном и том же 1835 г. «Арабески» появляются «в начале 20-х чисел января», тогда как «Миргород» – только «после 20 февраля»63, – отмечают С. Г. Бочаров и Л. В. Дерюгина в комментариях к третьему тому нового Полного академического собрания сочинений и писем Гоголя. Таким образом, заключают исследователи, «Арабески» хронологически «оказались второй книгой Гоголя, но стадиально надо признать их его третьей и совершенно новой по характеру книгой, поскольку "Миргород" тематически и жанрово был привязан к "Вечерам" и вышел с подзаголовком "Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки". … Именно "Арабески", с петербургскими повестями и статьями историческими и эстетическими, открывали в творчестве Гоголя новый путь»64. Такое деление, конечно, сохраняет некоторую условность, что необходимо учитывать при анализе циклов в последовательности «Вечера» – «Миргород» – «Арабески». Нам еще предстоит обратиться к вопросам внешней и внутренней хронологии гоголевских текстов в связи с влиянием мотива странных превращений на хронотоп «Арабесок» и «Петербургских повестей». Что касается мотива заколдованного места, то именно в указанном выше направлении происходит, на наш взгляд, идейное приближение писателя к феномену этого пространственного типа как сферы действия странных превращений.
В соответствии с указанной концепцией «Вечера на хуторе близ Диканьки» могут считаться начальным этапом развития творческой мысли Гоголя, на котором движение внутренней логики текста еще опережает авторскую мысль. Восемь повестей цикла дают читателю картину мира, где ситуация странных превращений при прохождении через заколдованное место стала уже весьма распространенным явлением. Набеги нечистой силы на Диканьку-«ойкумену» (Басаврюк в «Вечере накануне Ивана Купала», черт в «Ночи перед Рождеством») относительно уравновешены рейдами людей в вотчину посторонних сил – здесь, прежде всего, отличается дед Фомы Григорьевича, вторгающийся за границу миров дважды (в «Потерянной грамоте» и «Заколдованном месте»). Кроме того, нечисть оказывается способной постоянно обитать в чужом пространстве (Пацюк) и даже вступать в родственные отношения с его обитателями (отец Катерины – колдун, мать Вакулы и мачеха панночки-утопленницы – ведьмы и т. п.). Апогеем таких почти добрососедских отношений становится исходная ситуация «Сорочинской ярмарки» с неслыханной дерзостью заседателя (в чьи обязанности, кстати говоря, на равных основаниях входят как необходимость знать, «сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков и сколько в сундуке лежит полотна», так и умение приметить ведьму, «потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет» [I, 202]): приспособить «проклятое место» для сугубо людских потребностей. Характерно, что и вред, причиняемый людям этим местом, не имеет сверхъестественных масштабов и нацелен на бытовые человеческие нужды: все расстройство от заколдованного места – в том, что на нем, «хоть тресни, ни зерна не спустишь» [I, 117]. Иными словами, речь идет не об исключительной ситуации вторжения, но о длительном и успевшем стать привычным процессе «культурного обмена» между «тем» и «этим» светом. В «Вечерах…» автор еще не дает убедительного объяснения причин столь тесного взаимодействия миров, которым положено, вообще-то, сохранять друг для друга свой «странный» статус.
Кузнец Вакула в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» как образ «порогового» человека
Среди героев «Вечеров…» Вакула представляет собой весьма странное явление; прежде всего, он выделяется почти сверхъестественным везением, позволяющим ему одерживать верх над нечистой силой. Он с легкостью остается невредимым после столкновений, которые для других закончились бы серьезным ущербом или даже гибелью, потому что, как отмечает С. А. Гончаров, «в каждом случае, когда гоголевский персонаж выходит за собственные пределы, за пределы своего "места", своего "мира", своего "круга" … когда он направлен вовне, он обречен на катастрофу»73. Андрей Белый в подобной закономерности усматривает несчастливую судьбу, предназначенную любому «отщепенцу», «оторванцу от рода», родовая ущербность которого оборачивается личной незащищенностью, а «когда с родом ладно, обыгрывают "нечистых" (ПГ ["Пропавшая грамота"]), или седлают их, как покорных скотов (НПР ["Ночь перед Рождеством"])»74.
Вот только где же это «ладно с родом» у Вакулы? Он наполовину сирота и вдобавок сын ведьмы, о чем известно всем его односельчанам. Судя по сведениям, которые можно обнаружить в тексте повести, отец кузнеца был обыкновенным человеком, с ним даже был дружен Чуб, как напоминает тому Вакула в эпизоде сватовства: «…ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили» [I, 242]. Несмотря на это, Чуб то и дело отпускает в адрес кузнеца реплики, определяющие его происхождение как однозначно «нечистое»: «проклятый выродок», «вражий сын», «бесовской кузнец», «проклятый шибеник», «дьявольский сын» [I, 214, 219]. И как бы ни соответствовали такие прозвания ситуации и речевым обычаям малороссийского народа, а все, однако же, поневоле задумаешься: отчего Чуб так неласков с сыном былого друга, почему препятствует общению с ним Оксаны?
Возможный ответ на этот вопрос – в специфике профессии Вакулы. Кузнецом у Гоголя он становится не случайно: в мифологии многих народов мира эта профессия тесно связана со способностями мага, в том числе демиурга, создающего небесные светила (литовский Телявель, финский Ильмаринен, грузинский Амирани с изображением луны и солнца на плечах), – факт, придающий дополнительное значение краже месяца чертом в повести Гоголя. Кузнецами были боги (древнегреческий Гефест, древнеиндийский Индра Вишвакарман) или помощники божества (например, Кусар-и-Хусас в западносемитской мифологии, помогавший громовержцу Балу, но в то же время убедивший того сделать в доме окно, сквозь которое бога нашла смерть)75. В. В. Гиппиус видит в Вакуле образ «благочестивого кузнеца», который «и в популярных бродячих сюжетах является защитником Христа и победителем дьявола (рядом, впрочем, с противоположным образом демонического кузнеца-колдуна)»76. Впрочем, отсылая читателей к своей статье «Кузнец Кузьма-Демьян в народной поэзии и мифологии»77, исследователь, к сожалению, никак не объясняет оснований, на которых Вакула определяется им именно как тип «благочестивого», а не «демонического» кузнеца.
Между тем, у тюркских и монгольских народов кузнецы были подобны шаманам, и действие их магической силы «считалось настолько сильным, что и шаману, и кузнецу приписывалась способность губить враждебных им людей»78. Поэтому наравне с почтением профессии кузнеца сопутствовал страх односельчан, делавший его положение в обществе обособленным. Ю. М. Лотман подчеркивает, что кузнец уже по типу своих занятий «принадлежит двум мирам и является как бы переводчиком, поселяется на территориальной периферии, на границе культурного и мифологического пространства»79. Как следует из работы В. В. Иванова и В. Н. Топорова, слово «кузнец» в славянских языках опасно сближалось со словом «коварный» – со значением «по отношению к чужому занимающий негативную позицию», «строящий ковы против чужого, не своего»80. Таким образом, кузнечное ремесло в народном сознании имело, помимо положительных, еще и угрожающе негативные коннотации. Даже общение с кузнецом воспринималось «не только как потенциальная опасность, но и как осквернение»81. В свете подобной традиции странное поведение Чуба начинает казаться вполне благоразумным.
Здесь следует уточнить, что у нас нет достаточных оснований настаивать на факте знакомства Гоголя с указанными фрагментами славянской и тем более мировой мифологии. Однако даже интуитивный выбор такой профессии для персонажа многое говорит об удивительной чуткости и внимании писателя к «пороговым» состояниям человека и реальности82. Не углубляясь в сложные, не поддающиеся окончательной расшифровке вопросы психологии творчества, отметим только, что кузнечное дело в «Ночи перед Рождеством» рисуется именно как близкое потустороннему миру. Сама кузница воспринимается Вакулой как «нехорошее» место. Заметив в хате мешки с ухажерами Солохи (и в том числе с чертом, хотя герой об этом еще не знает), он произносит любопытную с точки зрения наших размышлений фразу: «Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!» [I, 219] Получается, «всякой дряни», которую негоже оставлять в жилом помещении (тем более накануне сакрального праздника), самое место в кузнице.
Кроме этого, «нечистый» характер кузнечного ремесла подчеркивается тем, что в речи Вакулы постоянно возникают упоминания железа и связанных с ним вещей. Качеством железа, пущенного на оковку сундука, хвастается он Оксане, надеясь завоевать ее расположение: «Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву» [I, 208]. Стоимостью железа, потраченного на изготовление перил, оценивает он роскошь императорского дворца в Петербурге: «Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!» [I, 234–235] Да и у самого кузнеца, судя по кокетливому возмущению Оксаны, «руки жестче железа» [I, 208]. Последняя цитата заслуживает особого внимания, потому что железо, заменяющее живую плоть, в поэтике Гоголя всегда выступает в качестве атрибута нечистой силы83: «шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу» – о мачехе-ведьме из «Майской ночи»; «лицо было на нем железное» – о Вие; «выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно» – в статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время…» из «Выбранных мест из переписки с друзьями» [I, 157; II, 217; VIII, 280].
Но и помимо навязчивых упоминаний железа есть в биографии кузнеца Ва-кулы множество событий, намекающих на его «пороговость». Так, в прошлом его – факт путешествия за пределы обитаемого мира цикла (Диканьки), в Полтаву, причем с особенной целью – красить сотнику забор, ограду, то есть возводить искусственную границу взамен естественных, разрушаемых в художественном мире «Вечеров…» в том числе и самим появлением на свет Вакулы и подобных ему. В настоящем кузнеца – события не менее подозрительные: вокруг его побега из Ди-каньки мгновенно возникает вереница нелепейших слухов, тогда как у Гоголя сплетни, молва – неизбежный спутник всех странных происшествий, похожих на проделки нечистой силы, будь то танцующие стулья в «Носе», говорящие коровы в «Записках сумасшедшего» или Чичиков-Наполеон в «Мертвых душах». Наконец, в Петербурге герою достаются самые что ни на есть сомнительные «волшебные помощники»: не только черт, но и всему оседлому миру посторонняя компания запорожцев – меткое наблюдение М. Я. Вайскопфа об их «нечистой» сущности мы приводили в предыдущем параграфе.
Категории времени и вечности в поэтике «Арабесок»
Специфическое течение времени в произведениях Гоголя неоднократно становилось объектом исследовательского внимания. М. Я. Вайскопф говорит об «обратной временной перспективе» в организации годового цикла «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «…календарные сроки действия повестей располагаются в обратном порядке по отношению к их последовательности в пределах сборника, то есть словно в обратном времени»139. Хронологические сбои в «Старосветских помещиках» Ю. М. Лотман объясняет тем, что изображаемый в них мир – «ахронный. Он замкнут со всех сторон, не имеет направления, и в нем ничего не происходит. Все действия отнесены не к прошедшему и не к настоящему времени, а представляют собой многократное повторение одного и того же … любое, в том числе и однократное, событие в принципе ничего нового не вносит и может еще много раз повториться»140. Но и переход от циклического представления времени к линейному, образно говоря, «не выпрямляет» хронологию гоголевских текстов. Даже в «Мертвых душах», как отмечает В. Ш. Кривонос, «странные ме таморфозы и алогичные деформации изображенного Гоголем времени делают невозможной его правдоподобную конкретизацию и усиливают "неопределенность", так что время года действительно "неизвестно"»141. Для «Арабесок», с их повышенным интересом к историческому развитию человечества, эта проблема приобретает особую важность.
Композиция сборника демонстрирует все те же отклонения от прямой хронологии, которые характерны и для малороссийских циклов. В «Арабесках» можно отметить соседство исторических и современных произведений (например, повесть «Портрет» расположена между статьями «О преподавании всеобщей истории» и «Взгляд на составление Малороссии»), а также тех, которые описывают какой-то длительный процесс («О движении народов в конце V века»), и тех, которые посвящены отдельному событию («Пленник»). Однако составление непротиворечивой классификации мыслится нам принципиально невозможной задачей, поскольку границы между группами в каждом случае будут оказываться условными. Так, статья «Скульптура, живопись и музыка» связывает историю развития искусства с его состоянием в современную Гоголю эпоху и даже заглядывает в будущее, риторически останавливаясь перед описанием человечества в мире без музыки. «Мысли о географии» советуют преподавателю XIX века в построении курса «следовать за постепенным развитием человека, стало быть, вместе и за постепенным открытием земли», а фигура Пушкина в посвященной ему статье и вовсе вырывается из историко-литературного процесса, выражая собой «русского человека», каким «он, может быть, явится чрез двести лет» [165, 90].
В «Арабесках», как и в петербургском цикле, время интересует Гоголя, прежде всего, в аспекте каузального (и казуального!) потенциала142. Прошлое главным образом предстает в качестве безграничного хранилища мнимых или подлинных истоков настоящего, поэтому история становится важна не сама по себе, а как предыстория конкретного происшествия. Именно этот принцип связывает две части «Портрета», и он же лежит в основе описания цивилизаций в «аллегорическом фрагменте»143 «Жизнь». Рождение божественного Младенца выступает здесь в роли слома времен, точки отсчета, чудесным образом обнуляющей хронологию человечества. Египет, Греция и Рим, устремившие помыслы к новому центру мира, делаются подобны трем волхвам; словно царские дары, предъявляют они свои богатства: «тонкие пальмы» и «иглы обелисков», цветущие острова и «страстный мрамор» статуй, «зажженный чудным резцом», «блестящий лес копий» и беспредельную жажду власти [119–120]. Все это – итоги многолетнего развития трех великих народов, в «чудном свете» [121] Вифлеемской звезды им суждено переродиться, и так же должен преобразиться исторический хаос в самих «Арабесках», завороженный объединяющим словом поэта.
20 января 1847 г. Гоголь пишет своей любимой сестре Ольге, одобряя ее намерение жить в согласии с Божьей волей: «Что же значит следовать за Христом? Следовать за Христом значит во всем подражать ему, его самого взять в образец себе и поступать, как поступал он, бывши на земле» [XIII, 181]. За двенадцать лет до этого письма «Арабески» становятся попыткой подражания Христу – подобно небесной власти над течением времени Гоголь также взыскует «магического господства над хроносом»144, подвергая его всяческим сдвигам и трансфигурациям. Но это подражание – еще не смиренное следование за высшим светом, какое писатель будет проповедовать в «Выбранных местах из переписки с друзьями», а крайнее проявление индивидуализма, с позиций которого и ведется в «Арабесках» оценка истории и искусства145. Суть такого подражания промелькнет в первоначальной фамилии художника Черткова – Корчин (Корчинков, Корчев), – которую В. Д. Денисов, ссылаясь на словарь В. И. Даля, объясняет как производ ную от «корчить – гнуть, перегибать, мять; сводить, стягивать судорогами; передразнивать, представлять; подражать кому неудачно»146.
Пристрастие к необыкновенному вынуждает Гоголя выхватывать из исторического потока отдельные яркие моменты, «сильные кризисы», способные увлечь читателя. В сочетании с несколько клишированной риторикой такая выбо-рочность ведет к единообразию мотивов, организующих ткань повествования. Исторический процесс «по Гоголю» – это всегда внезапное и сокрушительное перемещение народов, сопровождаемое преодолением культурных границ: «…эти дикие, мощные стихии нового, упорно не допускающие к себе чуждого влияния, но наконец невольно принимающие его» («О средних веках»); «…об Азии, этой … земле великих переворотов, где вдруг возрастают в страшном величии народы и вдруг стираются другими» («О преподавании всеобщей истории»); «…составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский» («Взгляд на составление Малороссии»); «…нации перемешались между собою так, что уже невозможно было отыскать совершенно цельной» («О движении народов в конце V века» [15, 42, 89, 203]. Из фрагментов этих статей можно составить один текст, в котором трудно будет заметить места стыков. Несмотря на декларируемую оригинальность, V век в изображении Гоголя похож на XIII, «козаки» на «визиготов», а Атилла – на демонического ростовщика! Действительные отличия этих эпох, надо думать, были прекрасно известны адъюнкт-профессору средней истории Санкт-Петербургского университета. Но привычка представлять их все в одной и той же описательной манере обернулась тем «условно-историческим» временем, о котором так любят рассуждать исследователи применительно к художественным произведениям писателя147. В литературном переложении истории, заявляет В. В. Гиппиус, Гоголь – «не археолог, а поэт; он способен спутать хронологию на целые столетия, просто не отдав себе отчета, в какую же эпоху происходит дей-ствие»148. Но в каком-то смысле это и сознательная борьба со стихией времени, уносящей мир все дальше от нулевой точки, в которой произошло воплощение Абсолюта. Более того, искусственная датировка статей отменяет и процесс творческого развития автора, чьи мировоззрение и стиль предъявляются читателю как пребывающие без изменений в течение нескольких лет149. Совершая мистификацию собственной предыстории, Гоголь словно бы себя самого помещает внутрь блаженно неподвижного мира, подобного утопической усадьбе «Старосветских помещиков». Стирание хронологических границ, таким образом, актуализирует в «Арабесках» центробежные и центростремительные смыслы человека по отношению к вечности.
Иначе обстоит дело в художественных произведениях цикла. Свободное обращение с хронологией в статьях объясняется тем, что при всех смешениях в них всегда сохраняется точный временной ориентир – настоящее, из которого устремлен на историю авторский взгляд. Художественная реальность, замкнутая в границах текста, лишена этой стабилизирующей точки, поэтому деформация календаря оборачивается для них полным крушением всех систем координат.
Мотив бегства от черта в повести Н. В. Гоголя «Нос»
Метаморфозы действительности в повести «Нос» достаточно плотно изучены гоголеведами, однако она по-прежнему ставит исследователей в тупик, вызывая по меньшей мере недоумение контрастом, который создает шутка, анекдот, «волшебная юмореска»306 и «эксперимент художественного издевательства»307 по отношению к другим произведениям петербургского цикла. Обрамленный двумя историями о трагически погибающих художниках, псевдосон майора Ковалева если с чем и сходен, то разве с таким же временным посрамлением самодовольного поручика Пирогова, но в отличие от него преподносится автором в высшей степени несерьезно. Абсурдное отделение носа и не менее абсурдное возвращение его «на свое место» допускают в качестве истолкования любые гипотезы – от возвеличивания чина за счет его носителя (В. А. Зарецкий) до утраты майором способности воспринимать запахи, а значит, и ощущать присутствие не только грубого материального, но и духовного мира (М. Я. Вайскопф)308. Однако ни одна интерпретация не приносит гоголеведам умиротворения, так же как самого Кова лева не устраивает ни один совет по поводу его взбунтовавшегося носа. В этой беспомощности объяснений автор играет крайне важную роль; возникает ощущение, что он сознательно путает своих интерпретаторов и отводит им глаза.
Если изучение художественного текста воспринимать как путешествие, то в случае с Гоголем оно оказывается морским плаванием. Сколько ни прокладывай маршрутов – каждый раз перед нами неизведанное пространство: вот-вот что-то неожиданное вынырнет на поверхность. Сам же Гоголь – как лукавый лоцман; искусство его – искусство подлогов, обмана и изобретательного мошенничества. У него, как отмечает Ю. М. Лотман, «привычка ко лжи… равнозначна художественному творчеству»309. Абрам Терц и вовсе полагает, что все гипотезы по поводу «Носа» «вероятны и правомочны, однако же всегда недостаточны, недостоверны и в принципе заведомо не достигают цели», поскольку на «заколдованном месте» гоголевского таланта неизменно вырастает «тыква – не тыква, огурец – не огурец»310. Из всех разгадок только одна не опровергается в повести, как отмечает В. М. Маркович, и эта разгадка – самая невероятная: «черт хотел подшутить» над майором Ковалевым311.
Отнюдь не претендуя на полное и окончательное раскрытие смыслов «Носа», хотим предложить иную точку зрения на его сюжет, основания для которой скрыты в вывернутой наизнанку хронологии повести. Напомним, что «необыкновенно-странное происшествие» [III, 49] начинается с обнаружения носа в хлебе, приготовленном женой Ивана Яковлевича, и только во второй главе повествование обращается к «осиротевшему» Ковалеву. Для персонажа, вроде бы занимающего центральное положение в системе образов «Носа», майор появляется сравнительно поздно, а манера его представления читателю практически уравнивает его с цирюльником. Между тем, в литературоведении Ковалев неизменно воспринимается как главный герой произведения, уничтожающий весь смысл приключившегося с ним анекдота тем, что ничего из него для себя не вынес. На наш взгляд, стоит обратить внимание на то, что композиция текста выделяет совсем другого персонажа – единственного, который соединяет собой все три части повести. И этот персонаж – Нос.
Сюжет «Носа» Гоголь превращает в переплетение и рискованное натягивание смыслов: где подтверждение тому, что найденное в хлебе нечто, статский советник, чуть не сбежавший в Ригу арестант, содержимое платка надзирателя и нос майора Ковалева – одно и то же? Ни единого превращения «носа» не найдем мы непосредственно в тексте – а между тем не только пьяница Иван Яковлевич и сам Ковалев, принимающий явь за сон, но и читатели, и исследователи верят в существование Носа как самостоятельного персонажа со своей историей, полной загадочных метаморфоз. Даже повествователь убежден: «…тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек маиора Ковалева» [III, 73]. Не забудем, впрочем, что здесь ведь «чепуха совершенная делается на свете» [III, 73], и чепуху эту «делает» сам Гоголь, не без помощи выставленного взамен себя повествователя, которому все почему-то верят. Проследив, однако, за похождениями Носа, признаем, что верят не напрасно: все действия этого странного персонажа, в какой бы ипостаси он ни находился, вполне однородны и подчинены конкретной цели. Сначала Нос прячется в чужом доме в только что испеченном хлебе, где он никак не мог оказаться – а значит, не должен был быть найден. Все-таки обнаруженный перепуганным цирюльником, Нос выбрасывается им же в реку. В реке Нос был бы превосходным образом скрыт, схоронен – и, по иронии судьбы, похоронен, утоплен. Но смерть явно не входила в планы Носа, поэтому «он вовсе не утонул, чего следовало бы ожидать, а отразился, перейдя в иную зеркальную плоскость»312, стал человеком. На беду, с каретой его встречается сам Ковалев – и Носу приходится действовать быстро и отчаянно: «…выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице» [III, 54]. Отметим здесь это «согнувшись»: Нос совершенно точно хочет избежать своего «опознания», однако не преуспевает в этом. Выжи-312 173 дать, затаившись в доме, бессмысленно: Ковалев остался караулить у подъезда. Следует попытка сбить преследователя с толку переодеванием, замаскироваться: «Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника» [III, 55]. Когда и из этого ничего не выходит, Нос начинает путать след: «По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: "подавай!", сел и уехал» [III, 55]. Таким образом, Нос демонстративно дает понять, что едет по делам светским, а сам торопится укрыться в месте противоположном по смыслу – в Казанском соборе. Когда Ковалев обнаружил его и там, он «спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился» [III, 55]. Вновь попытка остаться незамеченным, а после ее провала – попытка отгородиться от преследователя сакральным занятием, чином, местом службы: «…между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части» [III, 56]. Но все это – только отсрочка столкновения, поэтому Нос вынужден опять пуститься в бегство.