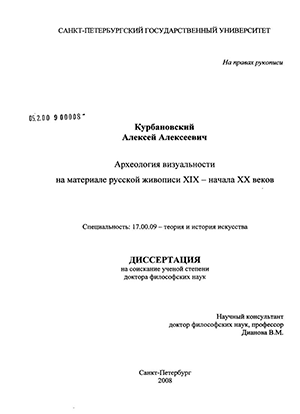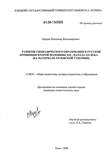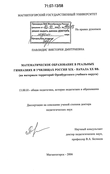Содержание к диссертации
ГЛАВА IIЕРВАЯ. Творчество К.П. Брюллова и романтическая эзотерическая традиция стр1.1. Романтизм и двоемирие. 1.2. Романтическая эстетика. 1.3. Задача главы. 1.4. Везувий и Помпеи. 1.5. История и эзотерика. 1.6. Специфика русского эзотерического романтизма
1.7. Гибель Помпеи как Божья кара. 1.8. Картина глазами современников. 1.9. К.П. Брюллов и стиль трубадур. 1.10. Просвещение, аллегоризм и масонство
ГЛАВА ВТОРАЯ. Визуальные коды и телесные практики в русской живописи XIX века стр
2.1. Золотое сечение. 2.2. Нормативная эстетика и Паноптикон. 2.3. Визуальные коды
Смена визуальной парадигмы. 2.5. Физиология зрения. 2.6. Открытие тела. 2.7. Материалистическая эстетика. 2.8. Образ Христа. 2.9. Страдающий Христос. 2.10. Итоги главы
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Импрессионизм и символизм как техники визуальности стр
3.1. Центрально-фокусная оптика Ф.А. Васильева. 3.2. Зрение и зрелища. 3.3. Импрессионизм и фотография. 3.4. Абсорбция и театральность. 3.5. Роль русского «этюдизма»
3.6. Диагноз декадентству. 3.7. Объект и субъект в искусстве и философии. 3.8. Искусство, зрелище, массовая культура. 3.9. Стиль модерн. 3.10. Новые техники видения
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Семиотическая концепция тела в визуальном поле искусства рубежа XIX-XX веков стр
4.1. Две концепции тела в русской живописи. 4.2. Фигура атлета. 4.3. Тело в культуре XIX века. 4.4. Архаическое тело. 4.5. П.Н. Филонов и «выращивание человека». 4.6. Филонов, футуризм, дадаизм. 4.7. Власть над телом. 4.8. Тоталитарное тело
ГЛАВА IIЯТАЯ. Закрытие визуальности в авангардистском искусстве начала XX века стр
5.1. Глаз и «четвертое измерение». 5.2. Искусство и «закрытие визуальности». 5.3. К.С
Малевич и кризис репрезентации. 5.4. Малевич и Гуссерль. 5.5. Феноменология и «Черный квадрат». 5.6. В.Е. Татлин и оптическое бессознательное. 5.7. «Башня Татлина» в пространстве бессознательного. 5.8. Искусство и машинизация человека
Введение к работе
Данная работа посвящена проблеме историчности человеческого видения как особой формы эстетического освоения человеком окружающей действительности. Памятники визуальной культуры — прежде всего, отечественного изобразительного искусства — рассматриваются в качестве примеров не только зрительного восприятия мира людьми отдаленных эпох, но и понимания, истолкования ими перцептивных стимулов. При том, что физиологически зрение не изменилось, кажущаяся похожесть того, что доступно глазу современника, на образы, запечатленные в музейных артефактах, маскирует глубокие культурно-исторические различия. Эти различия, внешне неочевидные зазоры художественных и познавательных практик, составляют основной предмет диссертационного исследования, что ведет к важным научным выводам.
Актуальность исследования. Допустимо заключить, что искусствознание как научная дисциплина до сих пор не гарантировало себе непререкаемый статус. Проблемы начинаются, как только аналитическое письмо развивается дальше перечисления фактов биографий художников и обстоятельств бытования произведений (собственно истории искусства), или технико-технологических параметров артефактов (включая сюда вопросы экспертизы). Все, что касается интерпретации, отходит к сфере полемики. За почти двухсотлетний период искусствоведческий дискурс обогатился впечатляющими философскими построениями, изощренными методологическими приемами, остроумными догадками; вероятно, это следует считать свидетельством и привлекательности дисциплины, и неисчерпаемости художества.
При сем в дискурс об искусстве были спроецированы заимствованные из естественнонаучной сферы критерии «точного знания»; особенность знакового языка творчества заставляла основное внимание уделить зрению. Так, глава школы «формального анализа» Г. Вельфлин (1864-1945) призывал коллег учитывать эволюцию различных типов видения. «Каждый художник находит определенные "оптические" возможности, с которыми он связан, — писал ученый. — В каждую данную эпоху возможно не все. Видение имеет свою историю, и обнаружение этих оптических слоев нужно рассматривать как элементарнейшую задачу истории искусств».
В другом месте, позже: «Духовный смысл эволюционных вех станет для нас очевиден, как только мы назовем их вехами художественного зрения. В каждой новой форме зрения кристаллизуется новое миропонимание».
Впрочем, постулаты Вельфлина о «двух корнях стиля», универсальности категорий, обнимающих все виды формотворчества, и строгой цикличности их чередования несут след абстрактного ригоризма, свойственного позитивистскому мышлению.
Иконологическая школа Э. Панофского (1892-1968) приложила немало усилий для проекции художества в интеллектуальную среду породившей его эпохи. При этом молчаливо предполагалась метапозиция современного критика — возможность знакомства с «внутренним смыслом столь большого числа иных документов цивилизации, исторически связанных с данным произведением, или группой произведений, сколь только он [исследователь] сможет охватить: документов, предоставляющих свидетельства политических, поэтических, религиозных, философских тенденций [развития] изучаемой личности, периода или страны».
Главным недостатком иконологии представляется то, что она допускает антиисторическую, сквозь века, идентичность взгляда художника — и взгляда искусствоведа; современный подход исходит из признания их нередуцируемого различия. «Я не могу смотреть ни на один предмет, — подчеркнул новейший исследователь, — будучи — Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. Пер. с нем. А. Франковского. — М.-Л.: Academia, 1930.— 12. Книга в оригинале опубликована в 1915 году под названием: Die Kunstgeschichtliche Grundbegriffe и до 1922 года переиздавалась б раз, в неизменном виде.
— Вельфлин Г. Истолкование искусства. Пер. Б. Виппера. — М.: Дельфин, 1922. — 23-24.
— Panofsky Е. Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. —New York: Harper & Row, 1972. —P. 16. Можно сказать: сравнительное достоинство ученого будет определяться тем, сколь большое число «внеположенных» гуманитарных памятников он сможет привлечь для своего исследования.
уверен, где кончаются дополнения, которые мое сознание делает к его качествам, и где начинаются качества, принадлежащие самому предмету, — потому что такой точки не существует. Есть только демонстрируемые предметом качества, наблюдаемые с определенной точки зрения, и единственно возможные коррективы можно внести лишь с иных, точно таких же, точек».
Это фактически означает зависимость объекта рассмотрения от присутствия и заинтересованного наблюдения (современного) исследователя.
Можно констатировать сложение особого направления в современной искусствоведческой мысли: это исследование видения и визуальности, предпринимаемое на материале изобразительного творчества, но не ограниченное его рамками. Оно представлено именами Дж. Батчена, Н. Брайсона, М. Джея, Р. Краусс, Дж. Крэри, X. Фостера, М. Фрида. Опираясь на психоаналитическое понимание зрения у Ж. Лакана, «археологические» штудии М. Фуко, критику концепции знака у Ж. Деррида и Ж. Бодрийара, социологические модели П. Бурдье, перечисленные авторы и ряд других ученых выступили с целым рядом публикаций, убедительно трактующих модели визуальности, коды и техники видения, запечатленные в памятниках живописи и скульптуры, печатной графики и фотографии XIX — XX веков. Опыт применения данных теоретических разработок к отечественному материалу оказывается настоятельной необходимостью на фоне расширяющихся научных и творческих контактов, для углубленного понимания международного художественного процесса и места в нем русского искусства на всех этапах его эволюции.
Следует подчеркнуть, что своевременность подобного шага ощущается как в специфической музейной ситуации, где к целому ряду новейших артефактов (таких, как произведения концептуального искусства, инсталляции, документация боди-арта или перформанса) неприменимы категории традиционного эстетического «анализа вещей», — так и в лекционно-преподавательской работе, где следует преодолевать ограниченность вульгарно-социо4
— PodroM. The Critical Historians of Art.—New Haven & London: Yale University Press, 1982. — P. 215.
логического подхода и пользоваться адекватными методологическими приемами. Подчас новаторство творческой стратегии художника (от импрессионизма до симуляционизма) можно воспринять и объяснить, лишь учитывая отношение к существовавшему тогда представлению о визуальной перцепции, исходя из желания автора трансформировать — расширить, или же вовсе закрыть — означенное представление.
Следует всегда различать зрение как оптически/ физиологически обусловленную человеческую способность, и видение — креативно-мыслительный процесс, определяемый многочисленными социальными и культурными факторами, специфичными для каждой конкретной эпохи. Видят и разное, и — по-разному. Видение подразумевает понимание, поэтому оно зависит от творческой, знакообразующей деятельности людей: от создания теорий, концепций, художественных произведений — можно даже сказать, оно производится подобным творчеством. Допустим тезис: человеческое видение, в отличие от органически-неизменного зрения, суть культурно-исторический конструкт, то есть, — семиотическая гипотеза, созданная при посредстве разнообразных артефактов, и в частности, произведений живописи (печатной графики, скульптуры, позже — фотографии, кино и др.)-5 Причем вместо представления о целостном «видении эпохи», следует иметь в виду более сложную картину: переплетение множества визуальных кодов, режимов видения, техник/ практик визуальности, дополняющих или налагающихся друг на друга, а также — и репрессированных, «погребенных». С точки зрения эпистемологической, видение есть переменный перцептивный/ когнитивный режим, который изменяется с переменами в способах (художественной) репрезентации. Попробуем более подробно раскрыть указанный тезис.
— Отношения между зрением и видением/ визуальностью можно понимать согласно модели отношений секса и сексуальности, предложенной М. Фуко; ср.: «...Именно диспозитив сексуальности и устанавливает внутри своих стратегий эту идею секса... — и выставляет он секс как нечто, подчиненное игре целого и части, первоначала и недостатка, отсутствия и присутствия, избытка и нехватки, функции и инстинкта, финальности и смысла, реального и удовольствия... <...> [Сексуальность] породила в качестве спекулятивного элемента, необходимого для ее функционирования, понятие секса» (Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц., сост. Табачниковой. — М.: Касталь, 1996.
— 262,265). Итак, понятие зрения есть элемент функционирования культурного дискурса визуальности.
Прежде всего, необходимо указать, что не существует «единственно верного», верифицируемого объективными факторами способа изображения, поскольку нет критерия верификации, который сам бы не был продуктом исторической и культурной эволюции «опредмеченного» видения. Практика искусства показала, что «канон истины» в репрезентации невозможно установить ни при обращении к физиологии зрения (или к оптике), ни с помощью редукции к любой другой объективной, естественнонаучной (физической) причине. Истина перцептивного восприятия всегда обусловлена верификационными правилами репрезентации. В свою очередь, эти последние имеют свою историю, они укоренены в социальной практике, в творческой деятельности по созданию артефактов (например, живописных полотен). Ведь никто иной, как сам человек создает критерии верификации — посредством своего творческого труда, художества. Эти критерии хоть и условны, но не произвольны; они — не биологические, а социальные и исторические.
С другой стороны, не только создание искусства как «акта репрезентации», но и его восприятие в видении зрителя суть творческий акт. То есть, не существует априорного условия о том, что артефакт по определению изображает, «представляет» нечто конкретное (объект, человека, сюжет, и т.д.), что он изначально «похож» на что-то. Различные, подчас противоречивые прочтения/ истолкования памятников далеких эпох и культур доказывают, что зафиксированное видение, которое может пониматься как репрезентация, «не равно самому себе» изначально: оно не дается, а создается, достигается, обретается, творится.
Разработанность проблемы. Конкретизируем наш тезис на примере.
Научная оптическая точность в произведениях живописи, выполненных по правилам линейной (так называемой «итальянской») перспективы, начиная примерно с середины XIX столетия была предметом оживленных дискуссий ученых разных дисциплин: искусствоведов, гештальт-психологов, философов, историков науки. Они пришли к выводу, что система перспективы, разработанная в эпоху Возрождения, а позднее вошедшая в педагогическую практику европейских Академий художеств, не является «правильным» способом изображения ни того, как объекты являются в реальности, «на самом деле», ни того, как они проецируются на сетчатку глаза. «Художественной реакцией» на критику академических конвенций (и в частности, перспективы) был импрессионизм, опиравшийся на созданные позитивистской физиологией гипотезы сетчаточной визуальной перцепции. В области искусствознания Э. Панофский показал (впервые в 1924 году), что перспектива всегда была художественным выразительным средством передачи «бесконечного, статичного и гомогенного пространства», а еще точнее, — исторической абстракцией, предлагавшей видеть объекты так, как они изображаются в новоевропейских картинах.
То есть, невозможно определить, что «точно» и «реально» в оптическом режиме, который сам по себе является социальноисторическим артефактом, условным методом означивания. Близкую мысль позднее высказал французский философ, феноменолог М. Мерло-Понти (1908-1961): «Я утверждаю, что ренессансная перспектива есть культурный факт, что восприятие само по себе полиморфно, и что если оно становится евклидовым, то лишь потому, что оно позволяет данной системе ориентировать себя».
В отечественной науке выводы касательно условности перспективного построения пространства сформулировал видный математик, академик Б.В. Раушенбах (1915-2001). «Если для нового искусства, — указал он, — характерно желание снять все вопросы, связанные с неизбежной многозначностью отображенного на картине пространства, таким образом, чтобы она не содержала никаких противоречий даже при разглядывании и анализе, то сред6
— Панофский Э. Перспектива как "символическая форма". [Пер. с нем. И.В. Хмелевских, Е.Ю. Козиной.] Готическая архитектура и схоластика. [Пер. с англ. Л.Н. Житковой.] — СПб.: Азбука-классика, 2004. —
32-33. Оригинальная публикация этой важной работы: Panofsky Е. Die Perspektive als symbolische Form. — Vortrage der Bibliothek Warburg, \92ШЬ; отдельное издание: Leipzig und Berlin, 1927.
— Merleau-Ponty M. Le Visible et I'lnvisible (suivi de notes de travail). — Paris: Gallimard, 1964. — P. 265.
невековое и более древнее искусство не придает этому решающего значения — и более того: путем сознательного нарушения в некоторых случаях этих "фотографических" правил увеличивает выразительность картины в целом».
В ряде трудов (1980; 1986; 1994), обобщая экспериментальные данные, ученый конкретно показал несоответствия геометрических абстракций и так называемого «естественного» человеческого перцептивного восприятия. Не приходится сомневаться в точности дифференциальных уравнений, корректности опытов, подкрепленных солидным авторитетом советского академика.
Важно, что он опроверг наивно-прогрессистское представление о том, что развитие пространственных построений вплоть до эпохи Ренессанса характеризовалось продвижением к одному, «единственно верному» решению.
Однако, полагая, что задача любого художника — «приблизить изображение к зрительному восприятию человека, сделать его более естественным»,
Раушенбах не учитывал семиотическую природу и культурноисторическую обусловленность всякой репрезентации. Фактически любая картина любой эпохи суть не «точная передача зрительного восприятия», как казалось автору, но знаковая система. Безупречная «прозрачность пространства», например, в полотнах итальянского Высокого Возрождения суть лишь компонент более сложного послания; для его адекватного прочтения следует изучить особенности семиозиса далекой от нас культуры. Строго по законам «ренессансной перспективы» в истории искусства создано не так уж и много памятников: семиотические коды, управлявшие артистическим видением уже в период маньеризма (XVI век) требовали сильнейших искажений и нарушений научных правил в экспрессивных целях; в еще большей степени это относится к эстетике барокко (XVII век). Наконец, условность перспективы как приема ярко выступает при обращении к чуждой художественной системе; — Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов. — М.: Наука, 1980. — 172. То есть, ученый признает, в первую очередь, выразительную роль перспективы.
— Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие [1994]. — СПб.: Азбука-классика, 2001. — 149. Данная книга является, видимо, итоговой; автор подчеркнул, что точные математические расчеты, фундирующие его заключения, были помещены в предшествующих работах 1980 и 1986 годов.
так, философ А.К. Данто напоминает, что в XVII столетии монах Кастильоне, миссионер в Китае, объяснил правила перспективы тамошним художникам — те, вежливо выслушав, сообщили, что этот прием не годится для китайского искусства.
Итак, формулы Раушенбаха ценны для обоснования равноправия многочисленных перспективных/ неперспективных методов передачи пространственности, но ничего не сообщают о социально-исторических подоплеках, приведших к сложению или разрушению той или иной эвристической гипотезы.
Не нужно забывать, что перспектива, в момент своего создания, понималась не просто как визуально-математическая структура — она воплощала определенный тип религиозно-философского сознания. «Вырастая из позднесредневековой завороженности метафизическим истолкованием света, — понимаемого скорее как божественный lux, а не как [зрительно] воспринимаемый lumen, — линейная перспектива стала символизировать гармонию между математической регулярностью оптики и волей Божьей».
Культурное значение линейной проекции, практиковавшейся в искусстве в течение столетий, вышло далеко за пределы живописи и рисунка: ее правила предопределили европейские практики репрезентации, можно сказать, структурировали западный глаз и мысль. Как заметил Ю. Дамиш: «...Перспектива дана нашей мысли не только как "форма", связанная с целой эпистемологической конфигурацией, но, — выворачивая наизнанку метафору и лишая ее всех тотализирующих коннотаций, — как уникальная парадигматическая структура, преисполненная парадоксов; она не только реферирует одновременно к реальному и воображаемому, но, в довершение всего, еще и управляется параметрами, собственно говоря, символическими, в строго лакановском смысле этого термина».
Исследователь остроумно указал, что та строгость, с како10
— Danto А.С. After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History. — Princeton NJ: Princeton University Press, 1997. — P. 42. Тут же — интересные рассуждения философа по данному поводу.
y м. Scopic Regimes of Modernity/ Vision and Visuality. Ed. H. Foster. — New York: The New Press, 1988. — С 5-6. Автор упоминает, что ценность перспективы подкреплялась ссылкой на авторитет церкви.
— Damisch Н. The Origin of Perspective Trans J Goodman — Cambridge, Mass & London The MIT Press, 1994 — P 19. Автор, видный искусствовед и философ, является и психоаналитиком лакановской школы.
вой правила перспективы утверждались в педагогической системе европейских Академий художеств XVII-XIX веков, косвенно свидетельствует о том, что эти правила «попали под угрозу в самых своих основаниях». Перспектива существовала как референтная гипотеза, благодаря коей человек Нового времени вписывал себя в визуальный семиозис именно западного социума.
Итак, искусство посредством своих памятников научает нас видениюкак-мышлению; это подтверждает, в какой значительной степени человеческое зрение исторически обусловлено. Линейная перспектива стала необходимым параметром нашего визуального переживания: теперь внешний вид объектов в природе кажется нам соответствующим тому, как они изображены в живописи, — именно потому, что мы усвоили правила написания картин в качестве «правильного» способа смотреть. Значит, мы видим мир картинно. Синхронически картинный режим организации визуальных впечатлений связан с западной культурой Нового времени (неотъемлемой частью коей он является), а диахронически — с динамикой состояния визуальных конвенций (семантических кодов репрезентации).
Далее, принимая живописный памятник за репрезентацию мира, зритель тем самым отождествляет мир с двухмерной проекцией на сетчатке своего глаза (в этом смысле мир именно таков, каким он представлен в картине).
Если художнику действительно удается «обмануть» зрителя, то для последнего картина, строго говоря, перестает быть картиной. Как пишет известный философ: «Успешный имитатор не просто воспроизводит мотив: он диалектически снимает [sublates] то средство, в котором и происходит репрезентация. Это необходимое условие для возникновения желаемой иллюзии: что ты находишься в присутствии реальности, в то время как на самом деле ты — в присутствии [платоновского] идола {eidolon)...» Впрочем, такие случаи редки. Аргументация зрителя такова: мы говорим, что репрезентативные ар13
— Danto А.С. The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981. — P. 151. Данное наблюдение позволяет А. Данто остроумно критиковать «реалистическое» искусство: претендуя на то, что каждая картина и есть то, что она изображает, художники тем самым пытаются достичь эквивалентного переживания с помощью неэквивалентных методов.
тефакты (живопись, графика) не противоречат визуальному впечатлению, производимому трехмерными объектами. Отсюда следует, что трехмерность мира мы интеллектуально строим по контрасту с двухмерностью сетчаточных/ художественных проекций. Итак, визуальная концепция «трехмерности» является концепцией зависимой и связанной с понятием двухмерности картин; соответствуя введенной Ж. Деррида «логике супппементарности», она находится одновременно и «внутри», и «снаружи» такого понятия.
затруднялись бы концептуально представить трехмерность визуального мира, если бы не приходилось сознательно противопоставлять концепцию трехмерности — двухмерной репрезентации. Иначе говоря, восприятие двухмерных проекций, картин или графических листов, — репрезентация или конфигурация на плоскости, — суть причина, которая побуждает нас, по контрасту, вызывать в мышлении концептуальную иллюзию трехмерности.
Значит, картины учат нас пространственно мыслить.
Условные правила репрезентации, определяющие практики искусства, не есть эстетические абстракции. Конечно же, они создаются в процессе человеческой познавательной, знакообразующей активности — со всеми общественными, научными, технологическими, политическими, идеологическими аспектами. Таким образом, визуальную теорию следует поместить в широкий исторический и социальный контекст. Видение нельзя представлять себе исключительно как деятельность глаза, отвлеченную от деятельности человеческого сознания, — и вообще от той знаковой реальности, в которую погружены как художник, так и зритель. Иными словами, видит не только глаз или оптическая система, — видение синтезирует в себе мышление, семантику и другие аспекты человеческой деятельности. Можно сказать: при посредстве
— Как указал Деррида, «логика супплементарности» (отsupplement — восполнение) «...стремится к тому, чтобы наружа была внутри, чтобы другое, недостаточное, вторгалось извне, как простая добавка положительного к отрицательному, чтоб сама добавка восполняла недостающее, чтобы недостаток как наружа нутри уже был бы нутрью нутри, и проч.» (Деррида Ж. О грамматологии. Пер. с франц. Н. Автономовой. — М.: AdMarginem, 2000. — 385). Переводчица попыталась передать оригинальную терминологию философа.
глаза и оптической системы видит человек; его культурное сознание, вооруженное набором исторически сформированных теорий и условностей, подсказывает, что и как видеть, расставляет акценты.
Видит конкретное человеческое «я», которое мыслит, пользуется знаковыми кодами, творит. Значит, подразумевается социальный субъект; понятно, что ни один режим деятельности последнего не может быть адекватно понят при рассмотрении лишь органов или аппарата, осуществляющего эту деятельность. Видение в нашем понимании — не итоговый продукт, не эпифеномен зрительных органов вкупе с умственными способностями, а исторически длящийся творческий процесс, зависимый от семантического строя социума, но и влияющий на него.
Следует понимать, что вместе с историческими переменами в человеческой социальной, технологической и интеллектуальной практике, меняются и режимы визуальности. Визуальность имеет историю, и таким образом, усваивая различные режимы репрезентации, люди буквально изменяют мир, где они живут. Определив, какую роль в человеческом видении играют картины, мы можем сказать: видение суть конструкт, произведенный и изменяемый разными способами создания картин, а также иных визуальных проекций. Остроумное доказательство данного тезиса содержится в книге Альперс об искусстве Голландии XVII столетия. Исследователь показала, что характерные для голландской живописи описательное начало и визуальная поверхность, безразличная к положению наблюдателя, явились следствием «картографического импульса» [mapping impulse] и оптических теорий К. Гюйгенса. Описание объектов, рассеянных на плоском холсте, она противопоставляет повествовательному рассказу и глубинной модели видения, сложившейся в итальянской культуре Ренессанса. «...Какой бы аспект ни взять, северная живопись настолько же близка карте, насколько далека от нее альбертиновская (— т. е., ренессансная, итальянская. — А.К.) картина, — пишет Альперс. — <.. .> Вопреки всем иным предположениям, подобные кар15
— Вновь М. Мерло-Понти: «Декарт в "Диоптрике" [спрашивает]: кто увидит образ, нарисовавшийся в глазу, или в мозгу? Поэтому, в конечном итоге, необходима мысль об этом образе» (op.cit. — Р. 264).
тографические [mapping] образы обладают потенциальной гибкостью, дабы усваивать различные виды информации, или знания о мире, каковой не имеет альбертиновская картина. ...Суммируя вышесказанное: обстоятельства оказались благоприятны для того, чтобы творцы образов на Севере обратились к изобразительным задачам, имплицитно давно присутствовавшим в картографии».
«Картографическое видение» составляло определенную альтернативу «итальянской» нарративной традиции, хотя и согласовалось, в конечном итоге, с перспективной репрезентацией.
Другой вариант неоднозначной медиации между репрезентацией и семантическим порядком социума Ю. Дамиш раскрывает через трактовку мотива облака в искусстве барокко: ведь то смешивает различия между поверхностью и глубиной, препятствует целостному восприятию разнородных визуальных пространств, а также привносит в художество имажинативный, риторический компонент. «.../Облако/ вносит противоречие в самую сердцевину представления, подразумевая брешь в человеческом пространстве и в той или иной степени резкое вмешательство трансцендентного измерения в систему геометрических координат изображения. И в каком угодно из своих об-' личий оно коннотирует замкнутость системы, так как обнаруживает ее предел, работая на самом ее краю, на стыке изобразимого и неизобразимого».
С точки зрения исследователя, это придает материалистическое измерение «экономике представительного [репрезентативного] процесса».
Итак, история визуальности есть важнейший фактор в социальном и культурном развитии человеческого общества. При этом, как мы только что увидели, история искусства оказывается существенным компонентом в эволюции знакового строя эпохи. Смена живописных стилей, формальный анализ концепций пространства, объектов и их отношений, феноменологическая реконструкция режимов интенциональности, характерных для того или иного
— Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. — Chicago: The University of Chicago Press, 1983. — P. 138-139. Термин «альбертиновская картина» произведен от имени Л.Б. Альберти.
— Дамиш Ю. Теория /облака/: набросок истории живописи [1971]. Пер. с франц. А. Шестакова. — СПб.: Наука, 2003. — 227. Некоторые выводы этой ранней работы развиты в «Происхождении перспективы».
исторического периода, или художественной школы, — все эти моменты характеризуют исторически переменные режимы визуальности и входят в семантику видения. Исследования такой семантики (к ним можно отнести рассмотренные работы Альперс, Ю. Дамиша) непременно включают реконструкцию научных, философских, психологических теорий и правил репрезентации, свойственных анализируемой эпохе.
Подробный анализ комплекса выразительных средств живописи в их коммуникативном аспекте дает СМ. Даниэль. Его книга «Искусство видеть» (1990; 2-е изд. 2006) открывается полезным очерком теорий зрительного вое1 о приятия — от античности до эпохи Возрождения. При характеристике системы жанров и особенно светотени, цвета/колорита, композиции неизменно подчеркивается «стремление слить деятельность творца с деятельностью того, кто приобщается творчеству, постигая его смысл». «Активность зрителя и активность произведения, — пишет Даниэль, — взаимосвязанные процессы.
Если художник ищет пути к общению, он реализует это стремление в самой структуре картины. Если восприятие становится полноценной деятельностью, картина раскрывается навстречу зрителю».
Утверждать так — значит обладать очень большой самонадеянностью, ведь художники далеких эпох не могли предполагать, какими будут зрители их произведений через сотни лет.
Исходя отсюда, следует скорректировать и предлагаемую автором роль искусствоведа: будучи переводчиком художественного памятника на язык своих современников, тот обязан неизменно акцентировать непереводимость их семантического строя: зазоры, существующие между разными типами видения и кодированные в знаках. С поправкой на специфику филологии, данный момент убедительно сформулировал М.Л. Гаспаров: «Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, — учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. <...> Фи— Даниэль СМ. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. — СПб.: Амфора, 2006. — 29-30; 37-39; 86-93.
— Тамже. — 136; 143.
лология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это учит ее не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру».
Представляется не случайным, что у Даниэля не оговорены, скажем, символико-аллегорический смысл подавляющего большинства натюрмортов XVII-XVIII веков, или религиозный аспект перспективы.
Последний сыграл роль в том, что система линейной перспективы была принята западным видением Нового времени в качестве «уникально правдивой» кодировки внешнего мира. Но о перспективе нельзя заключить, ни что она правильна, ни что она неправильна, — истинность не входит в число необходимых параметров семантического кода картины. Искусство следует считать знаковой системой, имеющей дело с семантизацией не реальности (что имплицитно допускает Даниэль), но уже репрезентации, «скомпилированной» человеческой означивающей мыслью, а посему необходимы условия, создающие самую возможность изображения. Об этом напоминает Ж. Деррида, анализируя историческое формирование семиотики: «Еще до какой-либо связи с насечкой, гравировкой, рисунком, буквой или вообще с означающим, которое всегда отсылает к другому означающему, им обозначенному, понятие графии уже предполагает установление следа как общую возможность всех означающих систем». В нашем случае можно сказать: установление следа означает его кодирование в поле визуальных режимов и техник. И далее: «То, что починает движение [entame] означения, тем самым делает его непрерывным. Сама вещь есть знак».
Вытекающее отсюда понимание известной произвольности визуальных следов/знаков позволяет толковать видение как разновидность письма, где роль означающих отводится «иероглифам» символического культурного обмена. «Всякий знак, будь он вербальным или не вербальным, может быть использован на разных уровнях,
— Гаспаров М.Л. Записи и выписки. — М.: НЛО, 2000. — 99; 100.
— Деррида Ж. О грамматологии... •— 167; 171. След у Деррида относится «одновременно и к природе <...>, и к культуре», это «нечто физическое и вместе с тем психическое, биологическое и духовное» (С. 169).
в разных функциях и конфигурациях, которые не предписываются некоей его "сущностью", но рождаются игрой различия», — пишет философ в другой работе. То есть, каждый знак утверждается по принципу непохожести на все остальные. Здесь позволительно сделать одно важное дополнение. Ф. де Соссюр указывал на отсутствие материального референта как на одно из необходимых условий функционирования знака; отсюда важность приставки «ре-» в слове «репрезентация»: это повторная презентация отсутствующего объекта. Следовательно, визуальные означающие в искусстве не пассивно отсылают к физической реальности, но чтобы репрезентировать, обязаны затмевать, вытеснять, «отрицать» ее. Иными словами, семантическое поле визуалъности в искусстве суть некое общее понятие, которое включает воспринятую реальность как один из своих частных случаев.
Методика исследования. Обоснование археологии визуалъности. Если видение — это исторически и социально обусловленный режим познавательной практики, который изменяется с переменами в знаковом строе культуры и в режимах репрезентации, тогда вся эволюция визуальной системы есть художественный процесс. Как известно, знаковый строй и визуальная культура общества не наследуются генетически, но подвергаются произвольному отбору, интерпретации и развитию в практике сложения техник визуалъности и способов писания картин. При этом определенные режимы видения, в процессе эволюции визуальной системы, могут подвергнуться вытеснению, подавлению, намеренному забвению. Поэтому дисциплину, ставящую своей задачей реконструкцию таких «репрессированных» моделей репрезентации, режимов видения, допустимо назвать археологией визуалъности. Означенный подход можно возвести к разработанной Мишелем Фуко — Деррида Ж. Письмо и различие. Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. — М.: Академический проект, 2000.
— 351. Данный вывод сделан в контексте обсуждения символики сновидения у 3. Фрейда.
— «...Означающее в языке бестелесно, и его создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов» (Соссюр Ф. Труды по языкознанию. Пер. с франц. под ред. А.А. Холодовича. — М.: Прогресс, 1977. — 151).
«археологии знания» — реконструкции обстоятельств, сделавших возможным формирование того или иного дискурса (режима видения). «Археология, — писал тот, — определяет типы и правила дискурсивных практик, пронизывающих индивидуальные произведения, иногда полностью ими руководящих и господствующих над ними так, чтобы ничто их не избегало. <...> В этих смутных единствах, которые мы называем "эпохами", она [археология.
— А.К.] выявляет со всей спецификой "периоды высказываний", объединяющиеся, не перемешиваясь, в виде эпохи господства понятия, фазы развития теории, стадии формализации и этапа языковой эволюции»».
При этом подвергать археологическому анализу можно как кардинальные проблемы искусства, так и отдельные памятники, которые следует рассматривать как показательные для определенных (пусть даже маргинальных, подавленных, или эзотерических) режимов и практик визуальности. Игнорирование такой возможности значительно обедняет наше представление о той или иной исторической эпохе в культуре и искусстве.
Человек видит через посредство опыта эстетического творчества, писания картин; перемены в когнитивных режимах (например, в режимах визуальной системы), соответствуют переменам в наших семанических практиках (например, в режимах живописной репрезентации). Человеческое видение не есть чисто биологическая структура, но — артефакт, исторически произведенный творческой, семиотической деятельностью: созданием/ восприятием художественных памятников.
Укажем также, что репрезентация (картина) не является таковой по своей природе. Репрезентация (картина) — плод целенаправленной творческой деятельности, она предназначена для того, чтобы ее семантически прочитывали как репрезентацию или картину. Таким образом, мы не можем приписать заданному объекту какие-либо естественные свойства, отождеств2 4
— Фуко М. Археология знания. Пер. с франц. Митина, Д. Стасова. — Киев: Ника-центр, 1996. — 139; 148. К сожалению, данный перевод основополагающей работы Фуко весьма несовершенен.
ляющие его как репрезентацию (картину). Объекты определенного вида интенционально конституируются как картины (репрезентации) своими создателями и зрителями. На это указывает М. Баксендолл, подчеркивая: «"Интенция", стало быть, применяется нами, скорее, по отношению к картинам, нежели к художникам. Она (в особых случаях) становится конструкцией, впрямую воплощающей взаимосвязь картины с условиями ее возникновения. В целом же интенциональность есть также и некий узор, сосредоточенный на конкретных поведенческих обстоятельствах и выражающий как внешние факты, так и словесные понятия в виде четких структур».
Поэтому нельзя сказать, что те или иные объекты суть картины (репрезентации), ибо демонстрируют некие качества, — наоборот, они семантически наделяются определенными визуальными свойствами потому, что интенционально прочитываются как картины, то есть, репрезентации. Значит, все, что угодно, любой объект может быть картиной (репрезентацией), если данный объект предназначен к этому автором и воспринимается как таковой зрителями. Нечто почитается картиной или репрезентацией в каждый конкретный исторический момент, в данной культуре, — если только культура вырабатывает такое понятие, как репрезентация.
Из вышесказанного следует, что картина (репрезентация) не нуждается ни в каком сходстве, или подобии, чтобы исполнять свои семантические функции: она есть культурная условность, которая создается исходным авторским актом референции. Визуальное сходство, подобие или узнавание не даются сами по себе, в чувственном опыте, — это есть некое выработанное отношение, которое исторически конструируется и культурно фиксируется.
Репрезентации именуются похожими, подобными, напоминающими некие объекты, потому что их делает «сходными», «подобными», «похожими на что-то» человеческая деятельность. Это мы считаем, принимаем, устанавливаем, что некий объект похож на какой-то другой. Человек семантически
— Баксендолл М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин [1985]. — М.: ЮниПринт, 2003.
— 53. Важная книга одного из ведущих современных социологов искусства.
создает узнавание, сходство с реальным опытом, в формах живописной репрезентации, общих для той исторически и культурно сложившейся общности, к которой он принадлежит. Человек делает это посредством творения артефактов, которые предназначены для того, чтобы замещать иные объекты, семантически к ним реферируя, — то есть, чтобы репрезентировать их.
Для того, чтобы создать нечто такое, что репрезентировало бы чтолибо иное, то есть, было бы подобно или напоминало это иное, нам нужно установить некоторое свойство, которое в указанном случае будет копироваться, и принять, что существует еще «другое нечто» — подобное или напоминающее это свойство. Получается, что имитирование, копирование, репродуцирование свойств данного объекта, сцены или отношения предметов обязано изначально подразумевать тот самый момент наличия сходства (признание условия, что нечто одно напоминает нечто другое), который ранее ставился нами как конечная цель. Это значит, что репрезентация не только основана на отсутствии материального референта, как было установлено вы-' ше, но и находится одновременно по обе стороны сходства — и как имитируемый объект, и как результат имитации. Любое восприятие детерминировано репрезентацией: нам не дано «выйти» за ее пределы, чтобы критически противопоставить ей референт. Именно это имел в виду Р. Барт, когда писал: «...Воспроизвести какой-либо предмет или сцену при помощи рисунка — значит осуществить ряд преобразований, подчиняющихся определенным правилам; рисунок-копия не обладает никакой вечной "природой", коды, лежащие в основе тех или иных преобразований, исторически изменчивы...».
То, что визуально воспринимается в качестве натуры, природных объектов, в — Данный момент убедительно формулирует искусствовед-семиотик Н. Брайсон: «...Образ должен пониматься... как среда артикуляции реальности, известной данной визуальной общине. Таким образом, термин реализм не может относиться к абсолютной концепции "реального", поскольку данная концепция не описывает исторически переменный характер "реального" в различных культурах и периодах» (Bryson N. Vision and Painting: The Logic of the Gaze. — New Haven: Yale University Press, 1983. — P. 13).
— Барт P. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — Пер. с франц. Сост. Г.К. Косикова. — М.: Прогресс/ Универс, 1994. — 309. Цитата позаимствована из статьи «Риторика образа» (1964).
значительной мере создается теми способами репрезентации, которые были заранее избраны для семантического кодирования нашего видения.
Итак, именно картины побуждают нас полагать, что нечто одно подобно чему-то другому; значит, они суть системы обозначений (коннотаты, по Р.
Барту), направляющие и формирующие наше видение/ понимание действительности. Благодаря картинам, мы психологически конструируем свойства внешнего мира, к которым отсылают создаваемые нами репрезентации: акт референции уже есть творческий акт, а не просто узнавание заранее известных сходств или дифференций. Артефакт репрезентирует, когда его воспринимают как воплощение интенциональности — как имитацию действия, связанного с семиотической экономикой реальности (производством семиозиса).
Мы формируем символические концепции свойств визуального мира, в том числе, и в процессе потребления репрезентаций (живописных картин).
Различающиеся исторически и культурно социумы усваивали, адаптировали и трансформировали различные визуальные режимы — в зависимости от интересов и целей, каковые они ставили перед собою: «...ведь не природа копируемого объекта определяет искусство (стойкий предрассудок любых разновидностей реализма), а именно то, что вносится человеком при его воссоздании: исполнение является самой сутью любого творчества».
Итак, творение картин есть особая деятельность, которая формирует семиотическое видение — и развивает его далеко за пределы зрения, то есть, физиологии человека как биологического вида.
В заключение отметим, что все картины (в том числе, беспредметные) есть хотя бы потенциальные репрезентации, ибо само их эстетическое потребление — понимание, узнавание и идентификация в качестве знаковых систем — требует, чтобы мы приняли их как обозначение некоторого рода деятельности, которая необходима для их (вое) производства или функционирования. Картины, обладающие разными семантическими кодами, отра2 8
— Барт Р., указ. соч. — 256; из статьи «Структурализм как деятельность» (1963). В качестве одного го примеров структуралистской деятельности рассматривается живопись П. Мондриана.
жают разные социально-исторические формы семиозиса. Таким образом, любые артефакты суть эвристические и дидактические конвенции: они учат нас видеть и мыслить, направляют визуальное восприятие таким образом, что зримый мир становится ареной человеческих знакообразующих действий.
Доказательство культурно-исторической обусловленности человеческого видения есть главная цель исследования. Воззрения прошлых эпох, запечатленные в произведениях живописи, суть всегда некие шифры, семиотические загадки, связанные с эстетическими представлениями прошлого и, в частности, с изобразительными конвенциями (визуальными режимами, техниками, кодами). Поэтому реконструкция первоначального авторского смысла (трактуемая всегда как лишь намерение, попытка, приближение), должна исходить из принципиальной неадекватности нашего опыта и «эффекта реальности», производимого знаковым строем культуры отдаленных периодов, адресованной совершенно иному «означивающему» и воспринимающему сознанию.
Данная общая цель исследования предопределила и более частные, специальные задачи, поставленные в докторской диссертации: • продемонстрировать возможность реконструкции забытого, утраченного способа видеть и понимать конкретный памятник искусства, исходя из определенной конфигурации текстуально-знакового строя, ныне «погребенного» в толще историко-культурных условностей (собственно археологическая проблема); • рассмотреть сложившуюся и функционирующую нормативную систему визуальных кодов в академической эстетике XVIII-XIX веков как отражение парадигмы или модели зрения, определенной философскими, научными, культурно-историческими, социальными конвенциями соответствующей эпохи; • исследовать возникновение и формулировку вопрошания о границах научного знания/ видения, открытие условий и исходной данности перцепции — физиологического тела. Проанализировать последствия ориентации искусства на «плотский глаз» и «сетчаточную иллюзию» — в частности, вовлечение всего человека в процесс эстетического восприятия (сложение телесных дисциплин). Исходя из этого, на материале живописи и фотографии рассмотреть различные визуальные практики — синтезирующее видение, абсорбцию, «умозрение», апелляцию к символике бессознательного, — основанные на неизменности человеческих телесных параметров; • наконец, рассмотреть, как эволюция понимания задач искусства ведет к концептуальному закрытию визуальности: разрушению традиционной парадигмы (телесного) видения мастерами международного авангарда. При этом доказать, что художество начинает пониматься как жизнестроение: социальная машина, с соответствующими властными функциями; задачей изобразительного искусства становится производство нового зрителя и управление им {пост-визуальная парадигма).
Данный проект обладает эвристической ценностью как попытка выявить скрытую имманентную диалектику создания и восприятия произведений искусства, ускользающую от формального анализа исторических стилей и направлений (романтизм, импрессионизм, символизм), от иконологического, социологического и других искусствоведческих подходов. Думается, такой проект способен наглядно продемонстрировать и плодотворность постановки проблем истории визуальности на отечественном изобразительном, культурно-историческом материале, и перспективы археологической методологии — исследования условий, сделавших возможным формирование специфических режимов видения, а равно и закономерностей эволюции, кризиса и разрушения последних.
Научная новизна исследования. В существующих отечественных искусствоведческих и иных научных трудах замечания об особенностях видения (пусть даже глубокие) либо носят отрывочный и несистематизированный характер, изолированы от динамики художественно-исторического процесса, либо включаются в качестве самостоятельного нарратива, параллельного эстетической эволюции стилей (иногда и просто обрамляют ту или иную колоритную цитату). В данной диссертации впервые предлагается комплексный подход: интерпретация видения как историко-семантического артефакта, а визуальности — как сквозной системы дискурсов, проницающих сферы научного поиска, художественного творчества, массового сознания и политической идеологии одного и того же исторического периода. Целый ряд специальных первоисточников XVIII и XIX веков, привлеченных в нашем исследовании, ранее не использовался в контексте искусствознания.
Следующие теоретические положения, составляющие научную новизну диссертационного исследования, вынесены на защиту автором: • понимание видения как сложного, многоуровневого семантикохудожественного конструкта, находящегося во взаимосвязи с тенденциями развития научной, философской мысли и изобразительного искусства (динамика техник/ практик визуальности определяется теоретическими и социальными причинами, но обладает известной самостоятельностью и в свою очередь влияет на творческий поиск); • эвристическая модель эволюции визуальной парадигмы в русском искусстве (живописи) XIX — начала XX столетий, кризис и смена доминирующих представлений о моделях видения, отраженных в художественной практике; роль визуальных кодов в академической педагогике и в индивидуальном творческом сознании; • археологическая методология: рассмотрение социальных и историкокультурных предпосылок, сделавших возможным специфическое (артистическое) видение, реконструкция знакового строя эпохи, понимание господствующих и подавленных, «репрессированных» режимов визуального семиозиса; G обоснование пост-визуальной концепции искусства — как силового поля властных отношений (результат жизнестроительных интенций международного авангарда) и общественно-исторических процессов первой трети XX века; очерк эволюции данной концепции и ее значения в эстетике модернизма.
Научной новизной обладают также определенные частные выводы, сделанные в процессе исследования и содержащиеся в диссертации: присутствие и некоторые особенности «эзотерического компонента» в художественной культуре русского романтизма; отношения «означивающих практик» живописи, фотографии и массовой культуры в середине XIX — начале XX века; аспекты семантической концепции тела в живописи и визуальном поле стратегий власти/ знания/ желания; возможность и результаты интертекстуального прочтения памятников отечественного авангарда на фоне «русской рецепции» влиятельных философских и психологических дискурсов.
При кратком историко-критическом рассмотрении того, как различные режимы, техники и практики визуальности исследовались в рамках гуманитарных дискурсов XX и начала XXI веков, исходный момент должен быть обусловлен как хронологически (понятие о зарождении визуальности), так и концептуально (исследовательская, аналитическая традиция).
Обсуждая понятие красоты в психоанализе, Ю. Дамиш напомнил, как
3. Фрейд определил конститутивную роль зрения в человеческой культуре: «Если, согласно гипотезе Фрейда, мы должны принять вертикализацию как исходную точку не просто [развития] человека, но возникновения культуры, то объяснение этому — и сие положение не мешает повторить — таково: вертикальная позиция, делая видимыми прежде сокрытые генитальные органы, делает необходимой их защиту, одновременно инициируя возникновение стыда, вследствие чего обесцениваются обонятельные стимулы и возрастает важность визуальных».
Можно заключить, что подобная концепция характерна для дискурса модернизма, маркированного бинарными оппозициями: природа — культура, эмпирическое — интеллектуальное, сознание — бессознательное, профанное — валоризованное (искусство). Понимание знаковой природы визуального восприятия, как будет показано в ходе исследования, инициировано в начале XX столетия авангардистским вопрошанием о сущности искусства и проблематизацией статуса артефакта.
Фрейдовскую метафору буквально подхватывает К. Палья; в своей спорной, провокативной, но богатой меткими наблюдениями книге она заявляет: «Видимость гениталий мужчины есть источник его стремления к внешнему испытанию, подтверждению, доказательству. Таким способом он надеется разрешить предельную загадку — свое хтоническое рождение». Мужская «концентрация и [внешняя] проекция» рассматриваются как предпосылки объективирующего знания — прежде всего, искусства. Последнее, согласно утверждению автора, суть ритуальный вывод наружу и связывание, заключение энергий в объект: «Искусство есть ритуальное обуздание вечного двигателя, который именуется природой... Современный художник, просто проводя линию по бумаге, стремится усмирить некий неконтролируемый аспект реальности. Все искусство — это наложение заклятия». В западной культуре и творчестве, согласно Палья, доминирует агрессивная, «аполлоновская» визуальность. «...Запад изобрел новый глаз — созерцательный, концептуальный, глаз искусства. Он зародился в Египте. Это — аполлоновский солнечный диск, освещающий и идеализирующий. ...Аполлоновский глаз суть великая победа разума над окровавленным, зияющим ртом матери2 9
— Damisch Н. The Judgment of Paris. Trans, J. Goodman. — Chicago & London: The University of Chicago Press, 1996. — P. 25. Интересно, что свой собственный исследовательский метод Дамиш, воздавая дань и 3.
Фрейду/ж. Лакану, и Э. Панофскому, именует «аналитической иконологией».
природы». В другом месте: «Западный глаз создает вещи, идолы Аполлоновской объективации. <.. .> Западная культура движется визуальным материализмом. Для творения своего романа вещей, аполлоновский формализм вытянул из природы все жесткое, блестящее, грубое и упрямое». Западный глаз скользит по поверхности предмета и оставляет нарезку [incised edge], условие всякой сигнификации.
Как напоминает Палья, первоначально «объективированные знаки» прочитывались согласно не эстетическим, но магическим правилам. Визуальный образ предшествовал понятию искусства, ибо последнее включает момент философской рефлексии, появившийся на позднейшей стадии развития культурных конвенций. Так, Ганс Бельтинг показал в своем исследовании, что многие религиозные памятники (в частности, иконы) не относились, строго говоря, к искусству, поскольку почитались не рукотворными изделиями, но отпечатками божественной эманации, сохраняющими энергетические свойства самого Божества. «Многие религии стремятся сделать видимым предмет благоговения, взять его под свое покровительство и оказывать образу то почитание, которое желали бы оказывать высшему существу: отсюда и символические действия перед иконой, являющиеся выражением религиозного благочестия». Ученый убедительно демонстрирует, что «концепция искусства» сформировалась не ранее эпохи Возрождения и характеризовалась пониманием материальной сделанности артефакта, роли художника, представлением о знаковой передаче смысла, и так далее. «В эстетическом воздействии таится иная возможность использования образа, о котором художник и зритель взаимно договариваются. Образ оказывается во власти субъекта, который ищет в искусстве своего метафорического понимания мира. Образ, отныне создаваемый согласно художественным законам и шиф3 0
— Paglia Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. — New York: Vintage Books, 1991. — P. 22; 29; 50; 37. Цитата о солнечном диске — из главы «Рождение западного глаза».
— Бельтинг Г. Образ и культ: история образа до эпохи искусства. Пер. с нем. К.А. Пиганович. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 63. Исследователь связал происхождение такого религиозного образа со следом, манифестирующим божественное присутствие, или исхождение благодати (Спас Нерукотворный, и др.).
руемый с их помощью, предстает ныне перед созерцателем для размышления. Форма и содержание уступают свой непосредственный смысл опосредованному смыслу эстетического опыта и невысказанной аргументации».
означает, что процесс визуального освоения реальности отличается от традиционной истории художественной культуры, и что по хронологическим рамкам они не совпадают. Соответственно, история визуальности суть что-то иное, нежели история искусства (в частности, живописи).
Постмодернистская мысль последовательно деконструирует такие понятия как «исток», «происхождение», «артефакт» и, в конечном итоге, «искусство» — показывая их как пустые означающие, реферирующие лишь к самим себе. Так, Ж. Деррида парадоксально предположил, что исходным условием происхождения искусства (точнее, рисования) должна быть двойная слепота: рисуя, художник не глядит на свою модель, а кроме того, собственная рука мешает его глазу наблюдать рождение линии. «Черту, очертание, увидеть невозможно. Действительно, ее и не следует видеть, ... поскольку цветная густота, которую черта окружает, испаряется, маркируя лишь грань контура: между внешностью и внутренностью фигуры. Как только этот предел достигнут, больше видеть нечего, ни даже черного и белого, ни фигуры, ни формы: вот какова черта [trait], какова линия.... <...> Этот предел никогда в действительности не достигается, но рисунок всегда взывает к такой недостижимости, к тому порогу, где проявляется окружение черты — то, что черта, ограничивая, переводит в пространство, и что, таким образом, не принадлежит черте. Ничего не принадлежит черте, а значит, и рисунку, и мысли о рисунке, ни даже его собственный след. Черта и сливает, и соединяет, но только в разделении».
Так, согласно логике Деррида, зрение оказывается особым случаем слепоты, и соответственно, видимое (визуальная репрезентация) есть частный случай невидимого/ нерепрезентируемого.
— Бельтинг Г., указ. соч. — 29.
— Derrida J. Memoirs of the Blind: The Self-Portrait and Other Ruins. Trans. P.-A. Brault & M. Naas. — Chicago & London: The University of Chicago Press, 1993. — P. 53-54.
В труде Эрнста Гомбриха (1909-2001) «Искусство и иллюзия» (1959) одной из предпосылок возникновения художества полагается отношение условного, так называемого «концептуального» знака, черты, активизирующих интеллект или логическое мышление, — к иллюзорному образу, призванному «обмануть» глаз. Переход в искусстве Древней Греции около VI в. до н.э.
от конвенционально прочитываемого иероглифа, пиктограммы, — к мимесису, «подражанию природе», ученый именует «греческой революцией»: «Что делает ее [греческую революцию] уникальной, это именно направленные усилия, безостановочные и систематические модификации схем концептуального искусства, до тех пор, пока создание не сменилось соперничеством с реальностью при помощи нового умения, мимесиса. Мы ошибаемся касательно характера этого умения, когда говорим об имитации природы. Природу нельзя имитировать, или "транскрибировать", без того, чтобы разъять на части и собрать заново. Мы имеем дело с работой не одного лишь наблюдения, но, скорее, непрестанного экспериментирования».
Основной же тезис книги Гомбриха состоит в том, что визуальный опыт человека, развиваемый путем «делания и сравнения» [making and matching], приводит к разработке постоянно корректируемых схем, алгоритмов, шаблонов [schemata], которые и диктуют, что именно художник видит в природе. «Художника будут привлекать именно те мотивы, которые могут быть трактованы в рамках его идиомы. Когда он рассматривает пейзаж, черты, наиболее успешно совместимые с заученными им схемами, будут притягивать наибольшее внимание. Стиль, как и избранные средства, создает психологическую установку [mental set], заставляющую художника выбирать в окружающей его обстановке определенные аспекты, которые он может передать. Живопись есть действие, и следовательно, художник будет скорее видеть, что он пишет, чем писать, что он — Gombrich Е.Н. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation [1959]. — London: Phaidon, 1996. — P. 121. Концепция, прямо противоположная реконструкции М. Даниэля.
видит». В процессе нашего исследования такие схемы, или шаблоны, будут именоваться визуальными кодами; обстоятельства их сложения, функционирования, их взаимные отношения и трансформации, как можно допустить, составляют некую внутреннюю историю визуальности, пронизывающую творческую эволюцию искусства. Предлагаемый в нашем проекте опыт «археологии визуальности» оказывается исследованием критических моментов данной истории, будь то отдельные памятники, или точки пересечения влияний разных визуальных (суб) культур, определивших сдвиги научноэстетической парадигмы эпохи. К работе Гомбриха нам еще предстоит вернуться.
В опубликованной в 2007 году книге «Беспутства глаза» английский автор Стюарт Кларк исследует понимание и значение перцепции в европейской культуре XV-XVII столетий как часть социальных/ интеллектуальных процессов, стимулированных религиозной Реформацией и научной революцией. Рассматриваются такие исторические визуальные коды, как иллюзии в живописи, магии и в ученом эксперименте, сверхъестественные видения (ангелы, демоны, призраки), визуальные тропы в скептической философии М. Монтеня, Ф. Ламот-ле-Вайе, П. Шаррона, Н. Мальбранша, Т. Гоббса, фантазмы в «Макбете» У. Шекспира и загадки сновидений. «...Идеологические и культурные перемены порождали соперничающие описания зримого мира, — констатирует Кларк. — Истина или ошибочность визуального опыта была как будто не вопросом естественного согласия или несогласия между разумной душой и внешним миром, но вопросом языка, а значит, условностью — чем-то вроде толковательной привычки, социально усвоенной и заученной опытным путем, как и самый язык».
Исследование «визуальных и других форм неразумия [unreason]» на стыке дискурсов художества и демонологии,
— Gombrich Е.Н., op. cit. — P. 73. Автор ниже указывает, что все большее приближение к природе «тривиализирует» образ, который утрачивает исходные магические потенции. Это вызывает обратную реакцию, ведущую к распаду «греческого иллюзионизма» в искусстве Византии (Pp. 123-125). Впрочем, в наши задачи не входит согласование эвристических гипотез Гомбриха и Бельтинга.
— Clark S. Vanities of the Eye: Vision in Early Modern European Culture. — Oxford & New York: Oxford University Press, 2007. — P. 337. Ранняя книга автора (1997) была посвящена ренессансной демонологии.
эпистемологии и медицины, диоптрики и философии, теологии и снотолкования подводит автора к выводу, что даже «фикции видения» имели когнитивные и эпистемологические аспекты.
Классический режим визуальности: картезианский перспективизм.
В современной зарубежной искусствоведческой литературе принято характеризовать господствовавший в XVII-XVIII веках тип визуальности как «картезианский перспективизм», сочетающий достижения ренессансной перспективы с естественнонаучным рационализмом, представленным в философии Р. Декарта. В дискурсе последнего мотивы зрения, видения и слепоты занимают центральное место — например, в трактате La Dioptrique (1637). «...Ссылки на перспективу у Декарта, в данном контексте, проясняют тот факт, что его 'теория видения суть теория репрезентации, интерпретация видимого как символической формы. Видение — это лишь конструкт, чей живописный референт есть проекция геометрически-оптической системы», — указывает исследователь. Философ Р. Рорти расширил окулоцентрическую метафору для характеристики всей картезианской гносеологии: «...В картезианской модели разум исследует сущности, моделируемые отражением на сетчатке.
.. .В декартовской концепции, которая стала основой "новой" эпистемологии, в "уме" находятся именно репрезентации. Внутренний Глаз обозревает эти репрезентации для того, чтобы найти некоторый признак, который удостове•50 рит их верность». То есть: научное мировоззрение XVII века трактовало мир как регулярный, упорядоченный пространственно-временной континуум — и позиционировало там бесплотный, незаинтересованный абсолютный глаз, который воспринимает внешние природные объекты.
— Judovitz D. Vision, Representation, and Technology in Descartes/ Modernity and the Hegemony of Vision. Ed.
D.M. Levin. — Berkeley — Los Angeles — London: University of California Press, 1993. — P. 73.
— Рорти P. Философия и зеркало природы. Пер. с англ. В.Целищева. — Новосибирск: изд-во Новосибирского университета, 1997. — 35 (курсив в оригинале). Как имплицитно следует из концепции Рорти, философский рационализм, основное качество мышления данной эпохи, позволяет рассматривать ренессансное и барочное чувство формы в качестве инвариантов «модерной» эпистемологии.
Построенное на такой философской концепции искусство есть конструируемая субъектом визуальная проекция, претендующая на объективность и заранее предполагающая присутствие созерцающего субъекта — в качестве источника восприятия, математически «высчитываемого» из самой проекции. «...Взирание художника, — указал исследователь, — останавливает поток феноменов, созерцает визуальное поле из наблюдательной точки, внешней по отношению к мобильности времени, в некий остановленный момент раскрытого присутствия; при этом в момент восприятия воспринимающий субъект соединяет свое взирание с Изначальной Перцепцией, в совершенстве воспроизводя исходное откровение художника [epiphany]».39 В перспективной проекции точка схода (внутри построенного художником иллюзорного пространства картины) зеркально отражает точку наблюдения, а значит, картина подразумевает — и даже проецирует — наблюдающего индивида.
Упомянутая выше Изначальная Перцепция (гипотетический исходный «момент взирания» автора, засвидетельствованный в картине) обладает целым рядом параметров, конститутивных для «картезианского перспективизма». Это, в первую очередь, эмоциональная «выключенность», нейтральность наблюдения, негласно предполагающая наличие зияния, разрыва между зрителем и зрелищем. Соучаствующее переживание художника/ зрителя подавлялось, поскольку математически рассчитанное, рациональное видение не наделялось телесной составляющей. Исключались как возможность эротической окраски видения (то, что Блаженный Августин, нередко цитируемый в работах по визуальности, назвал «похотью очей»
41), так и физиологические кондиции процесса зрения. Далее, количественно измеряемое пространство — Bryson N. Vision and Painting... — P. 94. Немного высокопарное «взирание» передает специальный термин «the Gaze», существенно отличающийся, по мысли автора, от воспринимающего взгляда (the Glance).
— Существуют несколько наивные социологические интерпретации, связывающие такого «проецируемого индивида» с раннебуржуазным индивидуализмом. Так, у Дж. Бергера использованная Л.Б. Альберти метафора «картины как окна» превращается в «сейф, вделанный в стену, — сейф, в котором зримое положено на хранение» (Berger J. Ways of Seeing. — London: British Broadcasting Corporation, 1972. — P. 109).
— «...Всякое знание, доставляемое внешними чувствами, называется, как сказано, "похотью очей"; обязанность видеть — эту основную обязанность глаз, присваивают себе в переносном смысле и другие чувства» (Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского - М • Renaissance, 1991 - 271).
становится для художника более интересным, чем качественное разнообразие объектов, размещенных в нем. Постепенно нарастает автономия визуального образа от внешней дискурсивной, текстуальной характеристики — религиозной, или любой другой. Это то, что принято называть «усилением эффекта реальности» за счет первичности коннотации по отношению к денотации: «...основные направления технического прогресса в эпоху Ренессанса, от перспективы до анатомии, все будут происходить в коннотационном регистре. Следуя прихотливой логике реализма, коннотация затем послужит для актуализации партнерского термина: поскольку я доверяю коннотации, я заодно верю и в правдивость денотации...».
Мы вступаем тут в сферу производства смысла: тот возникает как «эффект парения» означающих (включая перспективу и анатомию) над материальными означаемыми (исторические, социальные и культурные условия), обусловившими возможность семиозиса.
При всех очевидных упрощениях и издержках, вышеописанная эвристическая модель обладает ценностью, ибо характеризует основную визуальную парадигму, допускающую, в числе прочего, также и стилистические колебания (вельфлиновское чувство формы). Все же она имеет серьезный внутренний изъян. Постулируя, что сменяющие друг друга поколения художников, учась на опыте предшественников, все глубже и вернее постигают мир, изощряют способы его репрезентации, указанная модель допускает теоретическую вероятность того, что достижимо идеальное художественное воспроизведение реальности как та дается в человеческом визуальном опыте — может быть создана так называемая Совершенная Копия [Essential Сору].
Скрытая вера в такую возможность пронизывает многие исторические очерки эволюции искусства, начиная с «Жизней знаменитых художников» Дж.
Вазари (1550); мы встретили ее, как молчаливое допущение, в перспективной концепции Б.В. Раушенбаха. Но все же первоочередной фактор художества суть репрезентация репрезентации — семантическое опосредование челове4 2
— Bryson N. Vision and Painting.... — P. 65.
ческой перцепции, со сложным комплексом социальных и культурно-исторических аспектов.
Искусствовед-структуралист Норман Брайсон (р. 1949) подверг критике «предрассудок Совершенной Копии», имплицитно присутствующий, по его мнению, в упомянутой работе Э. Гомбриха «Искусство и иллюзия». Как уже говорилось, Гомбрих характеризовал творчество художника как постоянное, непрерывное развитие, состоящее в постепенной модификации традиционных, шаблонных приемов ремесла [schemata] под давлением все новых требований визуального опыта. Брайсон показал, что, согласно этой логике, Совершенная Копия все же может быть достигнута, поскольку при изменении «зазора» между копией (артефактом) и оригиналом (натурой), логически невозможно исключить их совпадение. «Совершенная копия, таким образом, не только может быть создана, но по известным данным, может находиться на самой грани появления. Единственное сохраняющееся препятствие относится к измерению зазора между Совершенной Копией и реальностью — как настаивает Гомбрих, образ может лишь "бесконечно приближаться" к последней».
Концепция, выводимая из труда Гомбриха, недостаточно учитывает знаковый характер искусства (что мы отмечали и в отношении научных расчетов Раушенбаха), которое реферирует не к физической, а к культурной реальности. Кроме того, Гомбрих, можно сказать, разделяет наивнопрогрессистское, «картезианское» убеждение о возможности абсолютного познания мира.
Итак, согласно Брайсону, идея Совершенной Копии неотделима от представления о прогрессе искусства. Отмечая исторический путь от условного визуального образа, созданного неким художником, до образа, созданного его творческим наследником, можно оценить его как продвижение впе— Ibid — Р. 35. Исследователь указывает, что Гомбрих понимал «визуальные шаблоны» [schemata] в двух смыслах: как алгоритм заученных мускульных действий (мануальный аспект), и как определенную ментальную установку (Gestalt), «фильтрующую» восприятие окружающего мира.
ред, а можно охарактеризовать усилия обоих как равно неудачные «фальстарты». Для такой оценки, прежде всего, необходимо предварительное знание конечного результата означенного прогресса, чтобы измерить степень приближения или удаления от него; таким образом, наше понимание сравнительных достоинств художников будет зависеть от степени их приближения к Совершенной Копии. «И до тех пор, пока Совершенная Копия остается необходимым компонентом в теоретическом обсуждении живописи, анализ образа будет постоянно исключать измерение истории».
Структуралистская методология, исповедуемая самим Брайсоном, исходит из представления о том, что между субъектом и действительностью располагается густая сеть дискурсов, которые и образуют визуалъностъ — культурный конструкт, делающий видение отличным от зрения, то есть, физиологического, непосредственного эмпирического переживания. Между сетчаткой и миром, утверждает Брайсон, помещается «экран знаков», образованный многочисленными дискурсами о видении, сложившимися в заданной общественной и культурной среде. Когда любой зритель учится воспринимать искусство, он усваивает социальные и художественно-исторические конвенции своей эпохи, и таким образом, «встраивается» в знаковые системы визуальных дискурсов. Все, что он видит, трансформируется в рамках «культурного (вое) производства» визуальности, существующего вне субъекта и независимо от него; любые личные открытия или достижения совершаются с помощью кодов опознания, сложившихся прежде появления каждого конкретного индивида. «...Видение децентрируется переплетением означающих, навязываемых мне социальной средой. <...> ...Видящий субъект не расположен в центре перцептивного горизонта и не может управлять цепями и сериями означающих, пересекающих его визуальное поле».
Понимание знакового характера видения, исторически обусловленного социо-культур4 4
— Bryson N., op. cit. — P. 35. Критику Гомбриха ученый повторил в своей следующей работе: Bryson N.
Tradition and Desire, from David to Delacroix. — Cambridge: Cambridge University Press, 1984. В ней он использует также некоторые положения теории «страха влияния», предложенной Г. Блумом.
— Bryson N. The Gaze in the Expanded Field/ Vision and Visuality... — P. 94.
ными факторами, образует фундаментальную предпосылку нашего исследования; ниже мы будем исходить из данной интерпретации, проецируя ее на материал отечественного искусства (в основном, живописи).
Экран знаков, как считает Брайсон, умерщвляет зрение. Условные термины, точки означивания, цепи означающих, оперируют со светом, но сами непрозрачны: они заимствуют свет у человеческого глаза/ сознания. То есть: означающее отбрасывает некую тень, вторгающуюся, пересекающую, темным пятном разрезающую индивидуальное поле видения. Здесь критик ссылается на Жака Лакана: «В самом деле, в любой картине можно обнаружить нечто отсутствующее... Это центральное поле, где разделяющая мощь глаза максимально проявляется в видении. В каждой картине это центральное пятно не может не отсутствовать, оно замещается дырой — иными словами, отражением зрачка, за которым находится взгляд. ...Место центрального экрана всегда маркировано, и именно посредством <этого экрана> я, находясь перед картиной, вычеркнут как субъект из геометрического плана».
«Слепое пятно» сигнификации выводит в присутствие фигуру воспринимающего/ интерпретирующего наблюдателя: тут позиционируется сам аналитик.
От камеры обскуры к телесной обусловленности видения. Темноту, омрачающую визуальное поле, можно понимать не только как тень «знакового экрана» или проекцию «субъективного взирания». Американский исследователь Джонатан Крэри цитирует «Учение о цвете» Гете {Farbenlehre, 1810), где великий мыслитель описывает плавающее перед глазами экспериментатора пятно, которое медленно меняет окраску в соответствии с хроматическим кругом, пока, наконец, не становится черным. Это пятно и его цветовые трансформации, объясняет Гете, не имеют соответствия в материальном окружении: мы способны наблюдать «физиологические цвета», порожденные исключительно человеческим организмом. «Телесная субъективность — Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Trans. A. Sheridan. — London: Penguin Books, 1994. — P. 108. У Лакана Брайсон заимствовал и концепцию «взирания» {the Gaze = le regard).
наблюдателя ... неожиданно оказывается площадкой, где может возникнуть наблюдение. Человеческое тело, во всей своей случайности и специфичности, генерирует "спектрум дополнительного цвета" и таким образом, становится активным производителем оптического переживания».
Введение телесного фактора позволяет критику существенно пересмотреть искусствоведческое понимание дискурсов и техник визуальности XIX столетия, обнаружив в них новый фактор: то, что автор называет «корпоральной густотой зрения». Крэри заново осмыслил значение открытий в области физиологии и различных оптических изысканий для производства субъективных моделей видения эпохи модернизма [modernity].
Характеризуя тип визуальности, обозначенный выше как «картезианский перспективизм», Крэри предлагает камеру обскуру как эпистемологическую модель организации познания, репрезентации и субъективности в культуре XVII-XVIII веков. Это оптическое устройство поминается в трудах ряда философов и естествоиспытателей: у Декарта, Лейбница, Локка, Ньютона; установлено, что ею пользовались такие живописцы, как Ян Вермеер, Антонио Канале и Бернардо Белотто (Каналетто), Джузеппе Мария Креспи и другие. Как указывает американский автор: «Камера обскура со своим монокулярным объективом стала более совершенным терминалом зрительного конуса, более совершенным воплощением совмещенной точки [зрения], чем неуклюжее бинокулярное тело человеческого субъекта. В каком-то смысле камера стала метафорой наиболее рациональных возможностей зрителя в нарастающем динамическом беспорядке внешнего мира». Это объясняет, например, почему монокулярная абстрактность «итальянской» перспективы так долго не вызывала возражений рационалистов-ученых и художников.
— Crary J. Techniques of the Observer// October. — Summer 1988. — № 45. — P. 4. Насколько удалось установить, это наиболее ранняя публикация результатов чрезвычайно оригинального исследования автора. См.
также: Crary J. Modernizing Vision/ Vision and Visuality... — Pp. 29-44.
— Crary J. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. — Cambridge, Mass.
& London: The MIT Press, 1990. — P. 53. Итоговая книга критика, хотя совпадает по названию, тем не менее, существенно дополнена, по сравнению с текстами, опубликованными прежде, в журналах и сборниках.
Исследователь показывает, как развитие философского и эмпирического знания на рубеже XVIII-XIX столетий (Кант, Гете, Мэн де Биран, Шопенгауэр, Фреснель, Мюллер) постепенно привело к краху присущей камере обскуре бинарной оппозиции: разделения зрения наблюдателя — и физической реальности. Когда замутняется противопоставление «внутренности» и «внешности», сам процесс смотрения/ наблюдения становится предметом анализа. При таком анализе ликвидируется единый, фиксированный источник света, решительно отвергается «линейный конус» лучей, наконец, уничтожается дистанция, отделяющая наблюдателя от места оптического переживания. Эмпирической и теоретической демонстрацией автономного зрения стали, прежде всего, так называемые «ретинальные послеобразы» — оптические манифестации, выработанные телом субъекта и обеспечивающие сугубо приватное переживание. Восприятие обрело при этом также и темпоральную протяженность; наряду с градацией интенсивности внешнего стимула, это дало возможность ученым-эмпирикам ввести ощущение в ряд измеряемых величин (Фехнер).
То, что Крэри именует «производством новой парадигмы наблюдателя», в области массовой культуры породило оптические, так называемые «философские игрушки» (тауматроп, фенакистископ, стробоскоп, зоотроп и др.), которые создавали визуальную иллюзию, основанную на свойстве глаза задерживать зрительное раздражение. В творчестве ряда живописцев XIX века (Тернер, впоследствии импрессионисты) тело не просто выделяется как место и производитель хроматических эффектов; плотская густота позволяла мастерам конструировать абстрактное визуальное переживание — видение, которое не воспроизводит, не реферирует к объектам внешнего мира.
«Реальный мир, который стабилизировался камерой обскурой в течение двухсот лет, больше не был, перефразируя Ницше, самым удобным и драгоценным миром. . . . И в дискурсе, на практике понадобился легче адаптируемый, автономный и производительный наблюдатель, — соответствующий' новым функциям тела, а также массовому производству безразличных, конвертируемых знаков и образов. Модернизация спровоцировала детерриториализацию и переоценку видения». В нашем археологическом исследовании модернистское тело будет рассмотрено и как фактор, устанавливающий физиологические параметры видения (сообразно с Крэри), и с другой стороны, — как специфический культурно-исторический конструкт.
Аналитический проект Крэри размещается на стыке истории науки, социальной антропологии, искусствознания и постмодернистской теории. Его «разомкнутость» является концептуальной и компенсируется эвристическими свойствами самого дискурса. Поэтому несостоятельна, в частности, критическая атака М.Б. Ямпольского, который, мимоходом упоминая «влиятельную книгу» американского историка, назидательно пишет: «Между тем, подлинная ситуация была гораздо сложнее, чем это представляется Крери».
Постулируя, что уж он-то знает подлинную ситуацию, русский автор тем самым попадает в ловушку именно той «картезианской» претензии "на абсолютное знание, каковую деконструирует обсуждаемый им западный исследователь. Ямпольский уличает его в недооценке Гельмгольца, Милля и Дарвина, но труды этих ученых-позитивистов хронологически не попадают во временные рамки работы, принципиально завершаемой 1840-ми годами.
Вышеуказанным теориям Дж. Крэри уделяет должное внимание в своей второй книге: «Подвешивание восприятия: внимание, зрелище и модернистская культура» (1999).
Заявленный объект рассмотрения в данной работе — «генеалогия внимания и роль последнего в конструировании модернистской субъективности» — фактически составляет содержание лишь первой главы и заключения.
Рамки исследования оказываются шире, охватывая проблемы массовой куль4 9
— Crary J., op. cit. — Р. 149. Как будет показано в нашем исследовании, русская научная мысль, с известным запозданием, двигалась в сходном направлении — это относится и к отечественной живописи (Ф.А. Васильев, Н.Н. Ге, А.И. Куинджи, К.А. Коровин, М.Л. Врубель и т.д.).
— Ямпольский М. О близком (очерки немиметического зрения). — М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 108. Одни и те же моменты — например, уподобление Декартом зрения прикосновению, — американский и русский автор трактуют буквально противоположно; ср.: Crary, pp. 59-60 и Ямпольский, с. 107.
туры и эффектов индустриализации, телесности и физиологии, философии витализма и постимпрессионистской живописи. «Как только было определено, что эмпирическая истина видения сосредоточена в теле, зрение (и аналогично, другие чувства) оказалось возможным выделить и контролировать с помощью внешних техник манипуляции и стимуляции. ...Помещение восприятия (равно как и других процессов и функций, прежде относимых к "ментальным") в гуще тела стало предпосылкой инструментализации человеческого видения как части механических приспособлений, — но именно оно стоит и за поразительным взрывом визуальной изобретательности и экспериментирования в европейском искусстве второй половины XIX века».51 Возникающие на последних страницах тома образы «эрозии принципа реальности», фрейдовской Massenpsychologie и коллективной мобилизации знаменуют приближение нового кризиса визуальной парадигмы — начало эпохи, когда в рамках некоей целокупной, умозрительной тотальности ставилась задача решительной переделки природы и человеческого тела, социума и индивида. Этот идеологический рубеж образует естественный ориентир и для нашего «археологического» проекта на материале русской живописи.
Степень зрелости постмодернистского теоретического дискурса такова, что он во все возрастающей степени является как «вторичная моделирующая система» — репрезентация репрезентации. Так, книга Мартина Джея «Потупленные глаза: очернение зрения во французской мысли XX века» (1993) оказывается историей историй визуальности. Она открывается развернутым очерком использования образов и метафор света, зрения и видения в античности и европейском средневековье, культуре Ренессанса и Просвещения; в должных местах упомянуты и «альбертиновская абстракция», и «картезианский перспективизм». Затем Джей сосредотачивается на Франции, указав, что окулоцентризм был особенно типичен для той страны, где появились
— Crary J. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. — Cambridge, Mass. & London: The MIT Press, 1999. — P . 12-13.
«Оптика» Декарта и «Феноменология восприятия» Мерло-Понти, «светопись» Дагерра и синематограф братьев Люмьер. Фигуры и понятия, заимствованные из сферы изобразительного искусства, появляются на страницах работы лишь после того, как американский историк добирается до второй половины XIX века. Автор уделяет определенное внимание импрессионизму, Сера и Сезанну, Дюшану и сюрреализму,
хотя его взгляд, в основном, сосредоточен на писателях и философах. Можно (с некоторыми оговорками) назвать этот труд компендиумом высказываний французских теоретиков по заявленному вопросу.
Рассмотрение эволюции воззрений М. Фуко. Взгляды основоположника концепции «археологии власти/ знания» Мишеля Фуко (1926-1984) на проблемы видения и визуальности особенно релевантны для нашего диссертационного исследования. Как подчеркивает М. Джей, уже в «Истории безумия в классическую эпоху» {Histoire de lafolie a I'age classique, 1961-64) Фуко пришел к выводу о важности визуальных режимов для установления определенных культурных категорий. Философ констатировал, что в период торжествующего рационализма «...безумие становится спектаклем в чистом виде, его преподносят как развлечение уверенному в себе разуму с его спокойной совестью. <...> Безумие превратилось в вещь, вещь зримую и зрелищную». Согласно французскому мыслителю, безумие оказалось визуализировано, предстало как зрелище в очах картезианского «просвещенного рассудка», лишь вследствие распадения ренессансного тождества слова и образа. В дополняющей медицинские изыскания Фуко книге «Рождение клиники» {Naissance de la clinique, 1963) речь ведется о режиме визуального насилия: взгляд врача видит человека в перспективе его конечности — наблюда— Впрочем, бросается в глаза отсутствие В.В. Кандинского (бегло упомянут лишь однажды) — все-таки маэстро жил во Франции в 1905-6 и в 1933-44 годах, о его произведениях писали такие видные французские теоретики и критики, как А. Бретон, А. Мальро, М. Сефор, Ж. Кассу, М. Фуко, Ж. Делез и Ф. Гваттари и др.
— Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб.: Университетская книга, 1997. — 158-159.
Здесь и далее соответствующие цитаты приведены по русским переводам важнейших работ М. Фуко.
ет, как смерть снимает занавес жизни и «открывает для дневного света черный ящик тела». «Медицина XIX века неотступно сопровождалась этим абсолютным оком, которое превращало жизнь в труп и обнаруживало в трупе хрупкую поврежденную прожилку жизни».
Переплетение видимого и невидимого играет особую роль в модернистском искусстве XX века, радикально подорвавшем гегемонию глаза и зрения в эстетическом переживании.
Небольшая искусствоведческая работа Фуко о Р. Магритте (Ceci п 'est pas ипе pipe, написана в 1968-1973 годах) вводит различие между сходством и подобием. Художник-сюрреалист не претендует на воспроизведение репрезентативного «сходства» с окружающим миром — он предпочитает серию повторяющихся «подобий», которые циркулируют как «пустые» визуальные/ лингвистические знаки, не дающие отсылок к реальности, а реферирующие друг к другу. «Подобие умножает всевозможные утверждения [affirmations'], они словно исполняют вместе некий танец, опираются и валятся друг на друга».
Так не только подрывается наивный мимесис, но и вводится понятие интерференции дискурсивного и фигуративного, и казавшийся доселе незыблемым статус «визуальности живописи» оказывается под вопросом.
Еще одна значительная работа М. Фуко, «Слова и вещи» {Les mots et les choses, 1966), открывается анализом полотна Д. Веласкеса «Менины» (1656), рассматриваемого как концентрация визуального порядка «классической эпистемы». Мартин Джей напоминает, что, согласно концепции Фуко, «полноправный» [full-fledged] европейский гуманизм сложился лишь после возникновения «наблюдаемого зрителя» — человека — в визуально определяемом эпистемологическом поле. «...В глубине этого археологического изменения появляется человек в его двусмысленном положении познаваемого объекта и познающего субъекта; разом и властитель и подданный, наблюда— Фуко М. Рождение клиники. Пер. с франц. А.Ш. Тхостова. — М.: Смысл, 1998. — 252. В оригинале книга имеет подзаголовок: Archeologie du regard medical (археология медицинского взгляда).
— Фуко М. Это не трубка. Пер. с франц. И. Кулик. — М.: Художественный журнал, 1999. — 61.
тель и наблюдаемый...» То есть, человек, или трансцендентальный субъект философского дискурса, суть функция определенного визуального режима.
Соответственно, человек со своей «плотской густотой» неизбежно растворится, когда знаковый код изменит конфигурацию. В этой и следующей книге, «Археология знания» {L'Archeologie du savoir, 1969), Фуко использует археологический метод анализа «дискурсивных практик», который позволяет, в частности, заключить, что «живопись сама по себе не является чистым видением, которое необходимо перенести в материальное пространство. ... Независимо от научных знаний и философских тем, живопись полностью пронизана позитивностью знания [savoir]». Соответственно, предлагаемая в нашем исследовании археология визуалъности призвана прояснить, как, в исторически конкретном контексте и взаимовлиянии, формируются те или иные режимы/ техники видения (ведь они не обретаются ни в словах, ни в вещах), как строятся практики репрезентации и воплощающие их знаковые системы
(артефакты), каково отношение и тех, и других к господствующим дискурсам и «опредмеченным» метафорам (знание, власть, желание, тело, текст, письмо), как реализуются те или иные эстетические стратегии (в случаях, когда стилистические конвенции допускают взаимоисключающие творческие решения). Диапазон возможностей такого подхода к материалу изобразительного искусства, видимо, еще предстоит оценить по достоинству.
Подводя итог рассмотрения труда Мартина Джея, следует отметить, что собранный и проанализированный американским ученым обширный материал не приводит его к выдвижению какого-то оригинального, своеобычного понимания визуальности, — авторская теоретическая позиция на страницах солидного тома оказывается наиболее слабой. «Хотя эксперименты в области механики и физиогномики зрения могут научить многому, ту сложную смесь природных и культурных феноменов, что зовется визуальностью,
— Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с франц. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. — СПб.: A-cad, 1994. — 333-334.
— Фуко М. Археология знания... — 193.
невозможно редуцировать к нормативной модели, основанной лишь на научсо ных данных». Эти слова оказываются выводом из всей работы Джея, основной характеристикой которой становится широкомасштабная компиляция и популяризация чужих воззрений.
Актуальное состояние научных изысканий в области нейрофизиологии зрения и психо-динамики перцепции постулирует значительную опосредующую роль культурного творчества в человеческом видении. В широком диапазоне антропологических и натурфилософских подходов к вопросам визуальности выделяется интенциональная критика историка теории познания М. Вартофского. Ученый серьезно полемизирует с эссенциалистскими, релятивистскими и прагматическими воззрениями на человеческую перцептивную способность, отстаивая не только историческую вариативность восприятия, но и активное участие репрезентации. Для Вартофского восприятие не является чисто «внутренним процессом» (здесь он обоснованно критикует гештальт-психологию), но связывается с высшей деятельностью (общественноисторической практикой). Формы перцептивной активности не только отражают окружающую среду, но и непосредственно помогают ее изменять; восприятие, по Вартофскому, носит когнитивный, эмоциональный и целеполагающий характер, то есть, является формой осознанной социальной жизни.
При этом автор подчеркивает важнейшую роль искусства: «...Имеющиеся у нас каноны репрезентации, сами стили рисования и конвенции о нем учат нас видеть мир иначе. Фактически художник, представляя нам один из возможных миров, отличный от мира, доминирующего в культуре данного времени, тем самым перевоспитывает нас перцептивно. О пластичности наших форм восприятия свидетельствует, по-моему, тот факт, что исторически по мере — Jay М. Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-century French Thought. — Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 1993. — P. 591.
изменения стилей и канонов репрезентации менялся и мир». В другой работе ученый высказывает аналогичную концепцию еще более решительно: «Итак, картины есть визуальные артефакты, предназначенные к тому, чтобы их видели — и, понимая в означенном смысле, видели в качестве картин.
Распространенность картинного (pictorial) восприятия в человеческой жизни заставляет нас забыть, что создание и созерцание картин есть виды ученой деятельности [человеческого] рода. Я пойду далее и выскажу предположение, что оба этих вида деятельности (творчество и восприятие картин) суть фундаментальная форма жизненной активности человеческого рода, и в указанном смысле, я заключаю, что именно данная деятельность формирует человеческое видение и развивает его за границы биологического наследия глаза млекопитающего».
Вартофский очерчивает границы исторической эпистемологии, где строго научное изучение изменений в человеческой социальной практике должно включать историю техники, науки и искусства — как типов познавательной и культурной активности по созиданию «того общественного мира человека, где рождается и функционирует восприятие».
При всех неоспоримых достоинствах эпистемологического проекта М. Вартофского, надо отметить, что составным его элементом является марксистская идеология. Так, когда исследователь с разоблачительным пафосом указывает, что «на самом деле стилистическое новаторство суть всего лишь недостающая экономическая составляющая [economic desideratum] производства артефактов как меновых стоимостей в рамках особой, специфичной политэкономии современного, движимого рынком, художественного мира», он, по сути, низводит произведения искусства до отражения социально-эко— Вартофский М. Восприятие, репрезентация и формы деятельности: на пути к исторической эпистемологии [1973]/ Модели: репрезентация и научное понимание. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1988. — 206.
Подобную точку зрения ученый высказывал и в сравнительно недавних работах, ср.: «...Формы чувственности выражают культурно и исторически развивающиеся потребности и интересы [человека], с их специфическим и переменным содержанием» (Wartofsky M.W. The Politics of Art: The Domination of Style and the Crisis in Contemporary Art// The Journal of Aesthetics and Art Criticism. — Vol. 51, № 2 [Spring 1993]. — P. 221,
— Wartofsky M.W. Picturing and Representing/ Perception and Pictorial Representation. Ed. C.F. Nodine & D.F.
Fisher. — New York: Praeger Scientific Studies, 1979. — P. 281.
— Wartofsky M.W. The Politics of Art... — P. 220.
номических отношений, как это делала отечественная вульгарно-социологическая критика 1920-1930-х годов. Ср., например: «Там, где буржуазия закончила свою борьбу за власть, где она стала господствующим классом, где она накопила значительные богатства, <...> там искусство повсюду освобождается от религиозных, моральных, гражданских идей, выражает идею наслаждения жизнью и все более уходит в свои специальные формальнотехнические задания».
Известно, что марксистский метод неотделим от абсолютно мифологического, телеологического воззрения и на историю, и на социальную динамику общества, несостоятельность коего была продемонстрирована самой действительностью. Также ясно, что американский автор не в состоянии асторизироватъ сам марксизм — то есть, спроецировать последний в породивший его позитивистский философско-теоретический контекст, лишь в пределах которого он имеет известное историческое значение.
С другой стороны, с позиций социально-исторической критики, о чем справедливо напоминает М. Вартофский, становится очевидной, например, ограниченность подходов к изучению визуальности с позиций гештальт-психологии (известной отечественному читателю по трудам Р. Арнхейма), добровольно замыкающейся в кругу «внутренних проблем» воспринимающего сознания, — равно как и, скажем, антиисторизм культурологии М.Б. Ямпольского. В самом деле: когда Арнхейм проводит детальный формальный разбор, например, «Портрета мадам Сезанн в желтом кресле» П. Сезанна (1888-
90), или «Источника» Ж.-О.-Д. Энгра (1856), он молчаливо предполагает идентичность своего восприятия — и видения художника, невзирая на временную и культурную дистанцию. «Глядя на "Источник", мы ощущаем эффект воздействия формальных средств, значение которых в том, что они делают это изображение жизни целостным и совершенным. Однако мы полностью не осознаем, вероятно, ценности и значения этих средств. Так превос— Фриче В. Социология искусства. Изд. 3-е. — М.-Л.: ГИЗ, 1930. — 30. И в данной книге, и, например, в труде А.А. Федорова-Давыдова «Русское искусство промышленного капитализма» (М.: ГАХН, 1929) концептуальные ходы этакого социологического анализа проведены с несравненно большим остроумием.
ходно они сочетаются в простое и ясное целое, так органически вырастает из содержания композиционная модель, что мы, воспринимая простую природу, поражаемся в то же время глубине и богатству жизненного опыта, которые выражает настоящее произведение искусства». Несомненны искренность исследователя, зоркость и своеобразное изящество его текста. Вместе с тем, представляется очевидным, что работа Арнхейма многое оставляет без внимания: современники Энгра, разумеется, видели его картину иначе. Более того, книга, опубликованная впервые в 1954 году, уже не относится к тому, что можно было бы назвать современным (аналитическим) письмом. Так, отчет Арнхейма не учитывает выраженную во взгляде семиотику желания — и не персональные влечения автора, но знаковую лнбидшалъную экономику.
Именно ее конкретно имеет в виду Н. Брайсон, когда указывает: «Воображаемый репертуар [imagery] желания репрезентирует желание в форме беспокойства, в форме взаимозаменяемых образов, ни один из которых, собственно, не вмещает само желание. .,. Энгр успешно драматизировал движение замещения, которое для него и было сутью желания-в-образе».
Либидинальная экономика занимается аффектами и замещениями, различиями интенсивностей, модальностей, ассамбляжей, тензоров; все это, конечно же, имеет прямое отношение к человеческому видению и его истории.
Далее, если говорить конкретно об «Источнике» Энгра, следует отметить, что живописец применил тут так называемый визуальный код — женская фигура точно повторяет формальный мотив, использованный в таких полотнах, как «Венера Анадиомена» (1848), «Турецкая баня» (1862) и других. Повторение кодированных условностей эстетического дискурса как некий социальный диспозитив остроумно комментирует другой новейший искусствовед: «Болезненные и систематические одновременно, повторения у — Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Сокр. пер. с англ. — М.: Прогресс, 1974. — 152.
Наша нижеследующая критика Р. Арнхейма ни в коем случае не умаляет значения его трудов, например, для художников, интересующихся визуальным эффектом, производимым их произведениями на зрителей.
— Bryson N. Tradition and Desire... — P. 144. Основные положения либидинальной экономики разработал Ж.-Ф. Лиотар {Economic Libidinale, Paris, 1974) — автор, многократно и уважительно цитируемый Брайсоном.
Энгра, как на уровне цикла или темы, так и в деталях (на уровне поверхности), начинают выглядеть работой художника, принудительно включенного в чистый мета-дискурс; это художник, более не отвечающий за свой собственный статус как эффект определенного набора социальных отношений, которые воплощаются в его интенции, — но работающий у самого предела, где его действия, к чему бы те ни были приложены, отнюдь не являются осмыслением таких отношений».
Все вышесказанное может быть продемонстрировано также и на примерах других историко-искусствоведческих экскурсов Р. Арнхейма — в частности, его анализа картины Джованни ди Паоло «Поклонение волхвов» (XV век).6 Постмодернистские теории визуальности. Понимание генеральной стратегии (пост) современного письма как коллажа/ монтажа, а постулируемого сочинителя — как компилятора/ имитатора, проводящего не столько анализ, сколько мимикрию, или симуляцию научного дискурса, свойственно квази-искусствоведческим штудиям М.Б. Ямпольского. Среди опубликованных им многочисленных книг есть несколько, где затрагиваются вопросы визуальной культуры, это: «Демон и лабиринт» (1996), «Наблюдатель» (2000), «О близком» (2001), «Ткач и визионер» (2007). Критик определенно стремится произвести впечатление широтой обозреваемого материала, актуальностью поминаемых теоретических концепций, цитатами «модных» авторитетов и принципиальной непрозрачностью терминологии. Вместе с тем, его опусы лишены элементарной историчности подхода, что делает их своеобразными упражнениями в авторском самолюбовании. Рассматриваемые памятники живописи, архитектуры или беллетристики, как правило, вырываются из породившего их интеллектуального контекста. То же можно сказать и о философских/ эстетических теориях, которые «вклеиваются» в текст без разбора, а подчас произвольно смешиваются: так, Ямпольский не различает
— Rifkin A. Ingres Then, and Now. — London & New York: Routledge, 2000. — P. 129.
— Арнхейм А. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. — М.: Прометей, 1994. — 11-21.
употребление понятия «символическое» у Э. Кассирера, Ч.С. Пирса и Ж. Лакана («Демон и лабиринт»).67 Во введении к другой работе, само название которой заставляет упомянуть ее в рамках настоящего исследования, он пишет: «...История видения отличается от "истории идей" как раз тем, что она существует вне сферы идей». Если физиологическую способность зрения еще допустимо рассматривать «вне сферы идей» (хотя такие понятия, как язык, логика, функция, организм относятся к идеям), то видение неотделимо от понимания и потому является эффектом, возникающим именно в области смыслов, концепций, воззрений. Результатом усилий Ямпольского оказывается как раз переплетение разнообразных литературных, художественных, социальных и научных идей, причем в пределах одной страницы он перескакивает от М. Пруста через Ж. Делеза к Шатобриану (указ. соч., с. 93), или от Ф. Шлегеля через П. Валери и Г. Фюсли — к 3. Фрейду {указ. соч., с. 220). В иной, цитировавшейся выше книге, поминая мимоходом влиятельных критиков современной западной живописи К. Гринберга и М. Фрида, он демонстрирует свою некомпетентность в давней полемике вокруг эстетики модернизма.
Наконец, хронологически последний труд Ямпольского «Ткач и визионер» — амбициозный проект, лишь частично касающийся теоретических — Ямпольский М. Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). — М.: Новое литературное обозрение, 1996. Впервые вводя на с. 79 понятие диаграммы, автор указывает, что термин заимствован из работы Ж. Делеза и Ф. Гваттари «МШе Plateaux» (1980). В ходе нижеследующего рассуждения он упоминает, что имеет дело «с рождением символического из анти-символического, из диаграмматического. ... Процесс этот был описан Эрнстом Кассирером как свойство мифического мышления...» (с. 215). То есть, символическое, порождаемое диаграммой, трактуется в касспреровском смысле, в духе труда «.Die Philosopbie der symbolischen Formen» (1923-29). Между тем, у Делеза и Гваттари диаграммы рассматриваются наряду с индексами, иконами и символами — терминами прагматической логики Чарльза Пирса {Collected Papers, 1931-58); значит, понятие «символическое» имеет совсем другое наполнение. Кроме того, на с. 203 Ямпольский использует концепции Ж. Лакана, в частности, «объект a» («objet petit a»; Le Seminare, 1964) — такой объект принадлежит уже к третьей, вновь совершенно иной, концепции символического.
— Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. — М.: AdMarginem, 2000. •— 10.
— М. Ямпольский пишет: «Фрид вслед за Клементом Гринбергом высказал мнение о том, что живопись модернизма в целом ориентируется на оптическую иллюзию, в то время как популярный в момент публикации статьи минимализм ... якобы отказывается от оптической иллюзии во имя непосредственного присутствия объекта — "объектности"» (О близком... — 131). Подобное заявление свидетельствует о непонимании ситуации. Согласно К. Гринбергу, чья теория ныне признана образцовой, смысл модернизма заключается в вопрошании о свойствах искусства как такового и редукции к его сущностным характеристикам; в случае живописи это -— холст и краска {Modernist Painting, 1960). М. Фрид же критикует минимализм за то, что тот принимает во внимание тело зрителя — то есть, подменяет живопись театром: «искусство дегенерирует, когда приближается к состоянию театра» (Fried М. Art and Objecthood: Essays and Reviews. — Chicago & London: The University of Chicago Press, 1998. — P. 164).
моментов истории живописи. Впрочем, и здесь проявляются свойственные автору черты: так, обсуждая идею репрезентации в искусстве и политике, он, по сути, не делает различия между эстетикой Возрождения, маньеризма и средневековья.
Переходя далее к рассмотрению произведений Рафаэля, он постоянно сбивается на текстуальный образ «Рафаэля», реконструируемый из книг Вакенродера, В. Беньямина, Фр. Ницше (указ. соч., с. 138-158). Подводя итог, можно сказать: опусы Ямпольского суть хаотические наборы разношерстных фрагментов, которые, в лучшем случае, способны подвигнуть внимательного читателя на самостоятельное обращение к цитированным первоисточникам.
При критическом рассмотрении текстов Ямпольского, мы отметили родовые черты постмодернистского письма: пастиш, интертекстуальность, языковые игры, «подвешенность» выводов. Впрочем, к постмодернистскому искусствознанию должно отнести и такого яркого, серьезного и научно безупречного ученого, как профессор Колумбийского университета Р. Краусс.
Вероятно, важнейшее направление изысканий Краусс — критика институционализированной истории/ теории визуальной культуры XX века.
Она исходит из того, что «гринберговское» понимание модернизма («укоренение каждого вида искусства в сфере его компетенции») включает также и особую модель визуальности. «Автономная эстетическая структура» памятника модернистского искусства подразумевает автономию видения — длящийся, или вневременной момент восприятия (что фактически означает отключение темпоральности), абсолютную прозрачность и стабильность перцептивного поля, целостность формы (гештальта), метафизику присутствия.
Против подобной модели Краусс выдвигает, прежде всего, тип визуальности, свойственный массовой культуре и механическому репродуцированию, на7 0
— Ямпольский М. Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или о материальном и идеальном в культуре. — М.: НЛО, 2007. — 78-85. Диалоги Т. Тассо, датируемые концом XVI века, рассматриваются как характерные для ренессансного мышления, — и сюда же приплюсовываются выводы из книги Э Канторовича «Два тела короля» (1957), посвященной «средневековой политической теологии».
ходя апелляцию к таковому у крупнейших мастеров модернизма (М. Эрнст, М. Дюшан, П. Пикассо). Далее, исследователя интересует визуальность сна, используемая некоторыми сюрреалистами; как и при публичном лицедействе, зритель захвачен переживанием иллюзии, но в глубине сознания ощущает себя только сторонним свидетелем спектакля. Это объединяет переживание «изнутри» с переживанием «снаружи» и создает, согласно Краусс, особый пульсирующий ритм видения: тот направлен против целостной формы и связан с желанием — «...желанием, которое создает и теряет одним и тем же жестом, жестом, постоянно теряющим то, что только что нашел, потому, что он нашел всего лишь то, что уже потерял».
Абстрагированное видение и рациональный гештальт в модернизме подрываются также скрытым воздействием телесного, эротического компонента на человеческое восприятие. Краусс определяет его как «оптическое бессознательное» (термин В. Беньямина, дополнительно эксплицированный у Ж.-Ф. Лиотара) и обнаруживает в произведениях Дали, А. Джакометти, Г. Беллмера. «Анти-модернистская» визуальность имеет прерывистый характер: она проявляется как ритм, биение, пульсация, отражает переживание одновременности несоединимых ситуаций. Тут художники использовали визуальные техники, возникшие в сфере массовых развлечений рубежа XIX-XX веков — это предтечи кинематографа праксиноскоп, стереоскоп и другие.
«Фокусируясь одновременно и на бессознательной почве желания, и на его медиальной форме, иными словами, на его связи с механическим воспроизведением, художники "оптического бессознательного" были увлечены формами бытования массовой культуры. ... Пульсация, производимая всевозможными устройствами, могла пониматься не как структурно отличная от "видения", но как оперирующая изнутри него. [Художники] приветствовали такую пульсацию как силу, которая могла разрушить самое понятие "опреде71
— Krauss R.E. The Optical Unconscious. — Cambridge, Mass. & London: The MIT Press, 1994. — P. 216. Порусски существует издание ранних статей автора: Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. Пер. с англ. А. Матвеевой, К. Кистяковской, А. Обуховой. — М.: Художественный журнал, 2003.
ленности", на коем основан модернизм». Вот и Пикассо, доказывает Краусс, в поздней эротической графике использовал (быть может, бессознательно) мультипликационную серийность, где техника демонстрации «мерцающего» образа важнее, чем конечный результат: «листая [рисунки], от одного к другому, мы наблюдаем незначительные анатомические сдвиги, набухания, — складывается картина не исследования идеи развития, но, скорее, наблюдения динамики жестов». Хотя ряд фигур, обсуждаемых Краусс, выходят за хронологические и национальные рамки нашего проекта, многие ее наблюдения представляются ценными и плодотворными.
Одна из наиболее оригинальных постмодернистских теорий визуальности, отражающая роль образа и света, технологии и скорости в эволюции оптических режимов, принадлежит французскому философу и социологу, профессору архитектуры Полю Вирилио. Он констатирует переход от видения — к визуализации в знаковой репрезентации реальности: «По мере того, как человеческий глаз застывал, терял данные ему от природы быстроту и чувствительность, скорость [фотографической. — А.К.] фокусировки, наоборот, неуклонно росла».
Согласно предлагаемой ученым классификации, следует разделять формальную логику образа (искусство «старых мастеров»), диалектическую (фото/ кино) и парадоксальную, связанную с эрой видео и «закатом логики репрезентации».
Кратко рассмотрев историю освещения в Европе на примере Франции (любопытно его упоминание о том, что «импрессионистами» первоначально называли устроителей иллюминации, пиротехников), Вирилио приходит к
— Ibid. — Р. 225 (пульсация), 229 (Пикассо). Эффективно обращение автора к анализу техник механической репродукции (фотографии) и при рассмотрении целых артистических движений — например, сюрреализма. См.: «Фотографические условия сюрреализма»/ Краусс Р. Подлинность авангарда... — 91-122.
— Мы будем придерживаться именно такой транскрипции имени Virilio; она избрана переводчиком первой русской книги ученого: Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. Пер. с франц. И. Окуневой. — М.: Прагматика культуры/ Гнозис, 2002. Однако, в опубликованном в Петербурге довольно малоудачном переводе А.В. Шестаков предпочел иную транскрипцию: Вирильо П. Машина зрения. — СПб.: Наука, 2004. Автору этих строк пр1Гходилось встречать и совсем уж сомнительный вариант: «Вирилье».
— Вирильо П. Машина зрения... — 30. В числе, увы, многочисленных претензий к данному переводу — смешение «зрения» и «видения» как в названии книги La machine de vision, так и далее по тексту, а также — и утрата отсылки к фотографии в приведенной цитате. Кроме того, А.В. Шестакову не мешало бы знать, что non-finito — не «бесконечное» (с. 34), а «незаконченность, незаконченное», термин эстетики барокко.
выводу о возрастающей роли света в визуальной культуре Нового времени {modernity) — в частности, в живописи. «Образ создается светом», поскольку оптические механизмы вытесняют тело художника. Переломным моментом в этом процессе оказывается появление кино, которое автор именует «не публичный образ, но публичное освещение». Скорость света, важная для проекции, отвечает тенденции по ускорению обработки информации, где от слова переходят к изображению {message —> image). Увеличение скорости приводит к смене метафоры поведения человека в неисследованной среде — от корабля к самолету (это связано с итальянским футуризмом). Самолет/скорость делает различия между «здесь» и «там», настоящим и будущим «всего лишь зрительной иллюзией». Художник в XX веке утрачивает монополию на образ, а далее, предсказывает философ, человек может утратить монополию на видение: виртуальные образы будут производиться и считываться машинами.
«После синтетических образов, продуктов инфографической машины, после цифровой обработки образов при помощи компьютера, наступило время синтетического зрения, время автоматизации восприятия. <...> ...Восприятие компьютерными средствами, визионика, уже не представляет нам возможности обнаружить свидетелей, разгадать это зрение без взгляда».
Если в своих рассуждениях о «первенстве изображения над изображаемой вещью» и «разрешении [resolution] присутствия вещи в реальном времени» автор «Машины видения», в общем, повторяет то, что ранее сформулировал Ж. Бодрийар в чрезвычайно влиятельной теории «симуляции» и «гиперреальности», то, вероятно, подлинно оригинальным у Вирилио является остроумное предположение о роли скорости в видении и интерпретации реальности. «...Свойство абсолютного перешло от материи к свету — и прежде всего, к его предельной скорости. Таким образом, видеть, понимать, измерять и тем самым осмыслять реальность позволяет не столько свет, сколько быстрота его распространения. Скорость отныне способствует не просто движе7 5
— Там оке. — 111-112. «Инфографика» = компьютерная графика.
нию, но главным образом видению и более или менее ясному постижению».
И далее, в полном соответствии с логикой деконструкции, философпостмодернист доказывает, что «...в структуру грядущей машины зрения заложена слепота. Что такое производство видения без взгляда, если не воспроизводство интенсивного ослепления? Ослепления, являющегося сутью новой, заключительной фазы индустриализации — индустриализации не-взгляда».
То есть: видение в постмодернистском теоретическом дискурсе оказывается не более чем частным случаем слепоты.
Возможность археологического проекта. Мы начали с установления исходной возможности видения, а в итоге пришли к слепоте, о которой упоминал Жак Деррида. «...Мы все тем более слепы для глаза другого, чем более другой показывает себя способным к видению, чем более мы можем обменяться с ним взглядом, или разделить [его] видение», — пишет тот.77 На предыдущих страницах были рассмотрены различные концепции визуальности и их отношение к искусству; разумеется, этот перечень не претендует на исчерпывающую полноту — он ограничен трудами, непосредственно использованными в настоящем исследовании, или повлиявшими на его проект.
Тем не менее, даже и выборочный критический анализ позволяет сделать вывод, что научный поиск в данной области не привел к однозначному заключению. Умножение сменяющих друг друга окулоцентрических дискурсов, визуальных режимов и техник, различия между видением и взиранием в их несхожем позиционировании наблюдателя, взаимовлияние концепций видения и творческих практик — все это, в приложении к исторически конкретному художественному материалу, как представляется, создает условия для обоснования такой дисциплины, как археология визуалъности. Наши «археологические раскопки» производились преимущественно на ниве отечественной живописи XIX — начала XX века.
— Там же. — 129 (скорость), 132 (слепота; курсив в оригинале).
— DerridaJ. Memoirs ofthe Blind. . . — P . 106.
Возможность данного проекта открывается в теоретическом пространстве, где допустимо сосуществование, по крайней мере, нескольких равноправных, альтернативных историй русской культуры и искусства. К примеру, это может быть эволюция европейских стилей (категорий чувства формы, вельфлиновских «основных понятий») на национальной почве; символизация в конвенциональных знаках репрессированных исторических форм желания (психоаналитический подход); история эстетических дискурсов — «цепей и серий означающих», развивающихся по закону бинарных оппозиций (структуралистская модель); или же история уровней интенсивности света и метафорических порогов скорости («дромология» Поля Вирилио). Все они в той или иной степени относятся к термину искусство в устойчивом словосочетании «визуальное искусство». Согласно логике, должно было появиться историко-теоретическое рассмотрение и первого термина данного, выражаясь аналитическим языком, «нежесткого десигнатора».
Обзор литературы включал лишь те исследования, которые непосредственно повлияли на диссертационное исследование. Мы убедились, что вопросы визуальности в отношении к изобразительному искусству составляют предмет рассмотрения ряда видных современных теоретиков — как в нашей стране, так и за рубежом. Вместе с тем изучение данной проблемы, можно сказать, началось сравнительно недавно и находится на таком этапе, когда возможны значительные потрясения, существенные методологические сдвиги. Вероятно, это справедливо, в первую очередь, по отношению к науке об отечественном искусстве, где лишь в последние годы сложилось осознание необходимости использования новейших подходов и стратегий. Поэтому можно сказать: появление любого исследования, проблематизирующего ту или иную новую тему, означает, что ответ на формулируемые вопросы уже назрел. Определенные упрощения и «слепые пятна» подчас оказываются необходимым эффектом при использовании нетрадиционных, трансгрессивных гипотез. «Возникает глубокое, хотя и нелегкое, прозрение о природе литературного языка, — заметил по сходному поводу Поль де Ман. — Впрочем, кажется, что это прозрение могло быть достигнуто лишь постольку, поскольку критики оказались в плену некоей особой слепоты: их язык смог продвинуться к какой-то степени прозрения лишь потому, что метод их оставался слепым к восприятию такого прозрения». «Окулоцентрическая» метафора в нашем случае вполне уместна.
Ориентируя исследовательский проект на методологию М. Фуко, нельзя упускать из виду эволюцию взглядов ученого. Пересматривая, модифицируя собственный археологический подход, в зрелых работах тот писал о необходимости обратить или «вывернуть наизнанку» созерцательный, дистанцирующий взгляд традиционного исторического анализа. «Действительная история ... смотрит на то, что ближе всего — на тело, нервную систему, на пищу и пищеварение, на разные виды энергии... <...> У истории есть занятия более достойные, чем быть служанкой философии и рассказывать о необходимом рождении истины и ценности; она должна быть различающим знанием степеней и качеств энергии и бессилия, высот и падений, ядов и противоядий. Она должна быть наукой о лекарствах». Так Фуко обосновывал переход от археологии к генеалогии: в отличие от абстрагирующего взгляда, свойственного более ранним трудам, философ позже пришел к конкретике телесных/ социальных практик, механизмов объективации, микрофизики власти. В нашем случае, думается, эмпирический материал искусства, являющийся не абстрактной данностью, но результатом творческой деятельности (со всеми ее социальными и культурными предпосылками), будет служить постоянно действующим корректирующим фактором. Это позволяет сохранить термин «археология», имея в виду определенные усилия по рекон78
— De Man P. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. 2" ed., rev. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983. — P. 106.
— Фуко M. Ницше, генеалогия, история [1971]. Пер. В. Каплуна.// Ступени: Петербургский альманах. — 2000. — №1. — 113-114.
струкции исторически сложившихся (и знаково опосредованных) конфигураций визуальности, видения художниками окружающего мира и себя в нем.
Структура диссертации. Диссертация не является ни историческим очерком эволюции русского искусства (пусть даже строго ограниченного периода), ни последовательной историей визуальности. Задачей является, скорее, экспликация и апробация метода. Поэтому постоянно меняются и масштаб, и даже предмет непосредственного внимания. От чисто «археологического раскапывания» конкретного феномена — исторически существовавшего, но «забытого» способа видения/ понимания произведения искусства (в 1- ой главе) исследование переходит к рассмотрению условий, сделавших возможным само понятие репрезентации, вкупе с определенными теоретическими экскурсами (2-я глава). Горизонт обзора при этом существенно расширяется, что, с другой стороны, приводит к неизбежным генерализациям и отказу от частных деталей. Затем более подробному изучению подвергается ряд отдельных художественных проблем и конструктов, которые выявляет археология; они представляются узловыми для анализируемого исторического периода; это такие моменты, как: видение/ зрение, глаз, тело, элитарная/ массовая культура, органика — техницизм и другие (3-я и 4-я главы). Сознательно наложенные ограничения касаются, прежде всего, материала и хронологии: избрана русская живопись XIX - начала XX столетия (в ряде случаев, для прояснения картины, пришлось обратиться к более ранним эпизодам).
Естественной границей исследования оказался кризис репрезентации в процессе творческих поисков модернистов рубежа веков и программное закрытие визуальности как следствие редуктивистской интенции авангарда — переход к жизнестроению в искусстве первой трети XX века (5-я глава).
Творческое конструирование перцептивных форм свободно от зеркального отражения окружающей действительности, поэтому такие формы относительно независимы. Они влияют на жизненную практику как репрезентация возможностей, выходящих за рамки сегодняшней реальности. Подчас помимо собственного интенционального смысла, искусство помогает человеку догадаться о том, что превосходит его исторически заданный горизонт — открыть/ восстановить другие способы смотрения.
Научно-практическая значимость. Материалы и выводы диссертации могут послужить при построении интегральной картины развития отечественной визуальной культуры XIX — XX веков как части международного процесса. Они должны способствовать введению в научный обиход ряда теоретических концепций, адекватных современному уровню зарубежного эстетико-теоретического дискурса. «Археологическое» исследование способно представить в новом свете ряд традиционных артефактов; в неких случаях (например, при трактовке произведений, воплощающих пост-визуальный
подход) оно предоставит уникальную возможность оценить художественное новаторство и адекватно понять авторский замысел. Это необходимо, в том числе, для музейной работы по собиранию и изучению памятников модернистского и постмодернистского творчества. Кроме того, диссертация может быть использована в лекционных курсах и семинарах — как по истории русской живописи XIX — XX столетий (это было апробировано автором), так и по методологии аналитических подходов к визуальному творчеству («изначальная перцепция», абсорбция, критика визуального знака, стратегия «желающего глаза») — на специальных искусствоведческих факультетах, в историко-культурных программах гуманитарных высших учебных заведений.