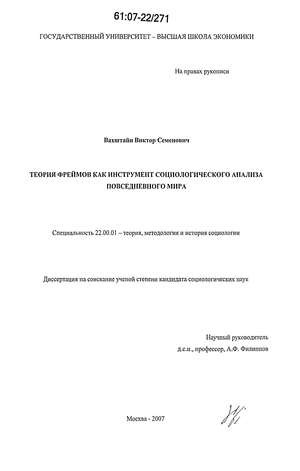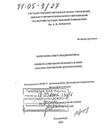Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. «ПРАКТИКА» VS. «ФРЕЙМ»: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОВСЕДНЕВНОГО МИРА 15
1.1. Практико-ориентированная социология повседневности: основания,ограничения, альтернативы 16
1.1.1. Философские основания практико-ориентированной социологии повседневности: влияние Д. Юма 16
1.1.2. Преодоление классических дихотомий как максима практико-ориентированной социологии: идея «практического чувства» 19
1.1.3. К критике «практики»: деконтекстуализация повседневного действия .23
Иллюстрация 1. Практики власти у М. Фуко 26
Иллюстрация 2. Практики классификации самоубийств в исследовании Г. Гарфинкеля 27
Иллюстрация 3. Социальное действие, понятое как практика 28
1.1.4. Теоретические импликации: «здесь-и-сейчас-социология» 31
1.2. Теория фреймов: к социологической концептуализации повседневного контекста 34
1.2.1. Лингвистические и социологические теории фреймов 34
1.2.2.0снования социологической теории фреймов 36
1.2.3. Аналогии фреймов: граница множества ирама картины 40
1.3. Две дефиниции контекста: «контекст как фон» и «контекст как форма» 42
1.3.1. Метафора «фигуры и фона»: контекст как фоновая практика 42
1.3.2. Между фигурой и фоном: контекст как форма 47
Результаты первой главы 53
ГЛАВА II. СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И. ГОФМАНА: ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРИИ ФРЕЙМОВ 55
2.1. Теоретическое наследие Ирвинга Гофмана: два прочтения 55
2.1.1. Социальная драматургия и символический интеракционизм 57
2.1.2. Понятие «определения ситуации» как концептуализация контекста 60
2.1.3. Структуралистская ревизия работ И. Гофмана 63
2.2. Замысел, проблема и категориальный аппарат теории фреймов И. Гофмана 68
2.2.1. Проблема и категориальный аппарат «Анализа фреймов» 69
2.2.2. Фрейм-анализ как теория относительности «повседневного» 74
2.2.3. Критика теории фреймов 77
2.3. Анализ фреймов повседневного обихода науки: И. Гофман как «неудобный классик» социологии 82
2.3.1. Рецепция vs. Репрезентация 84
2.3.2. Неудобная классика и наследие Ирвинга Гофмана 89
2.3.3. Метафорическая концептуализация: переключение «переключения» 91
2.3.4. Неудобная классика как теоретический ресурс: стратегии презентации..94
2.3.5. Феномен аппрезеитации и социология повседневного обихода социологии.98 Результаты второй главы 107
ГЛАВА III. АНАЛИЗ ФРЕЙМОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СОБЫТИЯ 109
3.1. Аналитическая социология повседневности 109
3.1.1. Объективирующая дистанция и парадокс анализа повседневности 111
3.1.2. Мотив представления «своего» «иным»:условия проблематизации повседневного мира114
3.1.3. Наблюдение - событие - фрейм 116
3.2. Анализ фреймов события повседневного жеста 119
3.2.1. Обыденный жест как предмет аналитического рассмотрения 120
3.2.2. Событие как знак. Логика сигнификации 122
3.2.3. Событие как знак. Проблема нетранзитивности 125
3.2.4. Логика сигнификации как семиотическое основание фрейм-анализа 130
3.3. К аналитике физического контекста 134
3.3.1. Вещность фрейма 134
3.3.2. Логика материального. Физическая контекстуализация события 136
3.3.3. Логика материального и аналитическая социология повседневности 144
3.4. Теория фреймов об элементарном составе повседневности 146
Результаты третьей главы 151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 153
ЛИТЕРАТУРА 158
- Философские основания практико-ориентированной социологии повседневности: влияние Д. Юма
- Критика теории фреймов
- Событие как знак. Проблема нетранзитивности
Введение к работе
Современная социологическая теория находится в ситуации осмысления процессов стремительной и непрерывной трансформации социального мира. Глобализация, размывание национальных границ, развитие технологий коммуникации, элиминация старых и возникновение новых социальных тождеств и различий бросают вызов социологии, традиционно полагающей себя «наукой об обществе». Впервые за многие десятилетия в социальной теории разгорается спор о том, возможна ли вообще подобная самоидентификация социальной науки и не лишает ли век глобализации социологию ее предмета - общества, понимаемого как социальная реальность sui generis1.
На фоне этих дискуссий о «глобальном мире» растущий интерес к повседневности кажется парадоксальным. И, тем не менее, в последнее десятилетие мы наблюдаем «ренессанс социологии повседневности». Об этом парадоксе неоднократно писали как западные (Н. Элиас [Элиас2001], Б. Вальденфельс [Вальденфельс 1991], А. Лефевр [Lefebvre 1987]), так и отечественные авторы (В.В. Волков [Волков 1997], А.С. Панарин [Панарин 2004], Н.Н. Козлова [Козлова 1992]).
Возвращение повседневности в качестве предмета социологического осмысления проявляется в отказе от апелляций к социетальным структурам и процессам, в акцентировании повседневной «укорененности» социальной реальности, в переходе от интуиции «вечного, тотального и всепроникающего Общества» к интуиции «подвижной и свободно координируемой повседневной интеракции». Неслучайно в последние несколько лет переведенными на русский язык (и, судя по интенсивности цитирования, востребованными) оказались теоретики, уделяющие первоочередное внимание именно повседневным взаимодействиям, обыденным рутинным практикам и феноменам «жизненного мира». В их числе А. Шюц, П. Бурдье, Г. Гарфинкель, Э. Гидденс, И. Гофман, М. Фуко.
Каким образом логика исследований глобального мира сочетается с логикой изучения повседневности? Почему поворот к феноменам «метаобщественного» порядка в современных теориях глобализации совпадает с обращением социологии к повседневности, к элементарному уровню социальности?
Этот спор находит отражение в работах таких влиятельных современных теоретиков как Э. Гидденс [Гидденс 2003], 3. Бауман [Bauman 2002], Дж. Урри [Urry 2000], А. Турен [Турен 1998], [Турен 2004], Й. Элстер [Elster 1990] и Б. Латур [Latour 1999]. В отечественной социологической литературе продуктивная и исчерпывающая критика попыток такого рода ревизии предложена А.Б. Гофманом [Гофман 2005]. 2 Дотеоретическая «интуиция» предполагает некоторое понимание предмета исследования, предшествующее его собственно теоретическому осмыслению. Интуиция составляет «нелогическое ядро логически выстроенной теории» (К. Поппер). Более подробно о роли дотеоретической интуиции в социологическом теоретизировании: [Филиппов 2003], [Филиппов 2004].
Один из возможных ответов состоит в подозрении, которое бросает на идею общества современная социокультурная ситуация. Размывание территориальных границ, формирование общей информационной среды, унификация норм и стандартов жизни делают проблематичным то, что с конца XIX столетия и до недавнего времени оставалось аксиомой социологии - неколебимость общества как самостоятельной суверенной реальности.
Социология вынужденно адаптируется к такой трансформации своего предмета. Социальной теории, чтобы преодолеть разрыв между базовыми социологическими концептуализациями и стремительно трансформирующимся предметом исследования, приходится прибегнуть либо к радикальному переосмыслению этого предмета («переопределить общество»), либо произвести рефокусировку своего исследовательского интереса («уйти от общества»).
Первое решение предложено и развито Никласом Луманом. Он решительно и последовательно опровергает правомерность апелляций к традиционному пониманию «общества». Исходный вопрос его теоретических построений: каковы основания демаркации, позволяющие провести различие между обществом и «не-обществом»? Иными словами, где социальной теории следует искать источник дефиниции своего предмета?
Анализируя классические ответы на эти вопросы, он приходит к выводу: «господствующее ныне понимание общества» покоится на «взаимосвязанных аксиоматических предположениях», а именно, на предположениях, что:
«...- общество состоит из конкретных людей и из отношений между людьми;
общество, следовательно, конституируется, или хотя бы интегрируется благодаря консенсусу между людьми, благодаря согласованию их мнений и дополнительности их целе-установок;
общества, будто бы, являются региональными, территориально-ограниченными единицами, так что Бразилия представляет собой какое-то другое общество, нежели Таиланд, а США - является иным, отличным от России обществом, но тогда и Парагвай, конечно, является обществом, отличным от Уругвая;
поэтому такие общества, как группы людей или как территории, можно наблюдать извне» [Луман 2004:23].
Эти аксиомы предписывают социологии одновременно «гуманистическую» (дефиниция от индивидов) и «региональную» (дефиниция от территории) трактовки своего предмета. Обе эти интерпретации, по Луману, несостоятельны. Общество не может быть понято ни как «общество индивидов», ни как «общество-государство».
Пытаясь «вывести» общество из людей, его, якобы, образующих, социология наталкивается на противопоставление «реализма/номинализма» и оказывается не в состоянии ответить на вопрос, что именно превращает людей в общество. Чтобы избежать ловушки этой ложной дихотомии, преследующей социологию на протяжении всей ее истории, необходимо «рассматривать человека в его целостности, с его душой и телом, как часть окружающего мира системы общества», иными словами, вообще исключить его из рассмотрения [Луман 2004: 27]. Общество, таким образом, должно пониматься как «общество без индивидов». Ведь «общество не весит столько же, сколько весят все вместе взятые индивиды, и не меняет свой вес с каждым рождением и каждой смертью отдельного индивида» [Луман 2004: 23]. Формула «Общество = /(Индивиды)» несостоятельна, какой бы ни была функция «f». Ни общественный договор, ни врожденная солидарность, ни принуждение социальных институтов, взятые в качестве «функции от индивидов», не дадут исследователю дефиниции общества.
Столь же очевидные, по мнению Лумана, возражения свидетельствуют и против территориально-ориентированных регионалистских определений. Лумановская критика здесь близка современной критике, предложенной в теориях глобализации: «Всемирные взаимозависимости сегодня больше, чем когда-либо прежде, проникают во все конкретные области общественного процесса... "информационное общество" децентрализовано, но связно во всемирном масштабе благодаря своим сетям...» [Луман 2004: 27].
«Гуманистические и региональные (национальные) понятия общества уже не способны отвечать потребностям теории; - заключает Луман, - их жизнь продолжается всего лишь благодаря словоупотреблению. Тем самым, современная социологическая теория оставляет ощущение раздвоенности, выглядит двуликим Янусом: она использует концепции, еще не разорвавшие связь с традицией, но уже делает возможными вопросы, которые могли бы взорвать рамки последней» [Луман 2004: 27]. Чтобы сохранить идею общества как основную концептуализацию социологии, Луману приходится с одной стороны избавляться от «индивидов» в ее определении, с другой - формулировать «теорию систем как основание теории общества, таким образом, чтобы в определении границ общества она не зависела от пространства и времени». (В этом отношении Луман подобен роялисту, замышляющему покушение на правящего, но немощного монарха во имя спасения самого института монархии.)
Мы не будем подробно рассматривать альтернативное определение общества, разработанное в концепции Никласа Лумана. Предложенное им решение (опирающееся на понятия коммуникации, самореферентности и аутопойетической системы) не является
принципиальным для дальнейшего нашего рассуждения. Луман нас интересует лишь как чрезвычайно чуткий теоретик, по-своему отреагировавший на вызовы, которые современность адресовала классическим социологическим концептам. Другое упомянутое выше решение - радикальный отказ от понятия «общества», стремление сохранить индивидов, пространство и время в фокусе социологического исследования даже ценой забвения центрального социологического концепта - является реакцией на сходные вызовы современности. Как справедливо замечает А.Б. Гофман: «Перспектива существования "социологии без общества" уже не кажется странной или маловероятной. Более того, она иногда прямо прокламируется, и призывы отказаться от понятия общества в социологии раздаются все чаще» [Гофман 2005: 20]. Впрочем, в отличие от А.Б. Гофмана мы не ставим своей задачей критический анализ подобного рода ревизии центральной социологической концептуализации. Наш вопрос иной: каким образом факторы, обуславливающие эту ревизию, способствуют актуализации социологии повседневного мира?
Среди тех, кто наиболее последовательно выступает за отказ от категории общества в социологии, следует отметить британского социолога Джона Урри. В его работе «Социология за пределами обществ. Мобильности двадцать первого столетия» сформулирована масштабная программа пересмотра повестки дня социологии, которая утрачивает претензии на объяснение «социального как общества» и предпринимает попытки его новой концептуализации (в частности, посредством понятия «мобильности») [Urry2000:18].
Любопытно, что центральная критическая интенция Урри, направленная против традиционного понимания «общества» в социологии, совпадает с критической интенцией Лумана. Но Луман приходит к выводу о необходимости переопределения общества, Урри же предлагает предать забвению это отжившее понятие и произвести «рефокусировку» социальной теории - отвлечься от уровня социетальной организации с тем, чтобы обнаружить взаимосвязь глобального и локального, макросоциального и повседневного. Эта рефокусировка заставляет социологию искать свой предмет «по ту сторону» понятия общества. Такое переосмысление предмета стимулирует поиск новых концептуализации либо в области глобальных феноменов, либо, напротив, в сфере элементарных социальных образований и повседневных взаимодействий.
Именно здесь, на наш взгляд, следует искать причины обнаруженного парадокса одновременной актуализации социологии повседневности и теорий глобализации. Теоретический пафос концепций глобализации не противоречит основным интенциям
теорий повседневности, однако и логика глобального мира и логика мира повседневности противостоят логике социетального.
Для теоретиков социетального подхода само общество (традиционно мыслимое в границах государства) является исходной точкой анализа. Для социологов повседневности оно, напротив, представляет собой не условие, а искомое решение задачи. Задача же состоит в том, чтобы отыскать в кажущемся хаосе повседневных взаимодействий основания социального порядка. «Общество», со всеми его «институциональными матрицами» и «структурными образованиями», более ничего не объясняет, оно само должно быть объяснено в перспективе интерсубъективной реальности повседневного мира. Актуальность социологических исследований повседневности как раз и определяется открываемыми ими перспективами решения данной проблемы.
Тем не менее, социология повседневности на сегодняшний день представляет собой становящуюся дисциплину: ее теоретические ресурсы четко не определены, не сформировался консенсус в отношении центральных категорий. Концепты социологии повседневности - «практика», «повседневное взаимодействие», «порядок интеракции», «социальная ситуация», «фрейм» - не образуют единого понятийного пространства. Хотя каждый из них схватывает отдельные специфические черты обыденного социального мира, как предмета социологического исследования, до окончательного формирования социологии повседневности в статусе самостоятельной дисциплины далеко, а потребность в кодификации ее теоретических ресурсов очевидна. Требует более четкой концептуальной разработки и базовая категория данной области знания - категория «повседневного мира». (Основные спецификации этого концепта будут выявляться нами по ходу исследования; пока же ограничимся теми определениями повседневного мира, которые мы находим в работах Альфреда Шюца и Ирвинга Гофмана: повседневность как уровень элементарных порядков интеракции лицом-к-лицу [Гофман 2002], [Гофман 2000] обладающий собственной организацией и когнитивным стилем [Шюц 2003]).
Впрочем, кодификация всех релевантных теоретических ресурсов дисциплины -цель, слишком масштабная для диссертационного исследования. Наша цель скромнее: обратившись к одной из наименее представленных в отечественном социологическом дискурсе теории повседневного мира - теории фреймов - эксплицировать ее базовую аксиоматику, оптику и логику исследования, указать на потенциал использования отой логики в исследованиях повседневности. Соответственно, объектом предлагаемого диссертационного исследования является социология повседневности как область фундаментальной социальной теории, предметом - концепция фрейм-анализа.
В России, видимо, в силу обозначившегося ренессанса социологии повседневности, эмпирические исследования повседневного мира постепенно внедряются в социологическую практику. Особо здесь стоит отметить усилия петербургских исследователей из Центра независимых социологических исследований [Бредникова, Воронков 1999] [Соколов 2005], [Паченков 2006], [Бредникова 2005], работы представителей «качественной социологии» [Ковалев, Штейнберг 1999], а также отдельные яркие находки в области так называемых «culture studies» [Гавришина 1998], [Козлова 1992]. Однако собственно разработка идей социологии повседневности в направлении фрейм-аналитических исследований - исследований архитектоники повседневных контекстов - остается редкостью. Отчасти такое положение дел обусловлено слабой известностью в среде российских исследователей работ «позднего» Ирвинга Гофмана, написанных им в последнее десятилетие жизни (1972 -1982).
Теоретические исследования Гофмана стали известны в России уже после его смерти. До недавнего времени, благодаря переводам А.Д. Ковалева и В.Г. Николаева, на русском языке были доступны его ранние работы - «Представление себя в повседневной жизни», «Стигма», «Клиники» (фрагменты). Позднее, под редакцией СП. Баньковской, было переведено его президентское послание к Американской Социологической Ассоциации («Порядок взаимодействия»). Наконец, в 2003 г. под редакцией Г.С. Батыгина на русском языке вышел основной труд Гофмана - «Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта». В «Анализе фреймов» становится очевидным отказ И. Гофмана от разработанного им ранее «драматургического подхода» и открывается новая аналитическая перспектива исследований повседневного мира. Однако имя Гофмана в российском социологическом дискурсе по прежнему стойко ассоциируется с идеей «социальной драматургии» - идеей, развитой лишь в одной, самой первой его книге (см. [Иоиин 1994], [Голосенко 1996], [Кравченко 1997], [Ковалев 2000], [Ковалев 2002]; альтернативные взгляды на социальную теорию Гофмана предложены Г.С. Батыгиным [Батыгин2003], И.Ф.Девятко [Девятко 2003], Е.И.Николаевой [Николаева 1996], [Николаева 1997]).
В то же время, если историко-теоретический интерес к работам Ирвинга Гофмана как в России, так и за рубежом3 становится стимулом к новым исследованиям его творчества, то работы, нацеленные на использование теоретического потенциала фрейм-анализа для решения актуальных задач социологии повседневности, в российской социологической литературе крайне малочисленны. (Немногие примеры - [Девятко 2003],
3 Одних только англоязычных работ, посвященных творчеству Гофмана, в период с 1960-го по 2005-й год было издано около пятисот.
[Волков 1997].) Это положение дел резко контрастирует с тем, как используется теоретическое наследие Гофмана в западной социальной науке, где обращение к нему стимулируется чаще всего именно попытками заимствования и развития аналитической схемы теории фреймов, а не ее интерпретацией. Примеры, заслуживающие в этой связи особого внимания: использование фрейм-анализа в когнитивной социологии Э. Зерубавеля [Zerubavel 1991], разработка понятия фрейма в теории «прагматических режимов интеракции» Л. Тевено [Thevenot2001], фрейм-аналитические техники в конверсативном анализе [Schegloff 2000] и этнометодологической практике [Maynard 2000], концептуализация фрейма как материального контекста в акторно-сетевом подходе Б. Латура [Latour 1996] и М. Каллона [Callon 1986]. В российской же исследовательской практике теоретический ресурс фрейм-анализа остается в значительной степени неиспользованным.
Таким образом, мы можем выделить четыре группы источников, релевантных для нашего исследования и отражающих глубину проработки темы.
В первую группу входят работы самого И. Гофмана и авторов, чьи идеи были задействованы им при разработке концепции фрейм-анализа [Бейтсон 2000], [James 1950], [Gurwitch 1964], [Шюц 2003], [Витгенштейн 1994]. Это «твердое ядро» используемых в исследовании источников.
Вторую группу релевантных текстов образуют работы по социологии повседневности, задающие контекст теории фреймов, - без обращения к ним невозможна кодификация фрейм-анализа. Это, прежде всего, исследования П. Бурдье [Бурдье 2001], [Бурдье 1994], [Bourdieu 1977], Г. Гарфинкеля [Garfmkel 1967], [Garfinkel 2002] и Э. Гидденса [Гидценс 2003].
Третья группа источников наиболее многочисленна. Сюда входят все релевантные интерпретации теории фреймов, служащие основанием нашего историко-теоретического анализа, а также критика работ И. Гофмана. Значимые для нашего исследования тексты западных комментаторов представлены в фундаментальных сборниках [Erving Goffman 2000], [Goffman's legacy 2003]. Из исследований отечественных авторов, посвященных творчеству И. Гофмана, сюда входят уже упомянутые выше работы [Ковалев 2000], [Ковалев 2002], [Батыгин 2003], [Девятко 2003], [Николаева 1996], [Николаева 1997], [Ионин 1994].
Наконец, четвертая группа релевантных текстов - это работы, используемые для развития отдельных идей фрейм-анализа, работы непосредственных учеников Гофмана [Zerubavel 1991], его критиков [Denzin, Keller 2000] и тех авторов, чьи тексты помогли «отточить» исследовательские инструменты, предлагаемые теорией фреймов. В
частности, работы Б. Латура [Latour 1999], а из отечественных авторов - А.Ф. Филиппова [Филиппов 2003], [Филиппов 2005].
Сформулированная выше цель требует решения трех исследовательских задач.
1). Задача кодификации. Необходимо определить то место, которое теория фреймов занимает в ряду теоретических ресурсов современной социологии повседневности, вывить ее идейные истоки, аксиомы, предлагаемую логику исследования и отношение к другим социологическим концепциям повседневного мира. Это задача предварительного упорядочивания понятийного пространства социологии повседневности, не решив ее, невозможно ответить на вопрос о теоретическом контексте фрейм-анализа как формы аналитического социологического исследования.
2). Задача историко-теоретической реконструкции. Среди всех теоретических построений, созданных с использованием понятия «фрейм» и близких ему концептуализации, теория фреймов Ирвинга Гофмана занимает особое место. Именно благодаря усилиям Гофмана концепт «фрейм» вошел в словарь социологической науки, а идеи фрейм-анализа стали использоваться для исследования архитектоники повседневных контекстов. Решение данной задачи предполагает анализ словаря теории фреймов И.Гофмана, выявление ее основных концептов и их реконструкцию в пространстве многочисленных интерпретаций, или - если воспользоваться выражением самого Гофмана - их теоретическую «пересборку» (reassembling).
3). Задача концептуализации. Было бы ошибкой ограничиваться исторической реконструкцией теории и указанием на ее место в пантеоне иных, родственных ей построений. Для того чтобы вернуть теорию в «живое настоящее» дисциплины необходимо произвести повторную концептуализацию ряда ее категорий, обозначить перспективы развития и - что особенно важно - возможности ее использования в «прикладном теоретизировании». Данная задача требует не только аналитической переработки теории и ее развития в направлении большей операционализируемости понятий, но и «обогащения» ее новыми ресурсами современной социологии повседневности.
Три задачи исследования тесно взаимосвязаны, однако относятся к различным областям: задача кодификации (выявление имплицитной аксиоматики и теоретической логики фрейм-анализа) - к области метатеории, задача реконструкции понятийного аппарата и исследования его многочисленных интерпретаций - к области истории теории, задача концептуализации - к области прикладной теории. Не следует рассматривать эти три области локализации исследования как взаимонепроницаемые и
автономные «субуниверсумы». Скорее речь идет об исследовании трех типов референции: референция теории к области до-теоретического (кодификация), референция к феноменам, для исследования которых данная теория предназначена (концептуализация), и самореференция. (В нашем случае «тест на самореференцию» заключен в вопросе «Может ли теория фреймов объяснить свое собственное бытование в повседневном обиходе социальной науки?»).
Три описанные выше задачи исследования обуславливают его структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Первая глава нацелена на решение задачи кодификации фрейм-анализа как теоретического ресурса социологии повседневности, вскрытию его теоретической логики и противопоставлению тому способу концептуализации повседневного мира, который мы находим в современных «теориях практик». Вторая глава - собственно, историко-теоретическая -посвящена теории фреймов И. Гофмана, анализу ее проблематики, основного концептуального аппарата и форм бытования теории в многочисленных академических интерпретациях. Третья глава относится к области прикладной теории, в ней фрейм-анализ используется как инструмент аналитического наблюдения повседневной событийности, указываются возможные перспективы развития теории фреймов за счет «обогащения» ее другими теоретическими ресурсами.
Каждой главе диссертации предпослано краткое изложение ее содержания, каждая глава завершается кратким обзором основных полученных в ней результатов. Основные итоги диссертации находят свое выражение в кратком глоссарии, изъяснении ключевых понятий, с которыми работает фрейм-аналитическая социология повседневности. Это позволяет в заключительной части работы сформулировать ряд предложений относительно направления дальнейших исследований.
Основные положения, выносимые на защиту
Теория фреймов не является однородным теоретическим построением, скорее это комплекс концепций, наследующих аналитической традиции исследования повседневного мира и ориентированных на изучение архитектоники контекстов элементарных наблюдаемых событий. Центральное место среди этих построений занимает концепция фрейм-анализа И. Гофмана.
Категория «фрейма» противостоит категории «практики». Фрейм-анализ является подходом, альтернативным и не совместимым с подходами
современной практико-ориентированной социологии повседневности (представленными в работах П. Бурдье, Э. Гидденса, Г. Гарфинкеля). Теория практик и теория фреймов - конкурирующие исследовательские проекты, их разделяет аксиоматика, оптика и логика исследования. Развитие практико-ориентированной социологии повседневности в последние три десятилетия (так называемый «practice turn») с одной стороны, привлекло внимание социологов-исследователей к проблематике изучения повседневной социальной реальности, с другой - способствовало «размыванию» некоторых базовых концептуализации этой области знания. Экспансия понятия «практики», превращение его во «всеобъясняющий концепт» лишило социологию повседневности четкого и операционального определения контекста практического действия. Обращение к теории фреймов, как к «теории контекста», позволяет вернуть в теоретический дискурс о повседневности проблематику контекстуальное.
Продолжая линию аналитической социологии повседневности, фрейм-анализ в то же время противопоставляет себя «онтологистской программе» в социологии повседневности (У. Джемс, А. Шюц), мыслящей повседневную реальность как верховный и замкнутый «субуниверсум». В релятивистской исследовательской программе И. Гофмана разрабатываются принципиально иные решения проблем природы повседневной реальности, соотношения повседневных и неповседневных порядков, отношения частных, партикулярных контекстов действования и их метаконтекстов (субуниверсумов).
Благодаря чувствительности концепции фрейм-анализа к проблематике границ повседневной реальности и ее связи с другими метаконтекстами (в частности, с метаконтекстом научного теоретизирования) она приобретает специфическую самореферентность - теория фреймов потенциально применима к исследованию фреймов социальной теории. Таким образом, обращение к фрейм-анализу открывает перспективу систематического изучения повседневного обихода науки.
Повседневный мир, исследуемый через призму теории фреймов, обнаруживает свойства, долгое время не попадавшие в «поле зрения» социальной теории: репрезентативность контекстов повседневных взаимодействий, изоморфизм воспринимаемых событий и схем их восприятия, гомологию материальных и знаковых порядков интеракции.
Прояснение этих вопросов - предмет дальнейших изысканий в области аналитической социологии повседневности.
Философские основания практико-ориентированной социологии повседневности: влияние Д. Юма
По справедливому замечанию В.В. Волкова, «сегодня практическая парадигма, если и существует, то лишь как удобная территория для междисциплинарных исследований. С одной стороны, практика (или практики) все чаще фигурируют в качестве основной категории в антропологии, философии, истории, социологии, политической теории, теории языка, литературной теории, - и в этом смысле, формируется некоторая общая для социальных наук парадигма. С другой стороны, однако, для каждой дисциплины характерен свой, отличный от других способ включения этих понятий в исследовательскую традицию, свой способ концептуализации. Последний, к тому же, варьируется в зависимости от отдельных авторов» [Волков 1997]. Более остальных собственно социологической концептуализации «практики» способствовали три современные теории: структуралистский конструктивизм П. Бурдье [Бурдье 1993], [Бурдье 2001] теория структурации Э. Гидденса [Гидценс 2003] и этнометодология Г. Гарфинкеля [Garfinkel 1967], [Garfinkel 2002]. Однако попыткам социологической концептуализации данного понятия предшествовали этапы его разработки в рамках философии и социальной антропологии.
Впервые предметом философского осмысления практический акт становится в работах Дэвида Юма4. В повседневной жизни, отмечает Юм, элементарные нерефлексивные действия - привычка (habit) или обычай (custom) - с успехом замещают логические и моральные обоснования, привлекаемые для объяснения человеческого поведения [Юм 1996]. Привычка поступать определенным образом служит достаточным основанием для последующих действий. «Привычка, - пишет Юм, - это корень разума», его первоосповапие. В данном отношении привычка до-разумна и потому изначальна, «природна»: «Привычка есть не что иное, как один из принципов природы, и всей своей силой она обязана этому происхождению» [Юм 1996: 230-231].
Такая концептуализация практического действия (его понимание как «действия по привычке») обладает двумя отличительными чертами:
- практическое действие является доминирующим в мире обыденной, повседневной жизни и тем скрепляет фундаментальный уровень совместного существования людей (именно на этом фундаменте выстраивается здание общественных институтов и «общих правил» действования);
- практическое действие принципиально отлично от действий рефлексивных, осмысленных, продиктованных разумом или долгом.
Именно эти два ключевых аспекта в определении практического действия заимствует у Д. Юма современная социальная теория и философия практики. «У Юма привычка играла роль первопричины, причем не внешней, а имманентной самому действию, потенциально заменяя любые формы каузальности и сама выступая как ее источник, - пишет В.В. Волков. - Мышление или действие "по привычке" - а это не только первое, но и наиболее консервативное понимание практики - дает возможность действовать, не прибегая к философским, логическим, моральным или иным обоснованиям» [Волков 1997]. Ценной для Волкова является именно возможность
Здесь мы говорим о «практическим акте» как о концепте, близком по значению современному социологическому понятию практики. Именно поэтому «точкой отсчета» в истории разработки данного понятия являются труды Юма, а не, к примеру, сочинения Аристотеля. отказаться от всех перечисленных обоснований и сообщить тем самым практике статус «причины, имманентной самому действию»5.
Подобная интерпретация эмпиристской теории Юма не нова. Жиль Делез в книге, посвященной философии Юма, также отстаивает автономию практического действия: «Дело в том, что разум не определяет практику: он практически и технически недостаточен. Несомненно, разум оказывает влияние на практику, либо сообщая нам о существовании какой-либо вещи, объекта, свойственного какому-либо аффекту, либо раскрывая связь между причинами и следствиями, раскрывая средство для [достижения] удовлетворения. Но нельзя сказать ни что разум производит действие, ни что аффект противоречит ему, ни что разум борется с аффектом... практика в своей природе (но не в своих обстоятельствах) безразлична к разуму» [Делез 2001: 23].
Здесь необходимо расставить акценты: не сам юмовский эмпиризм, с его «консервативным» определением практического деиствования, а именно его влияние на современную практико-ориентированную социологию повседневности находится в фокусе нашего дальнейшего исследования. Пока зафиксируем: уже на самом раннем этапе философской концептуализации понятия практики мы обнаруживаем те конститутивные его черты, которые затем воспринимаются социологической теорией. Практическое действие, объявляемое доминирующей формой существования в мире повседневности, противопоставляется действию рефлексивному, субъективно осмысленному (эта часть юмовского наследства была востребована П. Бурдье), практическое сознание - сознанию дискурсивному (данный тезис развивает, например, Э. Гидденс).
К сожалению, объем и специфика диссертационной работы не позволяют нам подробно остановиться на всех философских источниках теории практик (к которым, помимо юмовской эмпиристской философии относится марксистская концепция «праксиса» и неомарксистские ее импликации в работах А. Грамши, Д. Лукача, Л. Альтюссера, Ж.-П. Сартра а также «Философские исследования» Л. Витгенштейна [Витгенштейн 1994] и ранние работы М. Хайдеггера [Хайдеггер 1997]6), однако, мы будем обращаться к ним по мере необходимости в контексте дальнейшего рассмотрения теоретических ресурсов социологии повседневности.
Собственно социологический этап концептуализации понятия практики начинается в 70-х годах XX века. В 1972 г. П. Бурдье опубликовал «Набросок теории практики» [Bourdieu 1977], в 1973 г. вышла работа К. Гирца «Интерпретация культур» [Geertz 1973]. Следует отметить, что оба этих текста являются скорее социально-антропологическими, нежели социологическими - корнями они уходят в опыт анализа и интерпретации полевых антропологических исследований, однако наибольшее влияние данные работы оказали именно на социологическую теорию. Благодаря им понятие практики выходит на первый план социологического теоретизирования.
Почему апелляции к категории практики становятся столь частыми именно в 70-х годах прошлого века? Здесь сыграл свою роль сформировавшийся в послевоенной социологии запрос на новый теоретический язык описания, свободный от антагонизма классических подходов. «В социологической теории, - справедливо отмечает В.В. Волков, - термин "практика" на начальном этапе символизировал поиски компромисса между объективизмом системно-структуралистского подхода и субъективизмом феноменологии, и в то же время - попытки предложить "третий путь": либо посредством категориального синтеза, как, например, в теории структурации Энтони Гидденса, либо указанием на воплощенность социально-классовых структур в самом деятеле, как это попытался сделать Бурдье с помощью концепции габитуса» [Волков 1997]. Развивая этот тезис, можно заключить, что категория практики изначально служит для «снятия» фундаментальной дихотомии социологии - дихотомии субъективизма/объективизма. Далее мы покажем, что данная теоретическая интенция обусловлена третьей конститутивной чертой понятия практики - чертой, берущей свое начало не в эмпиристской философии Юма, а в диалектической философии Гегеля.
Работа П. Бурдье «Le sens pratique», в которой автор подробно излагает свою концепцию практико-ориентированнои социологии, содержит явную аллюзию на гегелевскую идею «практического чувства». Собственно, «Практическое чувство» - это один из возможных переводов названия данной работы на русский язык. Однако переводчики выбрали другой вариант - «Практический смысл» - поскольку «чувство» содержит в себе «...поворот к субъективизму и психологизму, отсылку к сознанию» [Шматко 2001: 549]. В то же время, перевод «sens» как «смысл» затрудняет понимание практики в качестве дорефлексивного акта, который принципиально отличен от действия в веберовском определении, основанного на субъективно полагаемом смысле. «Практическое чувство» - понятие, введенное Г. Гегелем в работе «Феноменология духа». «Практическое чувство, - пишет Гегель, - с одной стороны, знает себя как объективно значимое самоопределение, как нечто в-себе-и-для-себя-определенное, но в то же время, с другой стороны, так же и как нечто непосредственно или извне определенное, как нечто подчиненное чуждой ему определенности внешних воздействий» [Гегель 1977]. Практическое чувство - не субъективно. И в, равной мере, не объективно. В данном концепте не содержится никакой отсылки к сенсуализму (это подозрение переводчиков работы Бурдье на русский язык не вполне обосновано). Будучи этапом становления практического духа, практическое чувство лежит «по ту сторону субъективного и объективного», не зная «ни субъекта, ни объекта». Более того, по Гегелю практическое чувство предшествует самому различению субъективного и объективного, внутреннего и внешнего. Про практическое чувство нельзя сказать, что оно есть лишь продукт самодетерминации или детерминации извне. Являясь чем-то «в себе и для себя» определенным и, одновременно, подчиненным определенности внешних воздействий, практическое чувство оказывается вне оппозиции внутреннего/внешнего. Благодаря гегелевскому обоснованию данного понятия, идея практики в социологии позднее дополнится еще одной конститутивной характеристикой: - практика находится вне оппозиции «субъективной/объективной» определенности, она располагается по ту сторону «внутреннего» и «внешнего», будучи диалектически «в себе и для себя определенной» и, одновременно, внешне детерминированной. Отправная точка работы П. Бурдье как раз и состоит в декларируемом стремлении «снять» дихотомию объективистского и субъективистского способов познания. «Из всех оппозиций, искусственно делящих социальные науки, самой фундаментальной и самой губительной является та, что противопоставляет субъективизм объективизму, утверждает он. - Для преодоления антагонизма, противопоставляющего эти два способа познания, ... нужно показать предпосылки, свойственные им обоим как способам научного познания, зная, что последние сами противостоят способу практического познания, положенного в основу обыденного опыта социального мира (курсив мой В.В.)» [Бурдье 2001: 50]. Следовательно, практическое знание, как знание повседневное, противостоит в равной степени и «объективистскому» и «субъективистскому» познанию, как формам знания теоретического, отстраненного. Понимание практики исключает дистанцирование. Понять практику «глядя со стороны» невозможно, со стороны ее можно только проинтерпретировать или, если прибегнуть к выражению К. Гирца, - составить ее «плотное описание» [Geertz 1973]. Таким образом, обыденный опыт социального мира в практико-ориентированной теории П. Бурдье провозглашается оппозицией опыту теоретического знания. Мысль сама по себе не новая . Относительно новой ее делает предельно широкая трактовка «теоретического знания». «Теоретическое» здесь значит отстраненное, дистанцированное и рефлексивное. Поэтому рефлексия наблюдающего социальную реальность субъекта подпадает под ту же характеристику «дистанцированное», что и научная теория, выстроенная по всем позитивистским канонам.
Апелляция к «практике» как категории, позволяющей снять противопоставление объективизма и субъективизма возможна лишь в том случае, если «практическое знание» трактуется не просто как не-теоретическое, но как do-теоретическое. Практика внеположна оппозициям потому что предшествует им. Операции различения и возведения обнаруженных различий к противоположностям свойственны теоретическому разуму, тогда как «практическое чувство не знает ни субъекта, ни объекта».
Критика теории фреймов
Закономерно, что наиболее резкие отзывы на теорию фреймов последовали со стороны недавних единомышленников Гофмана - символических интеракционистов. Норман Дензин и Чарльз Келлер подвергли гофмановскую работу уничижительной критике. По их мнению, «театральная и метафорическая интерпретация Гофманом "фрейма" заводит его в несуществующий мир театра, где трансформации надстраиваются над трансформациями» [Denzin, Keller 2000: 72]. Вымышленные миры переключений и фабрикации противопоставляются ими реальным и осязаемым мирам повседневного человеческого общения. Однако это далеко не основная претензия критиков. Гораздо
30 Любопытно, что этот вывод также неприемлем и для последовательного этнометодолога. Сама мысль о контингентное субуниверсумов и рядоположности мира повседневности иным не-буквальным мирам недопустима в этнометодологическом исследовании, которое оставляет «за скобками» все несвязанное с использованием здравого смысла в актуальных здесь-и-сейчас ситуациях. Я искренне признателен профессору Р. Уотсону за разъяснение данного аспекта. серьезнее звучит обвинение в «структурализме», пренебрежении субъективным смыслом действий, классификаторской интенции. Гофман объявляется чуть ли не дезертиром, отказавшимся от исследований живой «коммуникации» в пользу мертвых «структур». «Если структуралистская интерпретация "Анализа фреймов" подтверждается (а мы полагаем, что это так), - пишут Дензин и Келлер, - тогда вклад Гофмана в интерпретативную социальную науку оказывается ограниченным. Его фреймы -замороженные формы. Его концепция реальности - обманчива и туманна. Постулированные им "трансформации" не имеют под собой никакой основы или причины. Фреймы схватывают события на периферии социальной жизни. Мистификации, промахи, ложные шаги, порнография, благотворительность, репетиции, игры животных и игры без игр, телевизионная реклама, театральные сценарии, грандиозные обманы и Дон Кихот в кукольном представлении, безусловно, находятся на краю повседневной жизни большинства людей... Никакого взаимодействия в "Анализе фреймов" нет» [Denzin, Keller 2000: 74].
Любопытно, что критика Дензина и Келлера - единственная, на которую Гофман ответил. «Чтобы обосновать свою позицию, - пишет Гофман, - Дензин и Келлер приводят изложение "хорошего" ("интерпретативная социальная наука") и "плохого" ("структурализм") подходов... Они настаивают, что если написанное мной есть нечто структуралистское, а не символически-интеракционистское (эта перспектива им явно ближе), то мой "вклад в понимание взаимодействия, опыта и повседневной жизни" оказывается тривиальным, периферийным и чисто классификаторским. Тех хороших авторов, к которым я обращаюсь в "Анализе фреймов", - Джемса, Шюца и Бейтсона - я не понимаю или не могу развить их идей (или то и другое), а мой подход есть "нечто противостоящее этим работам"» [Goffman 2000: 79].
На последнем замечании стоит остановиться подробнее. Видимо, больше всего в рецензии Дензина и Келлера Гофмана задело следующее утверждение: «"Анализ фреймов" Ирвинга Гофмана, структуралистский по природе своей, вряд ли может быть синтезирован с интерпретативистской традицией в социальной психологии Джемса-Мида-Шюца-Бейтсона. Скорее, он противостоит ей» [Denzin, Keller 2000: 73]. Тем не менее, Гофман, никогда не возражавший против структуралистских интерпретаций своих работ и даже ранние свои исследования интерпретировавший в ключе «структурной социальной психологии» [Verhoven 2000: 217], настаивает на том, что лишь продолжает традицию Джемса и Шюца. На первый взгляд, здесь есть противоречия. Невозможно нападать на социологический конструктивизм и в то же время следовать А. Шюцу. Трудно отрицать значимость субъективного смысла, вкладываемого акторами в определение ситуации, и одновременно продолжать традицию У. Джемса и Дж. Г. Мида.
Но Гофман не замечает противоречий. Как мы видели выше, он прочитывает Джемса и Шюца таким образом, что их интуиции социальной реальности приобретают вполне «структуралистский» характер: «Дензин и Келлер начинают с предположения, что "субъективный смысл, эмоциональное состояние, мотивы, интенциональность и наличные цели лежат в основании текущего социального взаимодействия" - позиция, которую они выводят из работ Джемса, Шюца, Мида, Кули и Вебера. Дензин и Келлер стремятся сохранить эти классические источники "чистыми", допуская только одну линию их осмысления - свою собственную. Как будто Мид никогда не предпринимал попыток структурного анализа стратегического взаимодействия, которые сейчас мы находим у Шеллинга31, а Шюц и Джемс, занимаясь конечными областями значений, никогда не принимали во внимание идентификацию, организацию и структуру этих миров...» [Goffman 2000: 80]. Этот структурный анализ не требует обращения к чувствам и мыслям взаимодействующих индивидов, но предполагает детальное рассмотрение форм организации того множества реальностей, о котором писали У. Джемс и А. Шюц. «Я думаю, это то, что Дензин и Келлер назвали структуралистским рассмотрением, -подводит итог Гофман. - Может быть, но для меня такой структуралистский анализ следует напрямую из работ Джемса, а также Шюца и Бейтсона» [Goffman 2000: 83].
Получается, расхождение интерпретативистской логики рассмотрения повседневности и гофмановского фрейм-анализа до некоторой степени обусловлены разночтениями в понимании работ Джемса? Такая гипотеза имеет право на существование. Но где именно следует искать корни этого расхождения? Гофман лишь намекает на ответ. Джемс, по его мнению, одновременно использует два принципиально различных определения социальной реальности. С одной стороны, реальность, по Джемсу, это «чувство реальности»32, испытываемое человеком, с другой - «всякая область значений, в которую мы можем быть вовлечены так, чтобы события в этом мире стали для нас живыми и яркими» [James 1950: 293]. Первое определение принимают в качестве базового «интерпретативные направления», ищущие смысл взаимодействия в субъективных интенциях акторов. Второе, допускающее возможность изучения «областей смысла» как трансформируемых сегментов реальности - становится отправной точкой рассуждений И. Гофмана. Сходным образом Гофман рассматривает и шюцевскую теорию оставляя в стороне все, что связано с индивидуальным смыслополаганием, он стремится к прояснению структурной организации многообразных контекстов человеческого действования.
Что дает исследователю повседневности переключение внимания с интеракции на ее формат, с содержания деятельности на ее структурную контекстуализацию? Ирвингу Гофману подобный «структуралистский поворот» позволил представить социальную реальность повседневного взаимодействия во всей ее многослойности и «небуквальности». Не «субстанция» (содержание действий), а «отношения» (закрепленные в структуре фреймов) обладают суверенным бытием. Отношения же эти проявляются в первую очередь в структурной организации фреймов, в характеристиках «слоев» и пространственно-временных скобок деятельности.
В этом смысле феноменологическая социология повседневности и гофмановский фрейм-анализ разделяют ряд значимых аксиоматических допущений в отношении архитектоники повседневного мира, но по-разному развивают тезис о «множественности миров» - центральный тезис обоих исследовательских подходов. Размежевание этих магистральных маршрутов теоретического рассуждения связано с пересмотром двух аксиом феноменологического описания повседневного мира: Гофман противопоставляет «замкнутости» и «конечности» шюцевских областей смысла их интерференцию и обратимость (посредством механизмов переключения); иерархичности миров - их рядоположность. Так, по мнению Шюца, «конечность областей смысла, предполагает, что не существует возможности соотнесения одной из этих областей с другой путем введения формулы трансформации» [Шюц 2004: 515]. Для Гофмана же - благодаря предпринятой ревизии современной ему социологии повседневности - поиск «формул трансформации» становится актуальной исследовательской задачей. (В качестве примеров таких формул можно привести исследованные Гофманом «ключи» - состязания, церемониалы, пересадки и технические переналадки).
Каковы импликации двух этих аналитических схем? Если мир повседневной рутины для нас - лишь «один из возможных», не наделенный статусом единственно реального, то ничего не удерживает от шага релятивизации и тогда повседневность оказывается в одном ряду с вымышленными, сконструированными, сфабрикованными мирами. Назовем такое утверждение «релятивистской» программой в социологии повседневности. Напротив, если для нас повседневность - единственная непреложная реальность, собственно та реальность, в которой мы действуем, активно изменяя условия своего существования, то все остальные миры - лишь вкрапления в материале обыденного, что-то разрывающее его, но несопоставимое с ним по плотности. Назовем построения, основанные на такой аксиоме, «онтологистскои» программой социологии повседневности.
В своих радикальных вариантах «релятивистская программа» допускает смешение и симбиоз порядков существования. Граница между ними стирается, повседневная жизнь интерпретируется как бесконечный карнавал, в котором отсутствует всякая упорядоченность. Игра, фантазия, ритуал, сон, теоретизирование и, собственно, сама повседневность соединяются в неразличимом потоке. Развитие же классической «онтологистскои программы» ведет к попыткам упорядочить и составить полный каталог миров . Поскольку один из этих миров является априорно «верховным», все остальные располагаются по степени убывания реальности. Онтологизация повседневности в конечном итоге приводит к стратификации реальности - различению реальностей первого, второго и третьего сорта.
Какое бы теоретическое решение не было принято в отношении соположения миров - утверждается ли идея их упорядоченного размещения на континууме «более реальное/менее реальное» или признается смешение и равнозначность (в которой легко угадывается симптом современной виртуализации мира, где, например, мир компьютерной игры оказывается в некоторых отношениях более реален, чем мир рутинных повседневных действий) - основная аксиоматика двух исследовательских программ совпадает. И феноменологическая социология повседневности, и фрейм-анализ объединены общим теоретическим мотивом - мотивом аналитического исследования повседневного мира.
Событие как знак. Проблема нетранзитивности
Предположим, что событие «взмах руки», зафиксированное нами на прогулочном катере, находится в отношении сигнификации с повседневным событием «приветствие», которое в свою очередь является репрезентацией события «ритуал демонстрации мирных намерений». (Согласно теории фреймов, эту связь делает возможной репрезентативность контекстов, описанная нами в предыдущих главах.) Значит ли это, что можно проследить прямую связь между «взмахом руки» и «ритуальной демонстрацией намерений»? Очевидно, нет. Расширенный контекст интерпретации (включающий себя как знание ситуации, в которой наблюдался игровой жест, так и знание о контексте повседневного непревращенного жеста) ограничивается здесь одной единственной связью между взмахом руки и обычным приветствием. Из того, что событие X означает событие Y (или целый кластер событий Yi, Y2, Y3), которое, в свою очередь, означает событие Z (Zi, Z2, Zi), вовсе не следует, что событие X означает событие Z. Это свойство прерывания цепочки означаемых и означающих событий и называется Г. Бейтсоном нетранзитивностью. Именно потому, что отношения событий нетранзитивны, контекст интерпретации каждого из них сохраняет свои границы.
Но что стоит за нетранзитивностью отношений означання между событиями? Почему прерывается сигнификация? Рассмотрим две гипотезы, нацеленные на прояснение этого феномена.
Прежде всего, разные компоненты повседневного события (или, если воспользоваться определением А.Ф. Филиппова, разные «моменты его логической конструкции») в разных контекстах становятся знаковыми, т.е. указывающими на то, что наблюдаемое событие не может быть помещено лишь в одну «ячейку» системы фреймов. Например, приветствие мужчины и женщины, включающее поцелуй и вопрос о настроении. Данный вопрос не следует воспринимать как фигуративный компонент, если кто-то из здоровающихся недавно пережил депрессию и собеседник действительно желает осведомиться о его душевном состоянии. Напротив, поцелуй - это фигуративный компонент, если только здоровающихся не связывают интимные отношения; тогда он перестает быть «жестом, заимствованным из сексуальной формы проявления радости, почти лишенным телесности» [Гофман 2003: 108].
Любопытно, что как наблюдатели, так и участники событий способны распознавать является ли некий компонент события знаковым или нет. Поцелуй знакомых отличается от поцелуя любовников. Вопрос «как настроение?» заданный с намерением получить ответ и без такового - по-разному интонируется. Знаковые компоненты повседневных событий зачастую сопровождаются маркерами фигуративности, которые в функциональном отношении подобны кавычкам. Эти маркеры указывают, что данный аспект наблюдаемого события не надо воспринимать буквально или, по выражению Гофмана, «простодушно».
С маркерами фигуративности тесно связаны многочисленные ошибки интерпретации повседневных событий: два ученика изображают драку (не нанося, а маркируя удары), но учитель видит только двух дерущихся подростков; молодой человек приглашает к себе девушку осмотреть его коллекцию полевых жуков и вызывает ее искреннее недоумение тем, что действительно демонстрирует ей жуков. Психологический и социологический подходы к анализу подобных ошибок фигуративности предложены соответственно в трансактном анализе Э. Берна [Берн 1997] и ранних работах И. Гофмана [Goffman 1962].
Второе возможное решение поставленной выше проблемы нетранзитивности: различные события могут быть связаны разными отношениями означання. То есть, одно и то же событие может отсылать к другим событиям по-разному. Стоит отметить, что И. Гофман, особое внимание уделявший семиотическим исследованиям и предложивший для концептуализации контекста метафору «значащей формы», избегает прямого обращения к теории знаков как ресурсу понимания. Говоря о том, что одни контексты репрезентируют другие контексты, он не уточняет, в чем именно состоит семиотический смысл этой репрезентации. Для того чтобы ответить на данный вопрос нам придется выйти за пределы гофмановской теории фреймов и обратиться к классической теории знаков Ч. Пирса.
Пирс выделил три вида знаков, взяв за основу их отношение к обозначаемому объекту [Пирс 2000: 222]. Во-первых, обозначение может отсылать к целому кластеру гораздо более абстрактных означаемых. Такова природа символа. (Понимание Ч. Пирсом символической сигнификации в корне отлично от понимания А. Шюцем «символической аппрезентации», но это - предмет отдельного сопоставления.) Например, событие «первый полет человека в космос» - это событие-символ, поскольку за ним скрываются такие труднодоступные непосредственному постижению означаемые как «начало космической эры», «последнее достижение человеческого разума», «выход на новые рубежи познания». Ошибочно думать, что события-символы укоренены только в «больших нарративах». Первый шаг ребенка, первый прорезавшийся у него зуб, первое произнесенное им слово - все эти события в жизни семьи играют роль символических. (В обыденной речи такого рода события называются «знаковыми». Однако мы не можем позволить себе подобного определения, поскольку отнюдь не всякое событие-знак является также и событием-символом).
Событие-символ - это всегда «событие вообще», подобно тому, как памятник рабочему, это памятник «рабочему вообще», а шаг Нила Армстронга на Луне - это «шаг человека вообще». Событие-символ лишается индивидуальных своих черт, чтобы служить маркером группы событий или целой хронологии. (Таковы, например, «учредительные события», дающие начало новым хронологиям - «эра от рождества Христова», «эпоха изгнания после разрушения Храма» и т.д.).
Во-вторых, знак в своем индивидуальном существовании может быть связан с индивидуальным объектом. Такова специфика индекса. Событие-индекс интерпретируется как знак в силу некоторой конвенциональной связи между ними. Например, событие падения вилки со стола может быть проинтерпретировано как индекс события «приход незваной гостьи», а событие «лунное затмение» как индекс событий «чума», «мор», «голод». На идентификации событий-индексов основана прагматика народных примет. (И. Гофман уделяет особое внимание индексальным событиям и схемам их интерпретации при различении первичных и трансформированных систем фреймов.) Как замечает Ч. Пирс: «Отпечаток ноги, найденный Робинзоном Крузо, служил ему Индексом того, что на его острове есть некое существо, а тот же отпечаток ноги, высеченный в гранитном монументе славы, будучи Символом, возбуждает в нас идею человека вообще» [Пирс 2000: 223]. Применительно к событиям: выход человека в открытый космос для широкой аудитории может символизировать совершенствование современных космических технологий и одновременно быть для специалистов индексом успешного функционирования системы автономного жизнеобеспечения. Это разные формы сигнификативной связи между событиями и между их контекстами.
Тем не менее, различения событий-индексов и событий-символов для наших целей явно недостаточно. (Тем более что одно и то же событие-знак может выступать в обоих этих сигнификативных качествах). Необходимо указать на третий тип события-знака -иконический. Иконические знаки отличает то, что они обладают более или менее явным характером своего объекта. Событие-икона в некоторых своих аспектах сходно с тем событием, которое оно означает. Очевидно, описанный нами жест пассажира катера - есть иконическое подобие обыденного жеста приветствия. Он опознается как приветствие не в силу сложившейся «приметы», а именно благодаря своей похожести на непревращенный, повседневный жест. Такова природа театрального представления - изображенные события указывают на события изображаемые посредством уподобления им, копирования их отличительных признаков. Нетрудно заметить, что большинство анализируемых Гофманом событийных связей и опосредующих их контекстуализаций - это формы иконического означання.
Основания феномена нетранзитивности обнаруживаются не только в разделении «фигуративных» и «буквальных» компонентов события, но и в различиях отношений сигнификации между событиями. Например, анализируемый жест пассажира катера - это иконический знак жеста повседневного приветствия, который в свою очередь является жестом-символом в ритуале «демонстрации мирных намерений». Интерпретируя жест пассажира, наблюдатель фокусируется на иконической коннотации и игнорирует символическую. Так возникает нетранзитивность - прерывание цепочки означаний.
Определение события как иконического знака другого события открывает перед нами перспективы дальнейшего перенесения семиотической логики в социологию повседневности. Этот шаг оказывается близок способу рассуждений Ирвинга Гофмана. Указав в теории фреймов на то, как погоня становится бегом, а военные действия 128
учениями, Гофман, тем не менее, избежал вопроса о внешнем подобии, иконичности этих событий. Событие «ревнивый муж убивает неверную жену» на репетиции спектакля подобно событию такого же содержания на премьере и более того, замещает его до премьеры, являясь его предвосхищающим отражением. Но то же событие убийства на премьере должно быть подобно событию убийства в реальной жизни, чтобы зрители «поверили» постановке. (Для обозначения этой специфической «веры» Гофман заимствует у Уильяма Джемса понятие «вовлеченности» - «involvement»).
Итак, события, перенесенные из одного фрейма в другой, связаны отношениями иконического означання. Одно из них (изображенное) отсылает к другому (изображаемому) в силу своего подобия ему. Однако здесь на каком-то этапе логика сигнификации дает сбой. Проблема кроется в самом понятии «иконического знака».
По определению Пирса, иконический знак «обладает известным натуральным сходством» с объектом, к которому он относится. Последователь Пирса, один из основателей семиотики, Ч.У. Моррис развил это определение, указав на иконический знак, как знак, который несет в себе «некоторые свойства представляемого объекта» [Моррис 2001].
Но что значит «некоторые свойства»? До какой степени жест студента, выражающего свое недовольство в разговоре с друзьями (большой палец указывает в пол, остальные пальцы собраны в кулак), иконичен жесту римского патриция, призывающего лишить жизни поверженного гладиатора? Насколько сцена казни в кино обладает свойствами события реальной казни? Даже если инсценированное событие казни включает в себя такой компонент, как реальное убийство человека (подобным образом изображалась казнь в римском театре эпохи Ливия: в «роли» казненного выступал приговоренный к смерти преступник [Веаге 1964: 238]), мы не можем сказать, что это событие-знак абсолютно иконично своему прототипу. Граница сцены разделяет метаконтексты, «порядки существования», различая даже очень сходные внешне события.
Получается, абсолютно иконическим знаком может быть только знак, указывающий сам на себя, т.е. сам являющийся своим объектом. Сказать, вслед за Моррисом, что «иконичность - вопрос степени», значит, сделать это понятие слишком неопределенным и невразумительным для аналитического использования.
Применительно к теории событий, проблема иконичности усложняется еще тем, что и репрезентация, и репрезентируемое (т.е., и знак, и его объект) принадлежат одному классу явлений - социальным событиям. Умберто Эко, критикуя определение Морриса, анализирует в качестве примера иконического знака изображенный на рекламном плакате стакан с пивом: «Трудно не согласиться с тем, что эта визуальная синтагма - иконический знак. И мы прекрасно понимаем, о каких свойствах означенного объекта идет речь. Но бумага это бумага, а не пиво и холодное отпотевшее стекло» [Эко 1998: 125]. О событиях так сказать нельзя. Человеческое действие на сцене и человеческое действие на улице не столь различны, как стакан и его изображение на плакате.
Отсюда соблазн - приравнять изображение и изображаемое, отказаться от самой мысли представить одно из этих событий как реальное, а второе как отраженное, скопированное, поддельное, искусственное. Соблазн еще раз повторить вслед за Гофманом: «любое из изображений может быть в свою очередь создано путем копирования чего-то такого, что само является макетом», а потому искать «первый прототип», исходное событие, фундаментальную реальность бессмысленно.