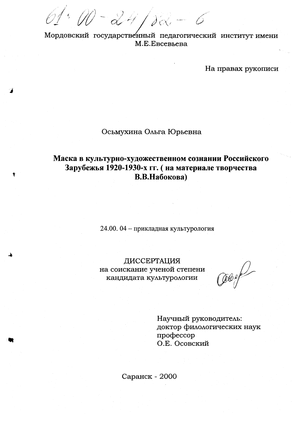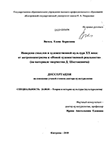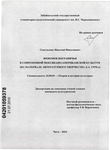Содержание к диссертации
Введение
Глава первая
Автор, герой, маска: проблема обретения самоопределения в прозе В.В. Набокова в общем контексте становления культуры Российского Зарубежья 1920-начала 1930 -х годов 49
Глава вторая
Соотношение авторского «лика» и «личины» в культурно -художественном сознании второй половины 1930-х годов («Дар») 111
Заключение 173
Список сокращений цитируемых в тексте диссертации
произведений 176
Библиографический список 177
- Автор, герой, маска: проблема обретения самоопределения в прозе В.В. Набокова в общем контексте становления культуры Российского Зарубежья 1920-начала 1930 -х годов
- Соотношение авторского «лика» и «личины» в культурно -художественном сознании второй половины 1930-х годов («Дар»)
Введение к работе
Открытия современной культурологии, активность исследователей, плодотворно использующих культурологическую основу для построения общей методологии гуманитарного знания, позволяют по-новому взглянуть на целый ряд проблем и сюжетов, актуальных для всего комплекса гуманитарных наук1. Новые подходы, реализуемые в рамках прикладной культурологии, дают возможность осмыслить, в частности, сугубо специфические особенности культурно-художественного сознания XX столетия, привлекая при этом различные историко-культурные пласты.
Обратившись к проблеме маски в культурно-художественном сознании Российского Зарубежья в 1920-30-е годы и привлекая в качестве материала для анализа творчество В.В.Набокова, мы не можем не отметить пограничный характер данной проблемы, решение которой со всей очевидности лежит на стыке целого комплекса гуманитарных наук. Культурологический подход позволяет рассмотреть заявленную тему во всей ее многоаспектности и добиться наиболее достоверных и адекватных выводов.
В историко-культурном пространстве человеческого бытия маска является одним из наиболее давних спутников "человека культурного", в многочисленных своих ипостасях скрывая его подлинное "я" и представляя его в обличье, по выражению М. Фуко, "Другого, отличного от других в их внешней объективности" [Фуко, 1997: 193]. Следует сразу же оговориться, что из всего многообразия культурных смыслов маски как историко-культурного явления нас интересует ее собственно "человеческое" измерение: подлинное лицо художника скрывается за некоей ширмой, ролью, маской, прячась за которую в условиях своеобразной "игры" с действительностью, он устанавливает 1 Ср.: «Культурология как интегративная наука формируется на стыке целого ряда научных направлений, создавших собственные традиции в изучения культуры. Наиболее важными из них стали философия культуры, культурная антропология, сравнительное языкознание, история культуры, социология культуры и др.» [Антология, 1997: 5]. принципиально новый тип отношений не только с читателем или зрителем, но и со всем социокультурным контекстом эпохи. Причем, последнее касается не только культурно-художественного пространства, но и всей парадигмы человеческого бытия конкретного исторического периода. Так, соотнося игровой характер культурного поведения с предшествующими традициями, Ю.М.Лотман пишет: "Следующим шагом в создании "поэтики поведения" в русской культуре XVIII в. явилась категория амплуа, своеобразной поведенческой маски. Отличаясь большей мерой индивидуализации поведения, она в первую очередь была уделом тех, кто "выламывался" из норм и стилей общепринятого. Так появились амплуа "шута" и "чудака", "острослова-проказника" (А.Д.Копьев, А.М.Пушкин и др.), поэта-пьяницы, бессеребренника и правдолюбца (И.Барков, Е.Костров). Типовым нарушением стандарта было его количественное превышение - амплуа "богатыря", превосходящего в еде, питье, любви, физической силе, роскоши, расточительстве возможности человека (А. Орлов, Потемкин). Сложная маска Суворова строилась из комбинации "богатыря", "стоика" и "шута". Индивидуализация поведения достигалась тем, что собеседник никогда не знал, какая из этих масок проявится.
Реализация поведения этого типа строилась как непрерывная импровизация новых эпизодов в общих границах принятой мас-ки"[Лотман, 1996: 297-298 - выделено нами -О.О.].
Естественно, что со временем функции маски в историко-культурной практике становятся все более разнообразными, порой они вступают в противоречие с устоявшейся традицией. По вполне понятным причинам усиливается размежевание бытовой и собственно культурной маски, что не может не сказываться на характере функционирования последней в собственно культурно-историческом пространстве. Причем, чем ближе происходящее к нашему времени, тем очевиднее и отчетливее выражена дистанция между различными формами маски. Оговоримся сразу, что в культурно-историческом пространстве Российского Зарубежья нас интересует тип маски, рожденной исключительно в лоне авторской, творческой фантазии, той маски, которая призвана прикрыть подлинное лицо художника. Избирая подобный ракурс исследования, мы можем, с одной стороны, проследить традицию, связывающую культуру российской эмиграции с предшествующими этапами русской культуры, а с другой - обозначить моменты формирования нового культурно-художественного сознания, во многом близкого ситуации европейской культуры 1920-1930-х гг.
Таким образом, актуальность нашего исследования вытекает прежде всего из необходимости выявления основных параметров функционирования маски в культурно-художественном сознании Российского Зарубежья, в последнее десятилетие чрезвычайно ак тивно исследуемого российской гуманитарной мыслью, в том числе и культурологической [см.: Культурное наследие, 1994; Культура Рос сийского Зарубежья, 1995; Русское зарубежье, 1996; Наука, 1997; Осовский, в печати; Российское Зарубежье, 1998; Российская эмиг рация, 1996; Русский Париж, 1998; Русский Харбин, 1998; Серапио- нова, 1995; Фрейнкман-Хрусталева, 1995[. При этом отметим, что создаваемая в 1990-е годы общими усилиями исследователей- гуманитариев история культуры российской эмиграции, при всей значительности уже имеющихся научных достижений, до сих пор не представлена в более или менее завершенном виде и является, по- видимому, делом не близкого будущего. Среди наиболее интересных и важных проблем, решение которых как раз приближает завершение вышеобозначенного научного проекта, и оказывается осмысление специфических характеристик собственно культурно- художественного сознания Российского Зарубежья, складывающегося из совокупности конкретных примет и черт, проявляющихся в художественном наследии различных писателей, художников, композиторов, режиссеров, критиков и т.д. [Новиков, 1997: 4-19]. Культурологический анализ составных частей этого наследия, предусматри- вающий прежде всего детальное изучение всего многообразия того, что Ю.М. Лотман обозначал емким понятием "культурного текста", позволяет раскрыть эти специфические черты с максимальной степенью убедительности и доказательности.
Задаваясь вопросом, насколько правомерно делать выводы о характере культурно-художественного сознания Российского Зарубежья на материале прежде всего литературного творчества В.В. Набокова, сошлемся на убедительное мнение авторов коллективного исследования "Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания", утверждающих, что художественное сознание, отражающее историческое содержание конкретной эпохи, ее идеологические потребности, отношения действительности и литературы, "определяет совокупность принципов литературного творчества в их теоретическом (художественное самосознание в литературной теории) и практическом (художественное освоение мира в литературной практике) воплощениях" [Историческая поэтика, 1994:3 - выделено нами - О.О.]. К тому же, как отмечает известный философ культуры, литературовед и переводчик А.В. Михайлов, <...> писательское сознание находится в ближайшем родстве с сознанием теоретическим - при этом и то и другое одинаково причастны к историко-культурным процессам наших дней, к тому, что названо у нас историко-культурным смысло-порождением, и к осмыслению этих процессов"1 [Михайлов, 1989:25 - выделено нами - О.О.]. В данном контексте, то есть в неразрывной связи практики литературной и в естественном проецировании ее достижений в пространстве историко-культурном следует рассматривать творчество В.В. Набокова (1899-1977), вне всякого сомнения являющегося одной из наиболее значительных фигур в истории русской культуры XX столетия. При этом его художественные 1 В качестве убедительного подтверждения этой мысли сошлемся на бли стательный философско-культурологический анализ Н.А.Бердяевым "Петербурга" А.Белого (Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918. С.36-47). открытия выходят далеко за пределы собственно российской словесности, отражая те значительные перемены, которые происходят в мировом культурном процессе на протяжении всего нынешнего столетия; творческий же его опыт накладывает отпечаток на основные тенденции развития литературы новейшего времени.
Немаловажна роль В.В.Набокова в культурно-художественном пространстве Российского Зарубежья 1920-30-х гг., о чем свидетельствуют его активное участие в берлинских литературных кружках [см.: Долинин, 19996], заседаниях парижского дискуссионного клуба "Круг", в театральных постановках [см.: Толстой, 1989; Медведев, 1999], интенсивные контакты со многими деятелями эмигрантской культуры, опора писателя на русскую и западноевропейскую художественную традиции и в конечном итоге их переосмысление. Совершенно очевидным в связи с этим становится тот факт, что В.В.Набоков мыслил себя участником общего эмигрантского дела, миссия которого, по справедливому замечанию А.Долинина, "заключается в том, чтобы сохранить и продолжить - наперекор деструктивному "провинциализму" словесности советской "столичную" традицию русской культуры, чтобы быть "достойным своего прошлого" <...>, донести его дары до будущего отечественной культуры" [Долинин, 1999:13]. Художник-изгнанник, потерявший отечество вновь обретает его в эмиграции, где русская культура для него (равно, как и многих его соотечественников) становится единственным "реальным метапространством". "Ниспровергая ложные авторитеты, высмеивая омертвевшие штампы, вскрывая унылую пошлость всех общих мест, изобретая необычные для русской литературы темы, способы изображения, повествовательные приемы и структурные принципы, он тем не менее следил за тем, чтобы его "маленькие взрывы" не повредили само здание культуры, в котором он устроил свой дом" [Долинин, 1999:14-15].
Таким образом, существенная сторона нашего исследования заключается прежде всего в необходимости выявления не столько ори- гинальности творчества писателя в целом (что совершенно очевидно и в доказательствах не нуждается), сколько в потребности определения конкретных его черт, позволяющих опознать специфические на-боковские приемы и характеристики, выступающие, в конечном итоге, в качестве наиболее выразительных примет нового культурного сознания Российского Зарубежья 1920-30-х гг., ведущая роль Набокова в становлении и окончательном формировании которого в уходящем столетии не подлежит сомнению.
Общепризнанность значимости художественных открытий Набокова не могла не привести к появлению обильной литературы по самым различным аспектам писательского наследия. "Феномен Набокова" (Н.А.Анастасьев) уже в 1930-х гг. становится предметом интенсивного осмысления и анализа в культурной среде российского зарубежья, крупнейшие фигуры которого (от И.А. Бунина, В.Ф. Ходасевича, И.И. Фондаминского до Г. Адамовича, Д.С. Мережковского и др.) принимали участие в обсуждении набоковских произведений на страницах журналов и газет русской эмиграции. С конца 1950-х -начала 1960-х гг. творчество Набокова, обретающего статус "живого классика", привлекает внимание огромного числа исследователей. К настоящему времени создан огромный пласт международной "набоковианы", органичной составляющей которой с конца 1980-х гг. становятся и работы отечественных литературоведов. Можно с уверенностью утверждать, что в современном литературоведении сложилась специальная отрасль - набоковедение, в силу понятных причин в 1960-80 гг. преимущественно развивающаяся на Западе. Зарубежное набоковедение к концу столетия насчитывает около ста монографий и сборников статей, десятки диссертаций, посвященных тем или иным аспектам культурно - художественного наследия Набокова [анализ современного зарубежного набоковедения см., в частности: Кучина, 1996, Мулярчик, 1994 и др.], более того, большая часть его посвящена прежде всего англоязычному творчеству писателя, поэтому мы отметим лишь наиболее важные и показательные для зарубеж- ного набоковедения работы, одновременно имеющие непосредственное отношение к проблематике нашего исследования.
Среди немалого числа биографических штудий следует прежде всего назвать монографию претендовавшего в конце I960 - начале 1970-х гг. на роль личного биографа писателя Э. Филда "Набоков: жизнь в искусстве" [Филд, 1967], в которой предпринимается попытка осмысления эстетического феномена В.В. Набокова, причем, искусство рассматривается в качестве своеобразного жизненного пространства, осваиваемого писателем, основное же внимание автор уделил биографческому аспекту, благо подавляющее большинство материалов и сведений было предоставлено ему самим "героем". Вершиной дальнейшего изучения жизни и творчества выдающегося прозаика, по единодушному мнению набоковедов [см.: Мулярчик, 1994; 1997], стал двухтомник новозеландского исследователя Б.Бойда "Владимир Набоков: русские годы", "Владимир Набоков: американские годы" [Бойд, 1990, 1991]. Немаловажно, что работа выходит за рамки чисто биографического жанра: Б.Бойд не ограничивается детальным описанием жизни писателя, он с максимальной точностью устанавливает творческую хронологию, попутно анализируя набоков-ское культурное наследие.
Естественно, что в силу наших собственных исследовательских интересов мы упоминаем прежде всего западные исследования, так или иначе затрагивающие культурологические аспекты творческого наследия В.В.Набокова. Так, в работах американских исследователей С.Давыдова и В.Е.Александрова предлагается метафизическое прочтение набоковских текстов. Но если С.Давыдов обращается, в основном, к "гностическому" аспекту метафизической проблематики набоковской прозы [см.: Давыдов, 1982; 1991; 1997], то В.Александров в монографии "Набоков и потусторонность", полагая центральной темой творческого наследия писателя "потусторонность" и включая в нее в качестве основных компонентов метафизику, этику и эстетику, ориентирует читателя на противоположное весьма по- пулярному ныне "металитературному" прочтению текстов мастера восприятие последних как "макротекста" [Александров, 1991, 1997, 1999]. Александров рассматривает художественные произведения в сопоставлении с критическими работами на фоне всего творческого наследия художника, детально исследуя оппозиционные соотношения пространства и времени (точнее, "вневременности"), творчества и бытия, гностицизма и платонизма, реального и иррационального. Весьма значительны по своей исследовательской весомости работы Н. Букс, выявляющей в них массу скрытых пародийных отсылок и аллюзий, структурных, тематических и мотивных перекличек и связывающей их с англо-американской и русской культурной традициями [Букс, 1996; 1997; 1998], и М.Медарич, не только обозначающей место писателя в пределах историко-культурного процесса XX столетия, но и предлагающую рассматривать творчество писателя 1920-30-х гг. как вполне вписывающееся в рамки постмодернизма [Медарич, 1997].
Несомненна принципиальная роль художественного наследия писателя в общем контексте современного российского культурно-художественного сознания. Наиболее показателен в этом отношении выход отечественных набоковедов в Мировую компьютерную сеть, где на сегодняшний день имеются многочисленные набоковские сайты, регулярно пополняемые информацией, касающейся состояния современной набоковианы, проводятся электронные набоковские конференции. Немаловажным представляется основание в 1992 г. в Санкт-Петербурге "Набоковского фонда", ежегодно организующего Набоковские чтения и конференции, и публикация в 1997 г. антологии "В.В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей". Антология включает в себя произведения самого Набокова (ранние рецензии, предисловия, "Заметки переводчика", интервью, три шахматные задачи из сборника "Poems and problems"), воспоминания современников о нем, русскую эмигрантскую критику, статьи рос- сийских и зарубежных исследователей о Набокове, а кроме того, снабжена обширной библиографией и достаточно подробным перечнем основных произведений писателя.
В настоящее время российское набоковедение представлено значительным числом монографий, статей, диссертационных исследований, библиографических очерков, в большинстве которых, правда, применяется литературоведческий подход [Анастасьев, 1992; Мулярчик, 1997; Сконечная, 1994; Липовецкий, 1997; Сараскина, 1997; Долинин, 1996; 1997; 1999и др.], однако при этом многие исследователи охотно допускают, что художественное творчество писателя выходит за пределы конкретного стиля или направления, более того, оно представляет собой не столько синтез, сколько соединение культурно-художественных открытий XIX-XX вв. [см.: Аверин, 1997; 1999], в связи с чем появляются работы, в которых анализируются особенности набоковского мировосприятия и "философии" [Пятигорский, 1997; Битов, 1996; 1997; Парамонов, 1999], игровая сущность, пародийность и театральность как одни из принципов поэтики художника [Люксембург, 1996; Млечко, 1998 и др.].
Однако при всей значительности количества исследовательской литературы, посвященной художественному наследию выдающегося прозаика, при единодушном согласии подавляющего большинства отечественных и зарубежных литературоведов с тем, что игровая стихия, поразительная способность к "авторской мимикрии" - есть одна из важнейших примет Набокова-писателя, ни в одной работе не представлен полный анализ роли и места в его творчестве такой принципиально значимой для понимания последнего категории как маска.
Следует сразу яке отметить, что проблема маски является одной из наиболее интересных теоретических и историко-культурных проблем современного гуманитарного знания. Вполне отчетливо осознавая тот факт, что творчество Набокова 1920-30-х гг. продолжало и развивало лучшие традиции российской культуры предшествующих периодов, в частности, русской прозы, кратко обозначим вехи истории маски как одного из наиболее значительных явлений в культурно-художественном сознании России. Добавим к тому же, что проблема маски (а также ее текстовой реализации) выступает одним из наиболее существенных и мало разработанных аспектов как современной культурологической мысли, так и соотношения автора и героя в литературном произведении, а ее рассмотрение позволяет не только конкретизировать и уточнить соотношение этих категорий в художественном тексте в целом, но и обозначить специфический "масочный" пласт литературных и культурных текстов, играющих крайне важную роль в определенную историческую эпоху. Уточним при этом, что маска, являясь своеобразным культурным феноменом, представляется нам поведенческой эксплуатацией художником того или иного образа с определенной целью как в реальной жизни, так и в пределах художественного текста, выступающая одной из форм взаимоотношений автора и персонажа или одним из способов существования героя в текстовом пространстве при самом широком культурологическом понимании и истолковании последнего [Лотман, 1992:123].
Историко-культурная практика использования маски в рамках профессионального словесного творчества в России, заметим, существует примерно с XVIII в. Однако совершенно очевиден тот факт, что "масочный", "карнавально-игровой" элемент присутствует и на более ранних этапах [см., в частности, Лихачев, Панченко, Понырко, 1984 и др.]. Так, в культуре Древней Руси "масочный" элемент был представлен в искусстве скоморохов - площадных лицедеев, "заводил" народных игрищ и потех, чье занятие - "неистовая пляска, кривлянье"; они "деформируют" и "пародируют" мировой порядок, искусство их - "обезьянничанье и карикатура" [Панченко, 1984:79 -курсив наш - О.О.]. Скоморохи исполняли так называемые "обряды веселья" - святки, масленица и т.д., то есть исконно русские "театральные сезоны", для которых характерны ряжение и маскиро- вание. "Расцвет" скоморошества пришелся на период царствования Ивана Грозного, склонного к "богомерзким" игрищам и нередко вовлекающего в них (даже насильственно) своих сановников (известно, что князь М.П. Репнин-Оболенский был казнен за отказ плясать на царском пиру в маске со скоморохами). Ю.М. Лотман, исследуя специфику культурного пространства, одним из возможных выходов из него (наряду, заметим, с приемом "перевернутого мира", "бытовой" реализацией которого является мода) полагает маску как вполне осознанный способ существования индивида в обществе, его одновременную соотнесенность с "другими" (ориентированность на присутствие зрителя, публики) и дистанцированность от них. В данном контексте показательна поведенческая маргинальность Ивана Грозного, методично разыгрывавшего всевозможные "культурные" (социальные) роли (вполне уместным нам представляется отождествление понятий "роли" и "маски" в качестве возможных поведенческих эксплуатации определенного образа с целью сокрытия себя, своего "я"): роль Бога и "совмещение" ее с ролями дьявола, грешника и юродие-вого. Причем, последний образ способствовал "совмещению несовместимого", давал возможность " <...> вести грешный и богомерзкий образ жизни, который одновременно переживается как метафора святости, непонятная "простецам", но ясная для благочестивых" [Лотман, 1992:133]. Кроме того, "естественное для него контрастное пространство" воссоздавалось посредством "противоположных поведений": "безграничный властитель - беззащитный изгнанник" [Лотман, 1992:134]. Выступая в роли "носителя верховной власти", Грозный, стремясь "разнообразить сферы своей компетентноси, вступать в религиозные диспуты и формулировать государственные идеи", безгранично контролирует все "виды" власти. Разыгрываемая Грозным роль "беззащитного изгнанника", по справедливому замечанию Ю.М. Лотмана, прежде всего подразумевала "постоянное восприятие" себя таковым: "Отсюда его маска монаха, часто повторяемые слова о грядущем постриге. Более того, сам эксцесс опричнины включает в себя двойную психологию - поисков безопасного убежища для окруженного врагами изгнанника и самодержавного правителя с безграничной властью. <...> Соединение этих тенденций мы видим в письмах Курбскому, где голоса беззащитной жертвы неправедных гонений и безграничного владыки нераздельно переплетаются" [Лотман, 1992:134]. Подобная маска, самообъективация "вовне", с одной стороны, представляется единственно возможным способом индивида контролировать разного рода явления, реально им неконтролируемые, стать значимым, а с другой - своеобразным средством объяснения себя (немаловажным оказывается тот факт, что использование маски связано с сомнением в собственной ценности с последующим несоответствием между "самоощущением" и "самовыражением"). Показательно, что маска уже в XVI в. сопряжена с мотивом "двойничества": полярные "облики" монарха порождают "раздвоение" страны в социокультуном аспекте - во времена Грозного происходит разделение предшествовавшей культуры на "две противоположные" (земщина как следование старинным обычаям, "заветам отцов" и опричнина как отречение от древней культурной традиции), каждая из которых "осмысляет противостоящую как антитезу, как антикультуру" [Панченко, 1984:145]. Дальнейшее "развитие" "двойничество" получает в петровскую эпоху, когда в результате "личного", "насильственного реформаторского усилия" Петра, происходит "раздвоение" России на два "противостоящих начала" - народ и высшее сословие (отметим, что литературной реализацией данной идеи были пародийные анонимные повести XVII в., близкие к традициям смеховой литературы, например, "Повесть о Горе-Злосчастии", "Повесть о Фоме и Ереме" и др.) [Панченко, 1984: 144]. В целом же культуре петровского времени присуща "маскарадность", "масочность", мысль о поре "веселья". Ориентируясь на Запад, проводя программу европеизации, Петр утверждает нормы барокко (культура барокко представляла мир как театр, людей как актеров) в культуре русской посредством "нарочитой публичности". Наиболее пока- зательны в этом отношении открытие "всешутейшего собора", где Петр, в определенном смысле следуя скоморошьим традициям, играл роль "протодьякона", а также демонстрация "машины беспокойного монастыря". Последняя была "изготовлена" по случаю успешного завершения Северной войны и носила явно зрелищный, "маскарадный" характер: на больших санях, напоминающих трон, ехал "князь-папа", в ногах у него на винной бочке восседал Бахус. "Дальше ехали кардиналы из свиты князя-папы, за ними - "так называемый беспокойный монастырь, принадлежащий на маскараде собственно обществу императора <...>. Позади этой машины, изображавшей нечто вроде головы дракона, стояло несколько смешных масок". Участники процессии были маскированы арлекинами, скарамушами, драконами <...>" [Панченко, 1984: 126-127 - курсив наш - О.О.]. "Масочный" элемент наличествовал и в литературе, особенно проявившись в жанре фацеции (переводные анекдот и новелла, популярные не только в петровскую эпоху, но и на протяжении всего XVII в.): "маску" здесь носил рассказчик, поэт; как правило, это была маска "шута", "комического двойника монарха".
С XVIII в. хорошо известно об увлечении итальянским народным театром "масок", старорусским "народным действом" и пр. При этом, если ранее литературное произведение было, по определению А.А. Фаустова, "лишено собственного бытия" [Фаустов, 1996: 9] и служило "орудием" авторской воли (авторский голос был легко узнаваем), то в XVIII столетии ситуация кардинально меняется - изменяется "статус" и литературного текста и автора. Произведение "обособляется" от автора, в связи с чем "возникает сам вопрос о присутствии художника в его творении - как в чем-то, с ним не совпадающем, другом" [Фаустов, 1996: 14], и автор теперь должен занимать определенную позицию, принимать какие-то "позы".
Примечательна в этом отношении фигура Н.М. Карамзина, с позиции которого не просто литература "переливалась в жизнь, но и жизнь становилась формой литературного творчества" [Лотман, 1984:
528]. Поведение писателя как бы "продолжало" литературу, становилось "культурным фактом" - для читателя они были слиты воедино. В этом плане "намечался дуализм в литературной позе Карамзина" [Лотман, 1984: 528]. После выхода в свет "Писем русского путешественника" за писателем закрепилась не только в литературных кругах кличка "путешественник", но и "двойственность" его образа для читателей ("европеец-русский", "неискушенный юноша, читатель чужих сочинений - писатель, законодатель литературных норм"). В поведении же своем Н.М. Карамзин "представал перед читателями то одним, то другим своим лицом, свободно варьируя стилизуемые им культурные маски" [Лотман, 1984: 528], да и на протяжении всей своей жизни он "экспериментировал, создавая для себя и разыгрывая различные социальные роли" [Ключкин, 1997: 86].
Прием маски, как указывает Ю.М. Лотман, активно эксплуатировался и В.Ф. Воейковым, нередко публиковавшим собственные стихи " <...> то под именами уже умерших поэтов (так он воспользовался именем А. Мещевского), то вымышляя никогда не бывших" [Лотман, 1996: 347]. Поэт явился автором "мистификаций" о многих так называемых "предшественниках" (например, Сталинском). Заметим, что "игра масками" представлялась возможной Воейкову не только на текстовом уровне - в реальной жизни он был "многолик", биография его, по наблюдению Ю.М.Лотмана, "изобилует темными пятнами": " <...> какое-то неясное, но ощутимое отношение имел он к антипавловскому заговору, неожиданное его появление в Москве и пламенные речи на заседаниях Дружеского литературного общества плохо согласуются <...> с его дальнейшей деятельностью [Лотман, 1996: 347]. П.Я.Чаадаев неоднократно собственной поведенческой эстравагантностью ставил в тупик и современников, и в последствие историков культуры. Так, до недавнего времени не имел объяснения достаточно «странный» его поступок: быстрое продвижение по службе, личная заинтересованность Чаадаева в этом и неожиданное добровольное прошение об отставке. Ю.М.Лотман объясняет эпатажное, в определенном смысле, поведение Чаадаева тем, что Чаадаев, учившийся в свое время в Московском университете, где «царил» культ Шиллера, разыгрывал «вариант» «русского маркиза Позы» (героя шиллеровской драмы «Дон Карлос»): « <...> реальное поведение человека декабристского круга выступает <...> в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет - как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл» [Лотман, 1988:180].Таким образом, уже в начале XIX столетия реализация маски как эстетического и культурного феномена (культурного кода - с позицией семиотики) становится возможным как в пределах художественного текста, так и вне его и получает свое дальнейшее и вполне закономерное развитие в творчестве А. С.Пушкина, который в своем творчестве "развил псевдоним в целый художественный образ" [Тюпа, 1983: 70] в "Повестях Белкина", подчеркивая "чужое" авторство не только названием произведения и заключительной ремаркой ("Конец повестям И.П. Белкина"). Весьма показательны воспоминания П.П.Миллера: "Вскоре по выходе повестей Белкина, я на минуту зашел к Александру Сергеевичу; они лежали у него на столе. Я и не знал, что они вышли, и еще менее подозревал, что автор их - он сам. - "Какие это повести? И кто этот Белкин?" спросил я, заглядывая в книгу. - Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно". <...> На другой или на третий день дошел до нас из Петербурга слух, что вышли повести Пушкина под этим именем" [Цит. по: Пушкин, 1990: 432]. "Масочная" стихия отчетливо присутствует и в "Евгении Онегине": Онегин то "корчит чудака", то примеряет маски "Мельмота", "космополита", "патриота", Чайльд Гарольда, Байрона, то "маской щегольнет иной" [Пушкин, 1986: 143]. В.Н.Турбин, правда, называет это "ряжением - двойным, даже тройным": "богиня рядится в смертного, женщина - в мужчину, а затем герой романа уподобляется женщине и к тому же богине" [Турбин, 1996: 47], - относя, очевидно, "переодевание" к одному из способов поведенческой маскировки.
СЕ. Шаталов замечает, что Онегин на протяжение всего повествования примеряет "почти все маски" и "постепенно приходит к своей последней и главной роли: он предстает как лишний человек, чужой своему окружению <...>" [Шаталов, 1986: 42], отождествляя тем самым понятия "маски" и "роли" (в частности, социальной). Ю.М. Лот-ман в известных комментариях к "Евгению Онегину" пишет, что поэтика романа предполагает "двуединую формулу иллюзии действительности", согласно которой герои осознаются читателем и как вымышленные, и как реальные лица одновременно. Это позволило автору не только "подчеркивать" зависимость персонажей, их судеб от создателя, но и "представлять" героев "как своих знакомых". Такая "игра" реальности и "условности" явилась возможной благодаря четкому разграничению автором приемов "типизации героев, являющихся созданием творческого воображения автора, и героев - условных масок реальных лиц" [Лотман, 1980: 28 - выделено нами - О. О.]. Исследователь, на наш взгляд, определяет маску как одну из функций художественного текста, позволяющую автору определенным образом воздействовать на читательское восприятие.
Практика использования масок достаточно характерна для писателей и критиков на протяжение всего XIX столетия. Наиболее показательно в этом отношении создание А.К. Толстым и братьями Жем-чужниковыми знаменитой фигуры Козьмы Петровича Пруткова. Авторы "Пруткова", именовавшиеся его "друзьями" или "опекунами", не только придумали ему биографию (служба в гусарском полку, а затем - директорство в Пробирной палатке), но и наделили "литературными" способностями (известно сотрудничество Пруткова с журналами "Современник", "Искра" и "Развлечение") и талантом драматурга (анонимным дебютом стала комедия "Фантазия" в Александрийском театре, в дальнейшем в "сценических" произведениях Прутков успешно соперничал с создателями драм и водевилей). Обращает на себя внимание тот факт, что перед читательской аудиторией Козьма Прутков, хотя и представал в различных художествен- ных амплуа (создатели, наряжая его то в тогу, то в зипун, превращали современную словесность в маскарадное действо), в конечном итоге разоблачался, подчеркивал свой официальный, чиновничий статус. Можно с уверенностью утверждать, что после появления вымышленной пародийной фигуры Козьмы Пруткова, пародийные маски стали широко использоваться литераторами второй половины XIX века.
Так, поэт И.П. Мятлев, публикуя "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан ля этранже", скрывался под маской героини стихотворного фельетона. Н.А. Некрасов печатал в "Литературной газете" фельетоны в виде писем к "Доктору Пуфу", под чьим именем В.Ф. Одоевский в этой же газете публиковал материалы на хозяйственные темы, то есть поэт придавал персонажу Одоевского черты реально существующей личности. Д.Д. Минаев публиковал свои обличительные стихотворения под сатирической маской грубого и тупого отставного майора Михаила Бурбонова. Литератор И. Сен-ковский печатал в "Сыне отечества" серию фельетонов "Листки барона Брамбеуса", причем, сатирическое имя-маска переросло в его постоянный псевдоним наряду, заметим, с Карло Карлини и Тютюджо Оглы). Известный литературный критик Б.А. Алмазов, будучи склонным к разного рода мистификациям и розыгрышам, подписывал свои фельетоны, пародии и статьи именем придуманного им персонажа Эраста Благонравова. Эта маска в комичной и несколько шаржированной форме представляла собственный его портрет. Думается, что в образе Эраста Благонравова критик пытался прежде всего имитировать "лицо времени", а обыкновенная жизнь и обыкновенный человек к тому же получали здесь своего "культурно-значимого" двойника.
В начале XX в. в культурную жизнь столицы все шире проникает игровая, фарсовая, карнавальная стихия, основанная на "гипертрофии материальных явлений" [Турбин, 1990: 23], связанная с осмеянием и перевоплощениями и явившаяся одним из важнейших жанровых и стилеобразующих факторов "новой словесности". Одной из основ карнавальной культуры Серебряного века является, таким образом, "принцип театрализации-маски, ложной перспективы, подмены одного другим в использовании выразительных средств" [Кото-вич,1998: 40]. Возникающее как закономерное продолжение романтического и постромантического увлечения "маскарадной" культурой 18 в., "вертепным театром", французским символизмом и английским неоромантизмом стремление скрыть свое истинное лицо, надеть на себя новую "личину" и подстроить под нее не только свое творчество, но и бытовое поведение характерно для многих фигур петербургского культурного пространства 1900-1910-х гг. Это была, - по примечательному выражению К.Г.Исупова, "театрализованная эпоха мучительной мимикрии жизни" [Исупов, 1992: 31].
В этой атмосфере сложились оригинальные культурно-художественные явления карнавально-масочного характера и свойства - "Старинный театр" Н.Н.Евреинова, Передвижной театр П.П. Гайдебурова и Н.Ф.Скарской и др. В 1906 г. в Петербурге для узкого круга художников и литераторов устраивались так называемые "Вечера Гафиза", участниками которых были Вячеслав Иванов и его супруга Л. Д. Зиновьева-Аннибал, М. Кузмин, К. Сомов, С. Городецкий, С.А. Ауслендер, А. Бакст и др. Каждый из них имел дружеское прозвище, выбранное из античности или из "областей, связанных с Востоком". "Перед началом собраний участники их переодевались в стилизованную восточную одежду <...>, переходили в комнату, стилизованную под восточный пиршественный зал, и за легким ужином, сопровождаемым большим количеством вина, проводили большую часть ночи" [Богомолов, 1996: 109].
Карнавальная атмосфера царила и в поэтическом салоне "Бродячая собака", с 1911 г. принимавшем литературную и артистическую богему ночного Петербурга. "Бродячая собака" была "порождением" своей эпохи, "ее "малым образом", быть может, кривым, но зеркалом все же <...>" [Парнис,1985: 160]. Почву для ее появ- ления подготовили несколько "опытов" русского кабаре: "Летучая мышь", открытая в 1908 г. актерами МХАТ, и "Дом интермедий", организованный в Петербурге в 1910 г. при участии В. Мейерхольда и Б. Пронина, - уже здесь искались "сценические формы вовлечения публики в сценическое действие" [Парнис, 1985:161]. Основной предпосылкой "собачьего" бытия было деление человечества на две неравные категории: на представителей искусства и на "фармацевтов", под которыми подразумевались все остальные. Этот своеобразный взгляд определял тот "кастовый" подход к миру, в котором воспитывались поколения "служителей муз". Вдохновитель и "бессменный директор" "Бродячей собаки" - Борис Пронин - часто устраивал здесь театрализованные представления, маскарады. Завсегдатаи салона надевали здесь "еженощные" маски, уничтожаемые рассветом; "красивое" здесь смешивалось с уродливым, "истинно художественное"- с "притворным" и "напряженно надуманным". В этом литературном "кабаре" зачастую жизнь путалась с театром, "проза" -с "поэзией", "правда" - с "вымыслом", посетители здесь как бы "преображались в какие-то иные существа, в каких- то <...> фантастичных и сугубо вольных "бродячих", "бездомных" собак из царства богемы" [Парнис, 1985: 173].
Наследником" "Бродячей собаки" предстает театр "Привал комедиантов", просуществовавший с 1916 по 1919 гг. Здесь также происходило "воскрешение" древней карнавальной традиции. Вообще, следует заметить, что одним из самых "глубинных" в искусстве рубежа веков был "образ игрового непостоянства человеческого бытия и человеческой личности", театр особенно привлекал поэтов, художников и драматургов возможностью "игрового, ироничного постижения глубоко лежащих явлений жизни" [Батракова, 1984: 92].
В поэтическом кружке "Омфалос", который рождается исключительно как закономерный итог культурно-художественной практики Серебряного века, переосмысленной и пародируемой младшими его современниками (среди них Н.М. Бахтин и его однокашники, актив- ные участники культурной жизни Петрограда середины 1910-х гг. [см.: Эджертон, 1990, Осовский, 1991]), игровая стихия проявлялась прежде всего в тексте. Сюда входили "люди в большинстве случаев образованные, ученые, которые собирались и писали всевозможные шутливые, преимущественно пародийные вещи<...>" [ Дувакин, 1996: 52]. Мир искусства, породивший Бакста, Добужинского, Бенуа, Сомова и Лансере, мир, воспитавший Белого, Блока, Вяч. Иванова, непрестанно примерял на себя маски персонажей комедии "дель арте". Театр, столь любимый модерном, щедро раздавал личины для множества лицедеев Серебряному веку - от Арлекина (маски веселья) и Коломбины (маски непосредственности и ветрености) до Пьеро (маски меланхолической грусти) и Смерти (маски горя). Тему арлекинады, трагический сюжет любви и смерти Пьеро, Коломбины и Арлекина по-разному интерпретировали Н.В. Мейерхольд (спектакль «Шарф Коломбины», 1910; 1916), Н.Н. Евреинов (пьеса «Веселая смерть», 1908), М.М. Фокин (балет «Карнавал», 1910), И.Ф. Стравинский (музыка к балету «Петрушка», 1911). Сходные тенденции прослеживаются в живописи К.А. Сомова (иллюстрации к "Книге Маркизы", 1919), А.Н. Бенуа (от "Последних прогулок короля", 1897 и "Арлекиниады", 1906, до "Арлекиниады", 1921).
Ярчайшими карнавальными фигурами Серебряного века можно считать Н.Клюева и М.Кузмина, представавших перед читателями "то одним, то другим" своим лицом, варьируя "стилизуемые" ими культурные маски. Н.Клюев выступал, к примеру, в роли праведника, старообрядца и страстотерпца, хотя реальная его фигура, равно как и поведение в быту имели явственно иную направленность. По поводу М.Кузмина можно сказать, что его биография вообще насыщена "легендами" и "апокрифическими сведениями", восходящими порой к мистификациям его самого. Современникам поэта казалось, что на нем "надета" маска, что "он наложил на себя какой-то добровольный тяжелый искус" [Шайкевич, 1991: 106], и истинное лицо свое, "многострадальное", "волнующее", "строгое", он "приоткрыл" лишь в книге "Плутарх". Сам Кузмин отмечал, что в душе его - "сумбур". И объяснял это в своем дневнике следующим образом: "<...>но если у меня три лица, то больше еще человек во мне сидит, <...> и временами один перекрикнет другого <...> Мои же три лица до того непохожи, до того враждебны друг другу, что только тончайший глаз не прельстится этою разницей <...>; одно из них, суть: с длинною бородою <...>, очень изнеженное и будто доброе и какой-то подозрительной святости <...>; второе, с острой бородкой несколько фатовское <...>, более грубо-тонкое, равнодушное и скучающее <...>; третье, самое страшное - без бороды и усов, не старое и не молодое, 50-летнего старика и юноши <...>, сухое и подозрительное" [Цит. по: Шумихин, 1990: 235]. Перед читателями поэт надевал маску тонкого эстета, своеобразного русского "Дориана Грея". В ряде произведений М. Кузмин, наряду со своим другом Князевым, разыгрывает "традиционную комедию масок". "В ответ на князевское "Пьеро, Пьеро, - счастливый, но Пьеро я ..." у Кузмина появляется "В грустном и бледном гриме Играет слепой Пьеро". Причем, Кузмин приобретает черты "зловещего Арлекина" - как в стихах Князева, так и в "Поэме без героя", где "появляется под маской Арлекина - убийцы" [Богомолов, 1996: 177]. "Играл без оглядки" В. Маяковский, напоминавший всем своим обликом то "байроновского поэта-корсара", то "члена сицилийской мафии" [Крышук, 1989: 121]. И.Северянин "с претенциозностью провинциального гения", заявлял в своих первых брошюрах, что "молодых поэтов и поэтесс принимает по четвергам, издателей - по средам, а поклонниц - по вторникам" [Крышук, 1989: 120], однако не было у него в то время ни поклонниц, ни издателей. Роль "крестьянствующего поэта" примерял Городецкий (равно, как и Клюев): на вечерах, устраиваемых им совместно с поэтами "народной школы", под косовороткой у мэтра "можно было различить очертания твердого пластрона"- это означало, что "после вечера запланировано ехать в изящный клуб" [Крышук, 1989:120]. А. Блок, по воспомина- ниям современников, носил "маску бесстрастной холодности", "лицо без мимики". У многих эта "маска" вызывала "ощущение презрительности, надменности, высокомерия", однако, Городецкий, близко знавший поэта, отмечал , что в дружеской беседе "каменная маска" с него спадала [Крышук, 1989:123], мало того, за ней продолжала жить "детская, доверчивая, тревожная душа".
Большое место перевоплощения, выдумка, шутка, игра занимали в жизни и творчестве А. Ремизова, который учреждает "Великую Вольную Обезьянью Палату", или "Обезволпал", "Озорную Академию", в роде "всешутейшего собора" [Добужинский, 1987: 277; недавнюю интерпретацию данного феномена см.: Обатнина, 1998]. Это был, по словам А.Н. Бенуа, своеобразный "игровой" орден, выражавший дар Ремизова "создавать вокруг себя сказочное настроение" [Резникова, 1990: 380]. Ремизов был в ней канцеляристом, рисовальщиком "обезьяньих грамот", "творцом титулов". В его "академию" входила литературная и артистическая богема, активно выступающая против пошлых условностей окружающей действительности (Добужинский, Бенуа, Горький, Толстой, Шаляпин и др.). Палата была для писателя выходом их "ограниченной трехмерности, неприятием нормальной "нормы", обязательной для человека" [Резникова, 1990: 380]. Кроме того, в раннем своем творчестве Ремизов пользовался масками и возможностями, которые они предоставляли: "Его герои постоянно и неостановимо меняют свои маски в зависимости от того, носителями чего они в данный момент являются" [Чуйкова, 1985: 71]. «Ремизовские», условно говоря, традиции оказались невероятно "живучи", сохранившись в реальной культурной ситуации Петрограда-Ленинграда 1920 - начала 1930-х гг., в частности, в игровой практике "Обэриутов" и близкого к ним объединения "Чинарей", состоявших практически из одних и тех же действующих лиц (Хармс, Введенский, Друскин, Липавский, Олейников), в чьих текстах и жизни истинная реальность заменялась реальностью "другой". "Обэриуты" были склонны к "перевоплощению", причем "поэтические" их лица делались Устраненными", иногда "мертвели". Подобная анемия лица объясняется "сделанностью" мира художественного по меркам мира реального: "Они ("литературные" лица обэ-риутов - О.О.) несут его печать, поэтому и выглядят такими мертвыми. <...> Лицо поэта должно быть непроницаемо, ровные наросты избранной маски, белое поле лицевого спазма, которое невозможно пройти ни в каком направлении" [Подорога, 1993:143-144 - курсив наш - О.О.]. Одним из основных принципов жизненного поведения "обэриутов" был принцип "театрализация": ими избирались не только индивидуальная поведенческая модель, но и маски, "примеряемые" как в текстовом, так и в реальном пространстве.
Так, Н.М. Олейников нередко называл себя внуком Козьмы Пруткова, посвящал его памяти стихи. Уже в шуточных "детгизовских" стихотворениях намечается, по точному наблюдению Л.Я. Гинзбург, "травестийный метод" Олейникова - "игра сменяющимися масками" [Гинзбург, 1991:9 - курсив наш - О.О.]. В своем творчестве поэт примерял маски "высокопарного обывателя", "резонера", "мудреца-наблюдателя", "служителя науки", "вульгарного эстета", которые можно считать "языковыми", поскольку в основе их - "различные пласты лексики ("Хвала изобретателям", "Перемена фамилии", "Бюджет развратника" и т.д.). Эти маски необходимы Н. Олейникову как одно из средств борьбы литературного поколения 1920-х гг. против изжитого наследия эстетизма и символизма 1910-х гг., они явились "реализацией борьбы с системой бутафорских значений, литературной "тары" для уже несуществующих ценностей" [Гинзбург, 1991:14]. Кроме того, на страницах "Ежа" поэт создает образ "отважного всадника, неутомимого изобретателя и любознательного путешественника - Макара Свирепого", причем "юмористическая окраска текста и блестящие иллюстрации" А. Успенского, Б. Антоновского, Б. Малаховского "с тонкой иронией" сохранили "портретное сходство героя и автора" [Олейникова, 1991: 38]. Отметим, что Н. Олейников использовал маски не только в пре- делах художественного текста: по многочисленным воспоминаниям современников, в реальной жизни поэт, обладавший немалым актерским дарованием, мгновенно перевоплощался в офицера, бродячего певца, петербургского старожила и т.д. Склонность к перевоплощениям объясняется не только личным талантом Олейникова, но и благодатной атмосферой "непрекращающейся буффонады, розыгрышей, мистификаций", царившей в Детгизе: здесь перед случайными посетителями Н. Олейников, Е. Шварц, И. Андроников разыгрывали "импровизированные спектакли", а по выходным Н. Заболоцкий, Н. Олейников, Л. Савельев и Д. Хармс устраивали "Клуб малограмотных ученых".
Театрально-балаганная стихия была достаточно близка характеру Д.Хармса: действующие лица его произведений "масочны, то есть условны, так же как и место действия" [Александров, 1988: 32; см. также: Shukman, 1989]. В реальном своем существовании поэт создал четко продуманную "систему поведения" - "от одежды и собственного алфавита до стихотворных заклинаний и масок-псевдонимов", смысл которой состоял в том, чтобы "помочь художнику не подчиняться косности быта и жить романтической устремленностью к высокому" [Александров, 1988:15]. На протяжении всей жизни, как реальной, так и литературной, Хармс "играл" в необычного человека, совершающего странные, порой загадочные поступки: выдумал себе биографию, мистифицировал друзей, изображал своего несуществующего брата - И.И.Хармса, бывшего приват-доцента С. -Петербургского университета, часто менял псевдонимы. Смена псевдонимов сопровождалась изобретением различных масок: известны случаи, когда Хармс читал однажды стихи со сцены, "украсив" голову весьма странным колпаком, в начале 1930-х гг. он, нарядившись бродягой, прогуливался по Невскому проспекту.
Таким образом, становится совершенно очевидным, что использование масок среди литературной богемы являлось настолько расхожим, что отсутствие таковой у поэта Саши Черного было, как от- мечал Н.Гумилев, весьма положительным моментом: "Саша Черный симпатичнее уже тем, что он не надевает никакой маски, пишет, как думает, и он не виноват, что это выходит жалко и смешно. Для грядущих поколений его книга будет драгоценным пособием при изучении интеллигентной полосы русской жизни" [Гумилев, 1990: 218].
Говоря же о попытках осмысления феномена маски, "масочный" характера взаимоотношений поэта-творца с грубой реальностью, отметим, что последний обретает философско-эстетическое обоснование прежде всего в крайне популярных у аудитории "Серебряного века" текстах Ф.Ницше. Достаточно упомянуть ницшевскую "По ту сторону добра и зла", где поэт и философ однозначно утверждает, что каждое суждение, мнение "скрывает" какое-то "убежище", а слово, в свою очередь, - "некую маску". Маска мыслится философу следствием стыдливости и желанием скрыть свой собственный облик, "способом уклонения от сообщительности". Любой "глубокой" вещи, по мнению Ницше, присуща маска: "Все глубокое любит маску; всякие глубокие вещи питают даже ненависть к образу и подобию. Не должна ли только противоположность быть истинной маской, в которую облекается стыдливость некоего божества?<...> Всякий глубокий ум нуждается в маске, - более того, вокруг всякого глубокого ума постепенно вырастает маска, благодаря всегда фальшивому, именно плоскому толкованию каждого его слова, каждого шага, каждого подаваемого им признака жизни" [Ницше, 1990: 272].
Под определенным влиянием ницшеанской идеи маски и книги П. Сизерана "Маски и лица Флоренции..." в 1910-х гг. в работах М.А. Волошина возникает идея маски как "духовной одежды" лица (показателен дополнительный историко-литературный штрих - именно Волошин вместе с М. Кузминым в 1912 г. выступил редактором "Книги масок" Р. де Гурмона). Как уже было отмечено, проблема маски интересовала в начале XX столетия русскую художественную интеллигенцию, в определенном плане затрагивалась и литературной критикой, близкой к символизму, поэтому появление работ М. Воло- шина, в частности, книги "Лики творчества" не было случайным и легко "вписывалось в эстетику символизма" [Купченко, Мануйлов, 1989: 592]. К тому же, исследуя в своих театрально-критических работах "организм" театра, театральную стихию и искусство вообще, фигуры актера, зрителя и автора как "осязаемые маски трех основных элементов", образующих любое произведение искусства. "Момент жизненного переживания, - отмечает он, - момент творческого осуществления и момент понимания - вот три элемента, без которых невозможно бытие художественного произведения" [Волошин, 1989: 112]. По мнению автора, произведение начинает существовать не с того момента, когда оно было создано, а лишь тогда, когда оно было понято. То есть здесь, по убеждению исследователя возникает "правильно построенная триада": "переживание- это положение, творчество, по внутреннему смыслу своему противоречащее переживанию, - противуположение, понимание - обобщение" [Волошин, 1989: 113].
Сопоставляя французский и русский театр, в частности, и искусство в целом, Волошин обращает внимание на существенные различия между ними, - различия, кроющиеся, прежде всего, в самих людях. Так, в Париже замечается "известная ритмическая повторяемость лица" [Волошин, 1989: 122] - одна из масок города, совершенно необходимая, поскольку здесь лицо, лишенное маски, дает "стыдное" ощущение наготы. Маска проявляется не только в лице, но и в жестах, интонации, голосе, то есть во всем, что в известной степени может скрыть "личность". "Маска города" есть "естественное следствие" стыдливости и самосохранения (ср. эту же идею с утверждением Ницше). Маска в связи с этим настолько плотно "прирастает" к людям, что они просто "забывают" о своем лице. Множество масок находится и в распоряжении художника, главное- уметь их подобрать и скомбинировать. Сюжеты, интриги, развязка произведений меняются медленно, гораздо интересней выбор масок, которые находятся в распоряжении автора.
Однако, театральные маски лишь сначала бывают живыми фигурами, от "частого употребления" они начинают "стираться", становятся "отвлеченными схемами", затем - марионетками и, наконец, карикатурами. Аналогична, заметим, и точка зрения младшего "воспитанника" Серебряного века Р. Якобсона, который, правда, пользуется для обозначения того же понятия иным термином - амплуа: "<...> различают амплуа и роли; амплуа постоянны <...>: например, амплуа первого любовника, интриганки, резонера не зависит от того, является в данной пьесе первым любовником офицер или поэт, или от того, кончает он с собой в конце пьесы или благополучно женится" [Якобсон, 1987: 146] (сходное понимание маски, применительно к античной драме, дает О.Шпенглер, отождествляющий маски с ролями, которые "малоподвижны", являются, по сути, "замаскированными телами"; маска же в античной драме "оказывалась глубоко символической внутренней необходимостью", они не имели мимики (Шпенглер, 1993: 591]).
Образование маски, по мнению М. Волошина, является "глубоким моментом" в образовании человеческой личности и лица. Она составляет "необходимое свойство" лица, его "духовную одежду", "средство самозащиты": "Маска - это священное завоевание человеческого духа, это <...> - право неприкосновенности своего интимного чувства, скрытого за общепринятой формулой" [Волошин, 1989: 122]. Но "примерять", "носить" маску может лишь лицо, живущее сложной духовной жизнью, а для этого оно должно научиться лгать. "Только то лицо - действительно лицо, которое может одним внутренним движением воли себя закрыть и себя выявить", - пишет Волошин [Волошин, 1989: 403]. Процесс образования маски он объясняет следующим образом: ребенок имеет наивное и правдивое лицо, но как только начинается процесс самопознания, наивность и непосредственность исчезают. Лицо "растет и углубляется", пережитое накладывает на него свой отпечаток. И как только человек осознает себя индивидуальностью, замечает свою непохожесть на других, он "инстинктивно" старается остаться внешне похожим на всех, то есть приучается лгать, скрывая свои чувства за маской. Маска определяется как "условная ложь". "Лицо начинает лгать только потому, что оно вдруг сознало свою способность раскрывать правду более глубокую, которую опасно раскрывать перед всеми", - заключает Волошин [Волошин, 1989: 404].
Поэт и критик размышляет также и над типами масок, выработанными "бытом и модой". Простейшей формой он считает маски профессий, высшей - маски "индивидуальных типов и темпераментов, осуществляющие в себе известные идеалы моды и часто литературы" [Волошин, 1989: 402]. С одной стороны, ту или иную маску заставляет принять общество, которое опасается "всякой эксцентричности". С другой стороны, "для натур скрытных и не желающих ежеминутно выявлять себя и обнаруживать каждое свое душевное движение, маска является убежищем, раковиной, в которую они прячутся, своего рода правом неприкосновенности личности" [Волошин, 1989: 402]. Однако маска не есть только способность к мимикрии, она - искусственно созданный механизм, который изображает живого человека, "необходимое свойство" лица, его "средство самозащиты". Лицо не может лгать, пока на нем нет маски: оно не может само себя закрыть "в минуту сокровенного волнения", лишь маска "убежище" его.
Весьма характерным в этом контексте представляется "перевоплощение" в начале 1908 г. поэта С.В.Кисина, известного в литературно-художественных кругах под псевдонимом Муни, в "особого человека" Александра Александровича Беклемишева. В. Ходасевич в "Некрополе" вспоминал: " <...> Месяца три Муни не был похож: на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли .<...> Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы" [Цит. по: Зорин, 1988: 27]. Мистификация была достаточно утомительной и для Ходасевича, и для самого Муни, охваченного чувством "призрачности" собственного существования, поэтому в конце концов В. Ходасевич напечатал в одной из газет собственные стихи под псевдонимом "Елизавета Макшеева", посвященные Беклемишеву и содержавшие "насмешливое разоблачение беклемишевской тайны" [Зорин, 1988: 27].
Показательно, что случай Ходасевича - Муни не является единичным. Спустя несколько лет в Петербурге разразился литературный скандал, связанный с появлением такой мифической личности-маски, как Черубина де Габриак, вести о которой распространял С.К. Маковский (редактор и издатель журнала "Аполлон"). Поверивший в реальность мистификации, последний возвел ее в "графское достоинство", рассказывал, что "отец Черубины - француз из Южной Франции, мать - русская, что она воспитывалась в монастыре Толедо и т.д. <...>" [Волошин, 1990: 183]. В "таинственную незнакомку" влюблялись поэты, ее стихами восхищались маститые критики, но парадокс заключался, как известно, в том, что никакой Черубины в действительности не существовало: маска была придумана М. Волошиным для Е.И. Дмитриевой, писавшей в то время "милые простые стихи". Стихи под псевдонимом Черубины посылались Маковскому, который и решил, что мадам де Габриак реальная женщина. Волошин и Дмитриева таким образом "получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались" [Волошин, 1990: 184]. То есть это была всего лишь удачная мистификация, Маковский же сам создал себе романтический образ женщины, явившейся воплощением его идеала, которая не могла его разочаровать, так как "эта женщина была призрак". Такова оказалась предельная ситуация маски, обретающей вдруг кровь и плоть, не только в сугубо литературном контексте, но проникающей в реальную жизнь.
Испытавший отчетливое воздействие философии Ницше, автор оригинальной философско-эстетической концепции "современного дионисийства", поэт и критик Вяч. Иванов, признанный и в России, и на Западе одной из главных фигур, определивших своеобразие гуманитарного мышления XX века, исследуя идеологию и мировосприятие Ф.М. Достоевского, выделяет в личности писателя разделение на внутреннее "я", духовно перерожденное, и его "двойника"- "я" внешнее. "Оставив внешнего человека в себе жить как ему живется, он [Достоевский] предался умножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне уже не связанного с определенным ликом, но всевеликого, всечеловеческого я", - отмечает мыслитель.
Проблема маски как одной из ипостасей автора нашла отражение в творчестве А. Белого, который писал в "Эпопее": "Назначение этого дневника сорвать маску с себя как с писателя и рассказать о себе, человеке навек потрясенном" [Белый, 1916: 40]. Белому - символисту была присуща "система фантасмагорического мышления, где жизнь - кружение масок" [Тимина, 1989: 13]. Со временем, претерпев известную творческую и мировоззренческую эволюцию, Белый - автор "Москвы" и "Петербурга" - мыслит маски не только "способом сокрытия" себя самого и других, но и средством, с помощью которого возможно "обывательской ухмылкой замаскировать крушение мироздания" [Тимина, 1989: 13]. Именно так действуют персонажи "Москвы": главные действующие лица первых двух частей трилогии в последней части ("Маски") примеряют маски, появляются под другими именами и фамилиями, но эта "игра" предусмотрена самим названием. Карнавально-масочная стихия воплотилась и в стихотворном творчестве поэта ("Маскарад", 1908; "Праздник", 1908; Вакханалия", 1906; "Арлекинада", 1906), А. Блок завершает в 1907 г. цикл стихотворений "Снежная маска" и т.д.; во многих стихах В. Брюсова ("Жизнь", 1907; "Она", 1913; "Роковой ряд"; "Венок сонетов", 1920) ярко выражено игровое начало: поэт "жестко" различал игру как "безответственную режиссуру чужой судьбы", игру как "подневольную призванность к роли" и игру как "добровольно принятую ролевую "маску", театрализованное амплуа" [Исупов, 1992: 49].
Подобное отношение к маске у писателей, поэтов и критиков Серебряного века находит свое естественное продолжение в литера турно-критических текстах и теоретических построениях последую щего десятилетия. Так, еще одно определение образа автора как мас ки обнаруживается у Ю. Тынянова, чьи литературоведческие работы 1921-1925 гг., вне всякого сомнения, несут отпечаток влияния ли тературы и эстетики предшествующего периода - с учетом всех жан ровых и стилистических проблем, попыткой разрешения проблемы автора. Так, в статье "Достоевский и Гоголь" (1921) автор рассуждает о "масках" у Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. Тынянов отмечает, что Достоевский, отказываясь от изображения "типов", пользуется "вещными" и "словесными" масками, создавая определенные харак теры. Создается впечатление, что творчество Достоевского Тынянов изучает как творчество "тонкого мастера индивидуальных масок", по меткому определению Б.Эйхенбаума, как творчество "художественного стилизатора и пародиста".
Наиболее же интересной, на наш взгляд, работой 1920-х гг. по проблеме маски представляется статья известного критика И. Груздева, много лет спустя столь высоко оцененная М.М.Бахтиным1. Уже в начале своей статьи Груздев замечает, что художник, автор какого-либо произведения - всегда маска. Театральная маска, например, имеет глаза, рот и нос, но тот, кто примет ее за истинное лицо актера, "напрасно ходил в театр: он не понял его сути" [Груздев, 1922: 208]2. Так и лицо художника, считает он, всегда скрыто - "видима только маска". Маска, самопародия необходимы художнику: за !"Его [Груздева] статья об авторских масках, - отмечал М.М. Бахтин, -очень интересная статья, в свое время новаторская в литературоведении" [Дувакин, 1996: 189]. 2Ср. сходное понимание у А.Камю, полагающего, что искусство актера -"притворство", "максимальное проникновение" в чужие жизни. "Маски <...>, подчеркивающий черты лица грим, костюм <...> - в этом универсуме все принесено в жертву видимости, все создано для глаз" (Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С.68). "примитивным" рассказчиком всегда стоит "иронический автор", который иногда "срывает маску и разрушает иллюзию" [Груздев, 1922: 220]. Обычно автор находится вне повествования, не принимает участия в действии и "не заслоняет собой хода событий, он ведет повествование, выражая свое отношение к происходящему, словно подмигивая читателю" [Груздев, 1922: 218]. Прием этот, отмечает автор статьи, можно найти в двух видоизменениях. Во-первых, автор выдвигается в роли рассказчика, в связи с чем в произведении создается иллюзия его настоящего голоса, появляется авторское лицо, вплоть до "портретных признаков". Это есть, пишет исследователь, своеобразная игра на "тождестве" автора и рассказчика- очевидца. Во-вторых, автор "гримируется": "кривит лицо в гримасу, меняет тембр голоса; рассказчик является особым персонажем, дополнительным характером повести, маской автора" [Груздев, 1922: 219]. Как правило, рассказчик в произведении скрыт, читатель лишь слышит его голос, интонации, воображает мимику. Однако, в тон рассказчика иногда вплетается и противоположный, таким образом, происходит обнажение авторского лица, или, по словам И.Груздева, "срыв маски". Обычно же рассказчик - маска не имеет внешних очертаний, и художественная "выразительность" его в том, что он, "находясь вне происходящего, проявляет к нему свое отношение и, таким образом, заставляет читателя воспринимать события под известным углом" [Груздев, 1922: 227]. Хотя работа И. Груздева и является одной из первых по проблеме маски в отечественном литературоведении XX столетия, но здесь до конца не разрешается вопрос об авторе как носителе маски, а также не проводится грань между автором, автором-рассказчиком и героем.
В это же время - во многом как результат влияния литературной и культурной практики Серебряного века - возникает идея маски-личины как одной из ипостасей внутреннего образа человека через внешние его проявления у М.М. Бахтина: " вне героя и его собственного сознания нет ничего устойчиво реального <...>, нет органиче- ской слиянности внешней выраженности героя <...> с его познавательно-этической позицией, эта первая облегает его как неединственная и несуществующая маска или же совсем не достигает отчетливости, герой не повертывается к нам лицом, а переживается нами изнутри <...>, наконец, завершающие моменты не объединены, единого лика автора нет, он разбросан или есть условная личина" [ЭСТ, 1986: 20]. В данном случае обращает на себя внимание стремление автора не столько к литературоведческой, сколько к философско-эстетической и психологической трактовке понятия.
К началу 30-х гг. бахтинская трактовка маски несколько меняется, что связано, в первую очередь, с окончательной сменой вектора его научных интересов. Для Бахтина, автора "Слова в романе", принципиально значимо то, что "полумаска" шутовского, плутовского романа "в атмосфере всеулегчающего веселого обмана <...> сменяется подлинным художественно-прозаическим образом лица" [ВЛЭ, 1976: 220]. В дальнейшем, под очевидным влиянием фрейденберговской "Поэтики сюжета и жанра" (1936), оказавшей решающее воздействие на бахтинскую концепцию смеховой культуры, ученый избирает иную трактовку данного вопроса: он связывает маску с осмеянием, перевоплощением, "с отрицанием тупого совпадения с самим собой" [ТФР, 1990: 48]. Это все та же маска шута, трикстера, пикаро, берущая свое начало в древнейших традициях смеховой культуры.
Исследователь считает маску важнейшим и "многозначнейшим" мотивом народной культуры. В ней воплощено игровое начало жизни, в основе ее - особое отношение действительности и образа, характерное для древнейших обрядово-зрелищных форм.1 По мнению ученого, маска связана с нарушениями, метаморфозами 1 Й.Хейзинга, рассматривая игровое начало в архаических культурах, отмечает, что культовое действо являлось "изображением", "предъявлением", своего рода драматическим представлением, воплощенным в образах, "замещающих претворение". Кроме того, в драме актер, "находящийся за пределами обычного мира, благодаря надетой маске, словно перемещается "естественных границ", "с веселым же отрицанием тождества и однозначности, с отрицанием тупого совпадения с самим собой" [ТФР, 1990:48]. Естественно, символика маски сложна и многозначна- исчерпать ее невозможно, но, как отмечает Бахтин, пародия, "кривляння", гримаса есть, по существу, "дериваты" маски. Функции маски, как полагает исследователь, существенно изменяются в историческом времени: маска получает ряд новых значений в романтическом гротеске, где она оторвана "от единства народно-карнавального мироощущения" [ТФР, 1990: 48], здесь маска что-то скрывает, утаивает и обманывает (если маска функционирует в "органическом целом" народной культуры, подобные значения невозможны). В романтизме, по мнению М.М. Бахтина, маска утрачивает свой возрождающий и обновляющий момент и приобретает "мрачный оттенок". Если в народном гротеске за маской всегда стоит многоликость и неисчерпаемость жизни, то в романтическом гротеске "за маской часто оказывается страшная пустота" [ТФР, 1990: 48]. И все же маска всегда "окутана" особой атмосферой, она "никогда не может стать просто вещью среди других вещей" [ТФР, 1990: 48].
Комментируя данное высказывание М.М.Бахтина, американский литературовед и философ А. Михайлович справедливо отмечает: "...Термин воплощение и его варианты использованы для описания трансформации внешности или физического существа. Поскольку Бахтин употребляет его для обрисовки онтологического источника карнавала (т.е. гротескного тела), а не самого феномена, маска (тотем карнавала) метонимически трансформируется в особенно выразительную сущность данного источника - отсюда вытекают бахтинская характеристика маски в ее связи с веселой изменчивостью и перевоплощением и его утверждением, что принцип игры находит в ней свое воплощение" [Михайлович, 1995: 161]. в иное "я", которое он уже не представляет, а осуществляет, воплощает" (Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 166.)
Весьма сходное понимание маски мы действительно находим у О.М.Фрейденберг. Древний мир, по словам исследовательницы, создает "изумительную систему масок? которые покрывают пестрое лицо жизни безапелляционным равенством изнутри идущих рубрик" [ПСЖ, 221]. Лицо (понимаемое вовсе не как "лик - личина" у Бахтина и приравненное к фигуре актера) выступает лишь носителем маски и способно меняться, маска представляет собой родовой образ и остается неподвижной. Фрейденберг видит идею маски в виде "раз и навсегда данной неизменности при смене носителей в метафорах пола, возраста, количества лиц, социального положения, наружности и характера персонажа" [ПСЖ, 219]. Причем, отмечает она, пол, возраст, характер предстают как "стоячие", то есть "стабильные", постоянные маски. Каждая метафорическая маска стабильна в своем семантическом значении. Маска потоянных свойств героя, считает О.М. Фрейденберг, - эпитетность, наречение героя постоянным, присущим ему обозначением (внутренний характер персонажа выражается при посредстве внешних, физических черт).
Опора на историко-эстетические поиски и интенсивное использование фактического материала Фрейденберг в работе о Рабле не помешала Бахтину в дальнейшем диалогически сохранить в своем понимании категории маски оба начала. Уже в тексте "К философским основам гуманитарных наук" исследователь видит в "маске", наряду с "рампой" и "сценой", одну из "форм выражения представительности бытия <...> и бескорыстия отношения к нему"1 [СС, 1996: 8], целенаправленно связывая ее со смеховыми формами общения.
В работе "Формы времени и хронотопа в романе" М.М. Бахтин отождествляет действительность, современную автору, с изображае- 1 Определение М.Бахтина в немалой степени созвучно позиции К.-Г.Юнга: маска своего рода «инсценирование индивидуальности», она призвана и «производить на других определенное впечатление», и скрывать истинную природу индивидуальност» [Юнг, 1996: 258]. Заметим, что близкие по времени создания тексты российского мыслителя и швейцарского психоана- мой в романе. В связи с этим "автор-творец" в художественно изображенном мире имеет свою позицию, но поскольку сам он не может стать одним из художественных образов, ему необходимы "формальные заместители": "Романист нуждается в какой-то существенной формально-жанровой маске, которая определила бы как его позицию для видения жизни, так и позицию для опубликования этой жизни" [ФВХ, 1986: 311]. Маска, при помощи которой автор одновременно "скрывает" и "являет" себя, есть "образ автора". Интересно то, что увидеть действительность и выразить ее истинную "суть" автор может лишь при помощи маски "шута" или "дурака".
В позднем творчестве М.М. Бахтин возвращается к раннему пониманию маски как возможности "оформления себя не изнутри, а извне" [СС, 1996: 352], с одной стороны, и одновременно выводит в "Проблеме текста" фактическую оппозицию "маски автора (образы автора) и сам автор" [СС, 1996: 318].
В записках 1970-1971 гг. М.М. Бахтин, во-первых, противопоставляет "формы речевого авторства" авторству литературному (в последнем случае, отмечает он, "принято говорить об авторской маске" [ЭСТ, 1986: 357]). Авторство всегда предполагает маску, считает ученый, а авторские формы (маски) зависят от жанра и могут быть "узурпированными и условными" [ЭСТ, 1986: 358] . Не может быть маски в форме "простого безличного рассказа литературным языком, но близким к разговорному" [ЭСТ, 1986: 354]- такой рассказ приближен и к героям, и к "среднему" читателю.
Показательными в этом контексте являются так называемые "маски" самого М.М. Бахтина. В научном мире давно известны по меньшей мере три крупных работы: "Фрейдизм" и "Марксизм и философия языка", книги, изданные под именем В.Н. Волошинова, а также "Формальный метод в литературоведении" - под именем П.Н. Медведева. При жизни М.М.Бахтин, как правило, не опровергал сво- литика отражают со всей очевидностью общую тенденцию в европейском культурном сознании начала XX в. его авторства, но и не претендовал на него. Фактически ученый, как полагает В.Л.Махлин, "поставил феноменальный культурологический эксперимент <...>, сравнимый с шекспировской мистификацией: парадоксальное взаимодействие автора и героя, совсем не похожее на то, изучению которого <...>(как он хотел нас убедить своими подписанными трудами) Бахтин отдал столько энергии. <...> Тексты рождают читателям своего автора, который проявляется с такой же чистотой и наглядностью, с какой сам автор являет нам предмет своих исследований" [Махлин, 1995: 2]. "Сокрытие" не только своего имени, но и образа Бахтиным представляется нам "существенно-формальной" маской, определившей позицию как видения, так и "опубликования" жизни ученого, предпринявшего попытку "диалога" с самим собой (подробнее о проблеме бахтинского авторства см. Осовский, 1992).
Объективности ради отметим наличие весьма расхожего понятия так называемой "языковой маски", введенного Г.О. Винокуром и широко используемого современными языковедами: это "метод" языковой характеристики, с помощью которого какому - либо персонажу "придаются свойства речи, в той или иной мере разобщающие его с остальными персонажами, причем принадлежащие ему как нечто постоянное и непременное, сопровождающие его в любом поступке или жесте" [Винокур, 1959: 297]. Точку зрения Г.О.Винокура разделяют многие исследователи. Так, Е.Я. и А. Д.Шмелевы, анализируя анекдот как один из жанров современной русской речи, полагают, что в анекдоте, где все роли исполняет один "актер" - рассказчик и отсутствуют "костюмы" и "маски", персонажи все - таки "бывают узнаваемы по своим речевым особенностям, которые тем самым играют роль своего рода языковой маски соответствующего персонажа" [Шмелева, 1999: 134].
Что же касается проблемы маски вообще, то она находит отражение в работах современных исследователей. Так, "герой-маска", "герой-личина" в произведениях А. Ремизова являются объектом рас- смотрения О.А.Чуйковой [Чуйкова, 1985] И.Н.Балабанова, обращаясь к проблеме автора, под маской в широком смысле понимает "символ принципиально невозможной смысловой самоидентификации" [Бала банова, 1995: 69], полагая, что маска способна появляться тогда, ко гда автор "переживает" бытие своего произведения; в узком смысле Балабанова считает маску "возможностью моделирования "провокативных" ситуаций, в которых раскрываются, выговариваются герои" [Балабанова, 1995: 69], - и с этой точки зрения, полагает она, вызывает интерес и подлежит рассмотрению использование М.М. Бахтиным "масок" Медведева и Волошинова.
Е.В.Лютикова, рассматривающая маску как одно из проявлений литературного сознания, полагает, что зафиксировать ее можно в многоголосном романе. "Явление маски", по ее мнению, заключается в следующем: в полифоническом романе один из героев, "пользуясь отсутствием всезнающего автора-повествователя, вводит в заблуждение других персонажей и самого читателя, играя некую роль и скрывая свои подлинные намерения" [Лютикова, 1996: 170]. И поскольку "всезнающий" повествователь отсутствует, разоблачение "актера" происходит лишь в конце произведения. Маска есть "система поведения, а не единичный обман". Мало того, - отмечает Е.В.Лютикова, - оказывается, что маска театральная, социальная роль, "имидж", маска литературная при более детальном рассмотрении оказываются "разнообразными способами существования одного и того же функционального эквивалента на различных уровнях <...> культурного сознания" [Лютикова, 1996: 170]. Затрагивая не только проблему литературной маски, но и исследуя феномен маски вообще, Е.В.Лютикова в специально посвященном данной теме диссертационном исследовании отождествляет маску с лицедейством и считает данное понятие как минимум трехаспектным. По мнению исследовательницы, маска - неотъемлемая составляющая "сюжетного" и "структурного" текстовых уровней; комплекс "апорий", "заполнение которых становится герменевтической задачей читательского созна- ния" [Лютикова, 1996а: 2]; специфическая определяющая "спада" и "подъема" внутритекстового психологического напряжения. Литера туровед считает возможным рассмотрение маски не только в качест ве функции текста на макро- и микротекстовом уровне (маска как "механизм лицедейства"), но и видеть в ней этический, семиотиче ский коды и герменевтический ключ. Показательно, что Е.В.Лютикова выделяет типы масок: маска "аполлоническая" (легко меняющая "личины") и "дионисийская" ("статическая", придержи вающаяся одной поведенческой модели). Обращает на себя внимание культурологическая "основа" трактовок [ср.: "аполлонический" и "дионисийский" типы культуры]. Кроме того, существует смешанный тип масок, сочетающий в себе и "отстраненное", и "динамическое" начала. Специфику этого типа отражает применяемый исследова тельницей карточный термин "джокер": на литературном, текстовом уровне "джокер" свободно "примеряет" различные роли, чувствуя "аудиторию" и "ситуацию", в любом месте считается "своим" [Люти кова, 1996а: 153].
Опыт культурологического прочтения маски применительно к современной социокультурной ситуации был предпринят, к примеру, в работах И.М.Шиловой, посвященных состоянию российского кинематографа, точнее, анализу типов художественного моделирования и феномену "замещения". Исследовательница полагает, что в кинематографическом искусстве 1980-х гг. человек как предмет изображения был искусственно "разъят" на отдельные части и рассматривался изолированно: "в строгих границах производственной деятельности; в очерченном круге общественных отношений; в ячейке частной жизни" [Шилова, 1988:36]. Со временем, в результате поиска "средств прямого воздействия на зрителя", живой человек заменяется "типовым явлением, программой или маской", индивидуальное распадается на разумное и сердечное, положительное и отрицательное [Шилова, 1988:36 - курсив наш - О.О.]. Маска, рассматриваемая в культурологическом аспекте, мыслится таким образом как искусст- венно созданный механизм, в определенном смысле стереотипное явление, нечто постоянное (ср.: театральные роли как активно сменяющие друг друга маски и амплуа как маска постоянная, устойчивая).
Переходя уже непосредственно к объекту нашего исследования, точнее к непосредственно связанной с ним личности В.В.Набокова, отметим, что использование маски в различных ее видах в его творчестве примечательно и симптоматично: истинный художник, он пытается выйти за пределы собственного "я", примерив на себя судьбу "другого". Набоков вообще оказывается склонен к различного рода культурным мистификациям и "маскировкам", о чем писали и современники, лично знавшие его, и исследователи творчества писателя. "Мастером камуфляжа" называет Набокова 3. Шаховская, отмечая, что, создавая произведения, он "надевает" разные "личины", в результате чего "родятся его герои, главный из них, в разных арлекинь-их одеждах - он сам" [Шаховская, 1991: 45], но несмотря на набоков-ское стремление "скрыть" себя, "автобиографические данные и личные признания проблескивают под всеми масками, через вымышленное мелькает и подлинное <...>" [Шаховская, 1991: 11]. Мало того, Шаховская оказалась одной из посвященных самим Набоковым в подготовленную им "ловушку" для Г.Адамовича: под псевдонимом "В. Шишков" Набоков напечатал в одной из эмигрантских газет стихотворения "Мы с тобою так верили в связь бытия" и "Отвяжись, я тебя умоляю" (1939). Г.Адамович, традиционно отвергавший любые стихи Сирина, опубликовал хвалебную рецензию на произведения "таинственного нового поэта", попавшись, таким образом, на мистификацию Набокова. Спустя некоторое время Набоков, продолжая "розыгрыш", публикует рассказ "Василий Шишков" (1939), в котором подробно описывает свои встречи с якобы существующим начинающим поэтом. Кроме того, в 1990 г. выяснилось, что Набокову принадлежит еще одно стихотворение "Иосиф Красный, - не Иосиф..." (1937), приписываемое М. Цветаевой, а оказавшееся лишь очередной набоковской пародией [Подробнее см.: Старк, 1996: 150-156]. Дума- ется, интерес В.Сирина к мистификациям, розыгрышам, "подогревался" определенными событиями литературно- художественной жизни эмиграции.
Прежде всего следует отметить участие Набокова в 1925 г. в шуточном суде над пьесой Н. Евреинова «Самое главное» : Сирин, по свидетельству современников, внешне похожий на Евреинова, исполнял его роль, « <...> защищал Волшебника, желавшего переделать реальность во всеобщую иллюзию <...> » [Толстой, 1989: 22; подробно см.: А.А., 1977]. Сирин, таким образом, собственным актерством иллюстрирует мысль об отсутствии каких-либо границ между реальным образом человека и «ликом», выдаваемым за подлинный. Не вызывает сомнения и тот факт, что театральные эксперименты Евреинова (использование «четвертой стены», отделяющей сцену от зрительного зала в одноименной пьесе) во многом импонировали Сирину - драматургу, который не только применил подобный прием в пьесе «Событие», содержащую авторскую ремарку к одному из эпизодов с указанием опустить полупрозрачный занавес между двумя планами героев, но и включил в нее некоторые евреиновские цитаты и персонажей [см.: Медведев, 1999 :217-229]. Стремление «выйти» за пределы собственного «я» проявляется и в том, что Набоков весьма воодушевленно участвовал в пародийном суде над «Крейцеровой сонатой» Л.Толстого, в котором, что весьма показательно для последующего творчества писателя, он играл роль убийцы, выступающего в свою защиту (ср. сюжет «Отчаяния», «Лолиты», «Бледного пламени»).
В качестве подтверждения мысли о склонности и способности Набокова к мистификациям приведем также случай, произошедший на одном из парижских литературных вечеров (точнее, 8 февраля 1936 г), свидетелем и непосредственным участником которого являлся Набоков. В. Ходасевичем была прочитана "Жизнь Василия Травникова" - биография неизвестного поэта первой трети XIX века, архив которого якобы попал к Ходасевичу случайно и был, к сожалению, вновь утерян. Разумеется, никакого Травникова никогда не су- шествовало, а "его жизнеописание было мистификацией Ходасевича" [Зорин, 1988: 24]. Примечателен тот факт, что именно Адамович (как и в случае с Набоковым) не разглядел "подделки" и выступил с хвалебным отзывом в "Последних новостях", отмечая, что таких стихов, какие писал Травников до Пушкина и Баратынского в России не писал никто: "<...> чистые, сухие, лишенные всякой сентиментальности, всяких стилистических украшений. Несомненно, Травников был одареннейшим поэтом, новатором, учителем<...>" [Цит. по: Зорин, 1988: 24]. Весьма показательно также то, что сюжет произведения строится как история страстной любви старшего Травникова к четырнадцатилетней героине, приведшая его к безумию. Если принять во внимание факт мистификации Ходасевича, мотивный рисунок "Василия Травникова", а также то, что Набоков выступал на вечере, то не только многочисленные набоковские мистификации, но и сопоставление "Волшебника", "Лолиты" с повестью Ходасевича не покажутся парадоксальными.
Современные набоковеды в большинстве своем указывают на склонность писателя являться в облике "другого", скрывать свое истинное "лицо". " <...> одиноким смельчаком, парящим над пошлой действительностью, - он всю жизнь стремился выглядеть, и именно такую "неоромантическую" маску любил надевать перед зрителями", -писал по этому поводу А.Долинин [Долинин, 1989]; Е.Иванова считает, что "практический литературный смысл" имели для писателя уроки энтомологии и изучение загадок мимикрии - именно они помогали "играть в прятки" с читателем, маскироваться [Иванова, 1989: 155]; О.Михайлов определяет набоковский метод как "мистификацию, игру, мнимые галлюцинации, "цветное" ощущение, пародии, словесные кроссворды" [Михайлов, 1989: 12]. Т. Любимова полагает, что во многом метод писателя - "притворство" и "игра", он "водит" читателя "лабиринтами", "устраивает ему западни", но "он отчасти играет в то, что играет, притворяется в том, что притворяется всегда" [Любимова, 1995: 59]. И, безусловно, все это заметно затрудняет работу исследо- вателеи. Недаром Н. Струве не только приписал авторство Романа с кокаином" Набокову, но и привел немало вполне аргументированных доводов в его пользу (дав подробный языковой и литературоведческий анализ "Романа с кокаином" и сопоставив его с романным творчеством Набокова) [см.: Струве, 1990: 200-221]. Набоковский интерес к маскам очевиден: даже в "Предисловии к "Герою нашего времени" писатель, произнося " <...> с точки зрения читателя, этого послушного дурачка, как его представляет себе издатель <...>" [ЛРЛ, 1998: 192], выражает собственную "надменность" по отношению к читателю, хотя и приписывает ее "гипотетическому издателю" [Таек, 1998: 195].
Сам же писатель никогда открыто не декларировал, но и не отрицал своей "другости", методично выдерживая собственный устоявшийся "общественный" облик. В одном из интервью, впрочем, Набоков оговаривается, что преимущество беседы с интервьюером для него заключается в возможности перед аудиторией "<...> создать некий образ личности - надеюсь, правдоподобный и не слишком отталкивающий" [Набоков, 1973: 158].
Кроме того, неотъемлемой частью проблемы маски в творчестве В.В.Набокова представляется нам сквозной мотив - мотив "двойничества".
Мы подразумеваем под мотивом «двойничества» следующее: маска, надеваемая субъектом, стремящимся скрыть свое истинное лицо, свое (воспользуемся в данном случае устоявшейся терминологией М.М.Бахтина) "я" и быть "другим для других", предполагает появление "двойника" субъекта ("я для других"), таким образом, происходит членение образа, "раздвоение" "я" на "я" подлинное (внутреннее) и alter ego ("я" внешнее). Несомненно, что мотив "двойничества", тема "двойников" была навеяна произведениями Ф. М. Достоевского. Так, в одном из интервью В. Набоков отмечал: "Двойник" Ф. М. Достоевского - лучшее из его сочинений <...>" [Pro et contra, 1997: 612].
Можно согласиться с точкой зрения Дж. Коннолли, считающего, что "основной" темой Набокова, развитой им в "Отчаянии" и "Соглядатае" и прослеживающейся в "Приглашении на казнь", "Истинной жизни Себастьяна Найта", "Даре" и др., становится центральная тема "Двойника" Достоевского - "зацикленность персонажа на своем alter ego и озабоченность возможным смещением или вовсе сменой идентичности <...>" [Коннолли, 1999: 10]. Однако, набоков-ские герои, в отличие от Голядкина из "Двойника", - замечает Коннолли, - "обычно приветствуют идею о том, что во Вселенной есть и другие создания, похожие на них", что отчасти "отражает собственную склонность Набокова воображать иные идентичности" [Коннолли, 1999: 10].
Многочисленные свидетельства современников, достаточно авторитетные суждения современных набоковедов, а также вполне сложившаяся "масочная" традиция российской культуры XIX - XX вв. позволяют видеть отражение "масочной" практики не только в поведенческой модели писателя, но проецирование и активную разработку ее в художественном наследии В.В.Набокова. Причем, маска в "русском" творчестве выдающегося прозаика есть успешно реализуемая В. В. Набоковым попытка в пределах текстового пространства стать "другим", рассмотреть иной вариант собственного бытия, слиться воедино с тем или иным персонажем, оформить себя, по выражению М.М. Бахтина, как "изнутри", так и "извне".
Основной целью нашей работы, таким образом, становится анализ функционирования маски и ее места в культурно-художественном сознании Российского Зарубежья, представленном творчеством В.В. Набокова. Подобный подход определил задачи исследования: проанализировав русскую прозу писателя сквозь призму отражения в ней специфического "масочного" пласта, выявить способы функционирования маски как одного из основополагающих приемов набоковской поэтики в рассказах и романах 1920-30-х гг., рассмотреть эволюцию данной категории в ходе общей эволюции творчества писателя и формы ее художественного воплощения, пред- ложить сравнительный анализ интересующих нас произведений Набокова с теми, в которых маска отсутствует или лишь намечена.
Материалом исследования служит прежде всего художественная проза В.В.Набокова 1920-30-х гг., кроме того, нами были проанализированы англоязычные произведения писателя, обширный пласт его литературно-критического наследия. Поскольку "русское" творчество В.В.Набокова достаточно обширно, мы сочли необходимым уделить внимание прежде всего тем произведениям, в которых прие маски выступает наиболее отчетливо и является основополагающим элементом поэтики и в какой-то степени эстетики автора.
Теоретико-методологической основой работы явились принципы сравнительно-исторического анализа явлений культуры, литературы и искусства, получившие развитие в трудах М.М.Бахтина, О.М.Фрейденберг, Ю.Н.Тынянова, Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского и др.
Особую значимость в решении стоявших перед нами задач име ли труды известных философов, историков и теоретиков культуры, как отечественных (Л.М.Баткин, Н.И.Воронина, Вяч.Вс.Иванов, К.Г.Исупов, В.Л.Махлин, С.Т.Махлина, А.В.Михайлов,
М.Н.Липовецкий, А.М.Панченко, В.А.Подорога, М.Н.Эпштейн, М.Б.Ямпольский и др.), так и зарубежных (Р.Барт, Ж.Батай, Ж.Бодрийяр, Ж.Деррида, Ф.Джеймсон, Ф.Ницше, М.Фуко, Й.Хейзинга, О.Шпенглер, У.Эко), авторов, затрагивающих вопросы истории русской литературы и культуры, в том числе и литературы Российского Зарубежья (В.Н.Аношкина, Н.А.Богомолов, Б.Ф.Егоров, В.Т.Захарова, О.Е.Осовский, Б.А.Ланин, Л.А.Смирнова, Б.Г.Соколов, С.Р.Федякин, Дж.Мальмстад, М.Раев и др.).
Немалая роль в формировании нашего восприятия общей концепции маски в прозе В.В. Набокова принадлежит исследованиям российских и зарубежных набоковедов, так или иначе связанным с интересующей нас проблемой (А.А.Долинин, В.Е.Александров, ОДарк, А.С.Мулярчик, О.Ю.Сконечная, Дж.Коннолли, Н. Букс,
М.Н.Липовецкий, И.Н.Толстой, М.Медарич и др.], нами также учитывались отзывы русской эмигрантской критики (З.Шаховская, Н. Берберова, Ю.Терапиано, В.Ходасевич, В.Вейдле и др.).
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в отечественной культурологии исследуются характер и формы функционирования маски в культурно-художественном сознании Российского Зарубежья, рассматриваемом на материале творчества В.В.Набокова 1920-30-х гг. Последнее не просто анализируется как неотъемлемая часть культуры русской эмиграции, но представлено своими открытиями, находками и экспериментами в качестве одного из системообразующих факторов формирования нового российского культурного сознания за пределами России в этот период.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты, анализы конкретных художественных произведений и общие выводы могут быть использованы в курсе истории отечественной культуры на гуманитарных факультетах университетов и педагогических институтов, в специальных курсах и семинарах, посвященных углубленному изучению культуры и литературы Русского Зарубежья, исследованию творчества В. В. Набокова в целом.
Поставленные нами цели и задачи определили структуру диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Автор, герой, маска: проблема обретения самоопределения в прозе В.В. Набокова в общем контексте становления культуры Российского Зарубежья 1920-начала 1930 -х годов
Период 1920-х - начала 1930-х гг. становится как известно, этапом формирования принципиально нового культурно-исторического феномена - Российского Зарубежья. В разные годы различные центры "российского рассеяния" (П.Ковалевский) претендовали на то, чтобы выступать в роли ведущих культурных центров российской эмиграции. В 1921-23 гг. таким "культурным центром" на недолгое время становится Берлин. Сохранив "основные черты, характерные для интеллектуальной жизни дореволюционной России" [Раев, 1994:118], русские эмигранты стремились "воссоздать" те "институты культуры", которые существовали в России. Здесь в едином социокультурном пространстве сосуществовали и сотрудничали представители различных видов искусств, художественных течений, были созданы многочисленные издательства (З.И.Гржебина, "Геликон", "Мысль", "Слово"), выходили различные газеты (наиболее известная и значимая - "Руль"), организовывались политические и культурные клубы, открыт русский "Дом искусств" (за время его двухлетнего существования в нем было проведено более 60 выставок, концертов, выступлений немецких и русских знаменитостей). Достаточно насыщенной и плодотворной представляется театральная жизнь, воплотившаяся прежде всего в открытии нескольких театров миниатюр - "Синяя птица", "Ванька-встанька", "Карусель", "Театр Дуван-Торцова", "Маски", отличающихся эклектичностью стиля, стремлением "слить в одно гармоническое целое элементы прошлого и современного, России и Запада, фольклора и авангардистских художественных течений", в которых достигалась "гротескная имитация жизни" [Беминг, 1994:347]. Впрочем, по мнению известного специалиста по русскому театрально-декоративному искусству рубежа столетий Дж.Боулта, "заслуживает упоминания лишь "Синяя птица" ("Der Blaue Vogel"), привлекшая несколько крупных оформителей, включая Павла Челищева, более известного своей работой для Русских балетов и сюрреалистической живописью. ... Ксения Богуславская, Иван Пуни, Ларионов, Челищев, Марк Шагал и другие оформляли потсановки "Синей птицы", почти бесплатно, за завтрак. Особенного успеха добился молодой Челищев своими светящимися красками и спиралями, на практике применив уроки, полученные в Киеве у Экстер. В течение 20-х годов "Синяя птица", как и другие эмигрантские кабаре в Берлине -"Карусель", "Ванька-Встанька", "Романтический театр", давала заработок безработным актерам и художникам и одновременно эмоциональную разрядку бездомным соотечественникам: "Уставшие от политики и будней, русские приходят в его кабаре, чтобы уйти от действительности, ищут забвения в музыке, красках и игре". Привлекало кабаре и немцев, но, как заметил один русский рецензент, там, где они "лишь хохочут, нам порой плакать хочется" [Боулт, 1991: 36].
Именно в Берлин устремились крупнейшие деятели российской эмиграции (в том числе и В.Д.Набоков с семьей, к которой в 1922 г. после окончания Кембриджского университета присоединяется В.В.Набоков), погружающиеся в весьма специфическую атмосферу центра "новой русской культуры". "В западных берлинских кварталах, - пишет И.Кудрова, воссоздавая уникальную атмосферу "Русского Берлина", - возник "некий город в городе": от Прагерплаца до Ноллендорфплаца звучала русская речь. Стремительно нараставшая инфляция поощряла тех, кто успел вывезти из России свои сбережения, вкладывать их в разные предприятия, не слишком оглядываясь. Один из цветаевских корреспондентов, вспоминая много лет спустя это время, назвал его временем расцвета коммерческого донкихотства. Чуть ли не каждый день в "русской" части города открывались русские рестораны, кафе, кондитерские, мастерские. Возникло множество издательств, несколько журналов, выходили три ежедневные русские газеты, пять еженедельников. По инициативе неутомимого, несмотря на преклонные годы, поэта Н.М. Минского (некогда организовавшего в Петербурге "Религиозно-философсие собрания") оживленно функционировал "Дом искусств". Его еженедельные собрания проходили в большом кафе на Ноллендорфплац. В год приезда Цветаевой на литературных вечерах русской колонии выступали Андрей Белый и Алексей Толстой, Ремизов и Пильняк, Есенин и Северянин, Саша Черный, Ходасевич, Эренбург, Шкловский, Лидин, Чириков; позже, когда Цветаева уехала в Чехию, - Пастернак и Маяковский.
Соотношение авторского «лика» и «личины» в культурно -художественном сознании второй половины 1930-х годов («Дар»)
Интеллектуальный спор между Берлином и Парижем за "пальму первенства" в культуре русской эмиграции выигрывает последний. Уже со второй половины 1920-х гг. именно Париж; становится основным "пристанищем" русской интеллектуальной элиты: " ... Париж был в большей степени культурной столицей России, чем Петербург или Москва, - с некоторой запальчивостью писал В. Варшавский. - Здесь жили лучшие российские писатели, артисты и ученые, здесь еще продолжался русский культурный ренессанс начала века. Со своими журналами, газетами, ... союзами, театрами, университетами и гимназиями Зарубежная Россия являлась тогда своего рода государством в государстве" [Варшавский, 1998:193]. Несколько конкретизируя комментарий непосредственного участника жизни русского Монпарнаса к социокультурной ситуации Парижа 1924-39 гг., отметим прежде всего создание там всевозможных союзов (русских художников, русских студентов, русских литераторов и журналистов, русских музыкальных деятелей), ежегодное проведение (с 1924 г.) Пзшікинских дней, со временем ставших Днями русской культуры, организацию многочисленных изданий ("Последние новости", "Возрождение", "Современные записки", "Числа", "Дни"), открытие Русского театра [см.: Русский Париж, 1998; Литаврина, 1998: 70-78; Раев, 1994 и др.]. Нельзя не упомянуть о творческих связях русской эмигрантской интеллигенции, ее сотрудничестве, иногда тесном сближении и взаимодействии на идейно-эстетическом ("внутреннем") уровне с представителями западноевропейского культурного сообщества. В данном контексте, в плане "поликультурного диалога" наиболее примечательна фигура выдающегося русского философа Льва Шестова, тесно общавшегося с М.Бубером, Э.Гуссерлем, а также оказавшего заметное влияние на дальнейшее развитие "французского интеллектуального сообщества" [Осовский (в печати)], что подтверждается фрагментом из воспоминаний одного из виднейших западных философов XX в. Ж.Батая: " ... мне удалось познакомиться с русским философом Львом Шестовым. И меня покоряло то, что Лев Шестов философствовал, исходя из Достоевского и Ницше. Вскоре у меня создалось впечатление, что я непомерно отличаюсь от него основополагающей силой, влекущей меня, тем не менее, я его уважал. ... Именно ему я обязан знанием основ философии, которые, не будучи тем, что обычно подразумевают под этим понятием, не потеряли в конечном итоге свою реальность. ... Я и сейчас с волнением вспоминаю то, что я узнал, слушая его, в частности, что жестокость человеческой мысли -ничто, если она не является его завершением. Мьгсль Льва Шестова отдаляла меня от этой конечной жестокости, конец которой я сразу увидел в Лондоне; так или иначе я должен был отойти от Шестова, однако меня восхищает его терпение ко мне, в то время умевшему изъясняться в виде некоего начального бреда" [Батай, 1994: 7]. С другой стороны, очевидна и роль, которую тот же Батай играет в жизни молодой русской эмиграции. Приведем примечательное свидетельство И.В.Одоевцевой: "Но сейчас только 1928 год. Я в сопровождении нашего с Адамовичем общего, а особенно моего, "авангардного" французского друга Жоржа Батая собираюсь на сюрреалистический вернисаж. Он старается открыть для меня новые горизонты ... Батай восхищается русской революцией, что нас не сердит, а смешит и не мешает нашей дружбе. Нам этот будущий великий философ кажется очень симпатичньгм, наивным и милым и не слишком умным" [Одоевцева, 1989: 204].
Впрочем, подобного рода влияния без труда просматриваются в куда более выразительных примерах. Отмечая хорошо известную роль в европейской (шире - западной) культурной жизни 1910-30-х гг. "Русских балетов" С.Дягилева, нельзя не упомянуть, в частности, и о реальном воздействии на молодую западную живопись творческих экспериментов Н.Гончаровой и М.Ларионова, совершенно очевидном для современников. "Восприняв десятилетие назад мощное воздействие французской живописи, - констатирует М.Пожарская, - теперь Гончарова и Ларионов выступают отнюдь не как послушные и робкие ученики, но на равных с европейскими мастерами. В.Маяковский, будучи в Париже в 1924 году, сделал вывод: "Когда смотришь последние вещи Пикассо, удивляешься красочности, каким-то карусельным тонам его эскизов декораций. Это несомненно влияние наших красочников Гончаровой и Ларионова". О воздействии Гончаровой на искусство ее времени не менее убежденно и со свойственной ей запальчивостью писала Марина Цветаева, хорошо знавшая художницу" [Пожарская, 1991: 91].