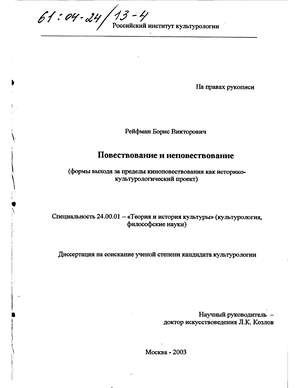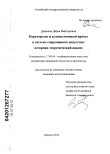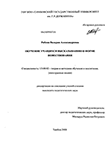Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. "Киномодернизм": две авторские версии 32
1.1. Структура против "структуры", или/и очуждение киноповествования (о фильмах "На последнем дыхании" и "Заводной апельсин") 32
1.2. Мифы, "оживляемые" ритмами, или/и ритмы, остраняющие "мифы" (о формах выхода за пределы киноповествования в теориях киноавангарда 20-х годов) 60
Глава 2. "Киномодернизм" и "кинореализм" 115
2.1. От киноавангарда к "кинореализму". "Киномиф" (о фильме "Юность Максима") 115
2.2. От "кинореализма" к "киномодернизму", или другой "реализм" (о кинотеории А.Базена и кинематографе А.Тарковского) 138
Заключение 183
Библиографический список использованной литературы 190
- Структура против "структуры", или/и очуждение киноповествования (о фильмах "На последнем дыхании" и "Заводной апельсин")
- Мифы, "оживляемые" ритмами, или/и ритмы, остраняющие "мифы" (о формах выхода за пределы киноповествования в теориях киноавангарда 20-х годов)
- От киноавангарда к "кинореализму". "Киномиф" (о фильме "Юность Максима")
Введение к работе
Задолго до того, как различные варианты постструктурализма предопределили теоретическое осмысление культурной ситуации, которая еще позже получила название «постмодерн», сама жизнь, слегка гиперболизируя закрепившийся в памяти нашего времени эпизод с недовольным своей работой сценаристом, начала раз за разом сминать и выбрасывать фрагменты все новых набивших оскомшгу силлогизмов. В конце концов маргинальное пространство, заполненное недопроизнесенными фразами, не связанными общей целью действиями, оборванными ритмами и, как можем сказать мы сегодня, прочими атомами великой диахронии, распространяясь, переместилось в самый центр ставшего неодолимо синхронным времени. Мэрилин Монро между братьями Кеннеди; братья Кеннеди рядом с Мартином Лютером Кингом и Никитой Сергеевичем Хрущевым, пожимающим руку Юрию Гагарину. Прибавим к этому группу «Битлз» с короткими волосами, улыбающуюся группе «Битлз» с длинными волосами, миниюбку, твист, а также что-нибудь из предметов туалета, понимаемого так или этак, - вот и получился вполне соответствующий образцам поп-арта 60-х вариант коллажа.
Однако столь ярко выделенная во времени синхронность - своеобразное
брикетирование «культурных отходов» - не могла бы осуществиться без
«технологии», без отчетливо прорисованных рукотворных «эйдосов». Жизнь
объявила конкурс на лучшую модель душевной «полноты», интерпретирующей
безупречность душевной «пустоты». Еще не были выдвинуты
деконструктивистские программы тотальной дискурсивной
антитоталитарности, и одним из победителей стал французский кинематограф «новой волны».
«У свободы нет психологического пространства; душа это не то, что обретаешь внутри личности, она- то, чего можно достичь, лишь освободившись
4 от всех личностных "оболочек"1, - так видит Сьюзен Зонтаг "радикальную
духовную доктрину" фильма "Жить своей жизнью" Жана-Люка Годара. Такую
же манеру быть свободным, действия, рождающиеся не из предшествующего
им психологического предметно-логического "наличия", а как бы из пустоты, из
"ничто", демонстрирует и персонаж первой годаровской картины, "На
> последнем дыхании", Мишель Пуакар. Ни "нечто" предопределяет его
поступки, а поступки лишь сами по себе представляют собой "нечто". Впрочем, "другая оптика", напоминая о принципе дополнительности Нильса Бора, заставляет увидеть в поведении Пуакара постоянную подключенность к тем или иным "жанровым" контекстам: угоняя машину, он выглядит, говорит и действует как герой Хэмфри Богарта из "Мальтийского сокола" или "Касабланки"; сидя за рулем, громко и жизнерадостно исполняет свои "ла-ла-
*
ла!" и "па-па-па!", явно позаимствованные из репертуара часто встречающихся на сцене, в кино и в жизни "оперных" или "опереточных" бодряков; реагирует на обгоняющий его или слишком медленно движущийся впереди автомобиль отчетливо адекватно, то есть в духе дорожного шоферского "речитатива"; сам с собой обсуждает достоинства и недостатки стоящих на обочине дороги девушек
і как персонаж, который "ни одной юбки не пропустит". Перечень таких
"жанровых" проявлений в действиях Пуакара не ограничивается двумя-тремя эпизодами, а составляет множество, представляющее собой "все поведение
; Пуакара".
Как осуществляется, приобретает такое свое значение, каждое из этих
\ \ уподоблений, как оно существует, что означает, в соседстве с другими
уподоблениями своего же ряда и прочими выстроенными в фильме рядами?
щ Этот вопрос, являющийся вопросом о структуре произведения, увиденной
нами и воспринятой как авторская структура, уместен только в том случае, если мы, во-первых, вопреки Ролану Барту и другим постструктуралистам,
і і
\
J ' Зонтаг С. Фильм Жана Люка Годара "Жить своей жизнью" // Киноведческие записки. - № 22. - С. 232.
2 Там же.
\
І"
5 придаем онтологическое значение, то есть значение, имеющее отношение к
некой бытийной истине, истине Истории, тому произведению искусства,
которое не только "текст", но и "произведение"1, и, во-вторых, если мы
допускаем возможность не иллюзорно-мифологического, а онтологически
истинностного постижения этой истины "произведения " другими, то есть если
мы допускаем возможность истинностного постижения Истории, понимаемой
как история существования и изменения тех истинностных (реальных)
сознательных и - их детерминирующих, то есть составляющих с ними
определенные языковые единства, — бессознательных информативных
(языковых) структур, которые суть исторически обусловленные ментальные
структуры авторов, вписанные в многочисленные ряды дискурсов, традиций.
Конечно же, сами эти "во-первых" и "во-вторых" подразумевают собственную
рубрикацию, в которой первым параграфом идет признание некой
#
онтологичности, некоего бытия,превышающего человеческую субъективность, являющуюся в глубине своей одним из проявлений этого бытия; кроме того, за признанием "бытийности Истории" не может не стоять признание некоего "было ", которое есть явление сознанию интерпретатора, всегда находящемуся в "настоящем времени", каких-то ипостасей трансцендентного "прошлого времени".
Все эти рассуждения, в контексте киноведения, возможно, кажущиеся лишними, на наш взгляд, совершенно необходимы, ибо без них само какое-либо "киноведение", а значит, и дальнейшее изложение нашей темы попросту теряют смысл. Так, например, как История потеряла в "постмодерную эпоху" смысл для Жана Бодрийара2, отказывающего - как и многие другие теоретики постмодернизма и постструктурализма — любому связному смыслу, любой повествовательной последовательности, никогда, по их мнению, не
См. Барт Р. От произведения к тексту // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1994 - С. 416,417.
2 См., например, Гараджи А.В. После времени. Французские философы постсовременности // Иностранная литература. - 1994. № 1. - С. 54-56.
преодолевающей границ иллюзии («воображаемого», по Жаку Лакану), в превышающей человеческую субъективность онтологической истинностности.
Наш «вариант» веры не только в бытие Истории, но и в бытийную
возможность ее субъективного связного изложения (нарратива) «располагается»
в той интерсубъективистской перспективе, которая была намечена Эдмундом
Гуссерлем в 5-ой главе его «Картезианских размышлений». Именно здесь,
отвечая на упреки в солипсизме, адресованные феноменологии, Гуссерль
впервые в истории философии переводит ставившуюся и ранее проблему «Я» и
«другого» в монадологически-трансценденталистско-онтологический
контекст, то есть говорит о том глубинном предустановленном самим бытием
трансцендентальном уровне человеческого ego, на котором, хотя и не
преодолевается монадичность, но в то же время происходит «вчувствование»
в «другого» и «других», находящихся с монадическим «Я» в едином культурно-
историческом пространстве («жизненном мире»). И уже после этого первого
этапа, этапа «вчувствования» в «другого» и «других», трансцендентальному ego
бытийно-предустановлено осмысляющее конституирование:
смыслообразование самого своего «жизненного мира», своей социальности, своей культуры1. Далее же трансцендентальному уровню человеческой «монады», уже осмысляющей свой «жизненный мир», бытийно-предустановлена возможность, с одной стороны, диалога с другими «жизненными мирами», другими культурами; с другой стороны - и это для нас сейчас самое важное - смыслообразования своей Истории, то есть диалога с предшествующими «жизненными мирами» («Более глубокое понимание, открывающее горизонт прошлого, от которого зависит и понимание самого настоящего...»)
Эти гуссерлевские размышления о предустановленных
интерсубъективистских возможностях человеческого ego предопределили
См. Эдмунд Гуссерль. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философия. Философия как строгая наука. - Минск: Харвест, M.: Аст, 2000. - С. 433-515. 2 Там же.-С. 491.
7 многие эстетические и герменевтические традиции XX века. Вот и мы, говоря
об истине «произведения» автора и истине интерпретации этого «произведения», по-существу, говорим о предустановленной способности моего интерсубъективного «жизненного мира», предустановленно образуемого моей «монадой», конституировать другой «жизненный мир», предустановленно образовывавшийся «монадой» автора (История, конечно,- отнюдь не только интерпретация произведений искусства, но именно произведения искусства разных эпох прокладывают «жизненному миру» историка самые короткие пути к исследованию «жизненных миров» этих эпох).
Таким образом, наш герменевтический вариант - это в какой-то мере возвращение от «деконструкций», «интертекстуальных анализов» и «медленных прочтений», продолжавших — в своей постструктуралистской теоретико-философской изначальности, подразумевавшей веру в бытийность только множественного «текстового» (по Юлии Кристевой - «интертекстового») «чистого различия», - гуссерлевскую традицию в качестве ее непримиримых оппонентов, к позициям структуралистов и Романа Ингардена, полагавшего, что возможны «конкретизации» текста, приближающие сознание интерпретатора к «реконструкции» «имманентного произведению идеала»1. В то же время, на нашей стороне в споре с отрицанием возможности превышающего субъективность, истинностного рационального познания Истории участвуют и герменевтика Г.-Г. Гадамера, понимающего истолкование как диалектический по своей природе трансцендентальный процесс диалога интерпретатора и авторского текста, обладающий структурой бесконечного «синхронического» (ибо автор и интерпретатор «соединяются» через общую им обоим традицию) «герменевтического крута»; и «археология знания» Мишеля Фуко, являющаяся, по сути, неким «диахроническим» вариантом диалектического «герменевтического круга», ибо — как бы ни манифестировалась самим Фуко его приверженность «антитоталитарности», вражда к «власти» — в итоге он
Дранов А.В. Конкретизация // Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. -M.: Интрада, 1996. - С. 57, 58.
всегда не «деконструировал», а вполне рационально «реконструировал»
Историю как дискретный, то есть диахронныи в постструктуралистском смысле этого понятия — как діє связанный единством логики, общностью традиции -«разрывный» процесс смены «эпистем» или, позже, как диахронныи процесс исторического существования определенных дискурсов, в частности, дискурса понимания «инаковости» в европейской истории (в этом смысле Фуко гораздо ближе к французской школе «Анналов», чем к Деррида и всей деконструктивистской традиции).
В этом заочном споре нам близка позиция рецептивной эстетики и прежде всего Х.Р. Яусса, согласного в своем отношении к онтологии «различия» с «диалогической», а, следовательно, диалектической, точкой зрения Михаила Бахтина. В статье «К проблеме диалогического понимания» Яусс пишет: «Эстетическому предмету свойственно то, что он одновременно открывает и сохраняет исторического другого, когда позволяет изобразить не один субъективный опыт мира, но делает его понятным в игровом пространстве искусства как опыт самого себя в опыте другого. Тем самым по-новому поставлен вопрос, к какому достижению может привести диалогическое понимание и где лежат его границы, если речь идет о том, чтобы открыть искусство и литературу в их временной или пространственной, исторической или культурной дистанции понимающего усвоения и этим включить в поступательный диалог эстетической коммуникации»1. Такое «открытие искусства», являющееся открытием «исторического другого»2 в процессе «понимающего усвоения» «эстетического предмета», по сути, есть перевод того состояния «вненаходимости» самому себе, о котором — как о синтезе «вживания» и «завершения» — говорит Михаил Бахтин в связи с эстетической деятельностью, на язык герменевтики, то есть деятельности по истолкованию исторического другого. «Первый момент эстетическо й деятельности —
1 Яусс Х.Р. К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. - 1994. № 12. - С. 98.
2 В цитируемой нами статье Яусса говорится о «диалогическом понимании» между автором произведения и
интерпретатором. Но, как известно, и Яусс, и рецептивная эстетика в целом трактуют «диалогическое
понимание» шире, имея в виду возможность интерпретатора приближаться не только к смыслу автора
произведения, но и к тем смыслам, которые извлекали из произведения реципиенты разных эпох.
вживание: я должен пережить - увидеть и узнать - то, что он переживает, стать
на его место, как бы совпасть с ним ... Но есть ли эта полнота внутреннего слияния последняя цель эстетической деятельности? Отнюдь нет: собственно эстетическая деятельность еще и не начиналась. Эстетическая деятельность и начинается собственно тогда, когда мы возвращаемся в себя и на свое место вне страдающего, оформляем и завершаем материал вживания ...»'— так, по Бахтину, должны строиться отношения между автором и его героем; так, переводя «завершение» как «понимающее усвоение», мы видим характер отношений между историком-интерпретатором и «его автором». Причем, «завершение» (Бахтин) или «понимающее усвоение» (Яусс) — это тот этап «твоего» «вненаходимого» состояния, который переводит тебя в тождество не с «твоим» первым «другим», являющимся у Бахтина литературным героем, а у Яусса — историческим автором, а с «твоим» вторым «другим» - с «твоей» «завершающей» «авторитетной инстанцией», с «твоим» «авторитетным
автором» .
Бахтинский «диалогический» синтез «вненаходимости» и «завершения» (двух этапов «вненаходимости»), согласно Яуссу, совпадает с той «диалектикой вопроса и ответа»3, которую предполагает герменевтический «круг понимания» Гадамера. Мы же в нашей работе говорим еще и о проективном характере «нашего автора» и, соответственно, о проективности «нашей истории». Проективность в данном случае понимается нами как герменевтическая «диалектика вопроса и ответа», имеющая в виду «диалог» с тем «другим», который является не историческим автором, а «проектом исторического автора». Такое понимание эквивалентно пониманию каждого «жизненного мира» и, соответственно, каждой личности в ее трансцендентальном измерении как не моно-логической, а поли-логической «системы». История предстает как поли-логическая система, состоящая из множества пересекающихся и
1 Цит. по ст.: Яусс Х.Р. Указ. соч. - С. 103.
2 См. Бахтин M.M. Автор и герой в эстетической деятельности // Работы 1920-х годов. - Киев: FIRM "NEXT',
1994.-С. 112-138.
3 Яусс Х.Р. Указ. соч.-С. 106.
непересекающихся потенциально бесконечно-открытых для
интерпретирующего уточнения исторических дискурсов (логик) или проектов истории, вовсе не стремящихся к единству, к «обладанию» друг другом. Исторический автор становится личностью, в которой все ее «горизонты ожидания»1 в процессе создания произведения искусства сосуществуют в «потоке» сознания; «поток» сознания, реализующийся для интерпретирующего историка в авторском произведении искусства - еще раз обратимся к понятиям Ролана Барта - не столько как множественный «текст» (концепция «текста» имплицитно подразумевает абсолютную «смысловую», «логическую» монологичность, то есть безвыходную «монадичность» интерпретатора, никогда в своих осмысляющих последовательностях не преодолевающего иллюзорного «воображаемого»), сколько как множественное «произведение», может, между тем, интерпретирующим историком «расчленяться» на отдельные, вполне «толерантные» друг другу «горизонты ожидания». Эти-то, не претендующие на полноту обладания историческим «другим», отдельные «горизонты ожидания» как раз и сводятся в процессе «диалогического» (герменевтического) уточнения к «проектам авторов». Такие остающиеся всегда открытыми для возможности уточнения исходных позиций интерпретатора «проекты авторов», в то же время в своих нарративах как бы «усекающие» бесконечный герменевтический процесс «диалога», по существу, являются отдельными проектами авторских структур («структура» здесь понимается нами в структуралистском контексте: как такая синхроническая система, отношения элементов которой детерминированы определенной «порождающей моделью»), «вписанными» в определенные отдельные проекты истории.
Таким образом, этот проективно-структуралистский наш метод подхода к Истории, конечно же, не претендующий на какую-то философскую новизну, а просто выражающий нашу феноменологическую уточняющуюся позицию, в
О понятии «горизонт ожидания» см., например, Дранов А.В. Горизонт ожидания // Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. - М.: Интрада, 1996. - С. 31-33.
какой-то мере примиряет «иррациональную рациональность» герменевтики, «диалогической» эстетики Бахтина и рецептивной эстетики с позитивистско-«материалистической» «рациональной рациональностью» классического структурализма, рассматривающего авторскую структуру как некий внешний «объективной позиции» интерпретатора факт.
Имея в виду множественность каждого автора и Истории, потенциально подразумевающую множество «проектов», мы говорим о «разрывах», но не в «тексте», а в «произведении». Наша вера в «произведение», имеющее отношение к бытию Истории, своей искренностью, неироничностью принципиально отличается от «концептов» и «симулякров» Бодрийара, полагающего, что «все, что теперь осталось — это выхватывать концепты из критического пространства референции и безвозвратно погружать их в некое гиперпространство симуляции, где они теряют свою «объективную» достоверность, обменивая ее на «полезность» в деле достижения идентичности с этой системой»1.
Мы, в отличие от Бодрийара, говорим о «проективности» как о
чувственно-интеллектуальной интенции современного «жизненного мира», в
определенном, трансценденталистско-гуссерлевском, смысле
подразумевающей мноэюественную реальность «жизненного мира», мноэюественную реальность возможности чувственно-интеллектуального «монадически-диалогического» выхода на «жизненный мир», «жизненные миры», Историю. Любой исторический проект, если он вступает в реальный, то есть истинный, «диалог» с историческими текстами и, соответственно, логически убедителен в рядах со-противопоставлений их «проективно-структурированных». интерпретаций, при такой «онтологической прививке» убережен от той проектируемой мифологичности, которая сродни телевизионным технологиям и компьютерным играм. Тем самым наш вариант «проективности» обретает определенную нравственную опору в том «жизненном мире», где одной из влиятельнейших форм искренности не только
1 Располагается на сайте Baudrillard on the Web.
12 в кругах «высшей элиты», но и в более широких слоях общества стала неискренность - замена исчерпавших себя своей ориентацией на унификацию, то есть на подчинение, эмоциональных «искренних» отношений друг с другом на обмен «неискренними» рассудочно-технологическими «проектами» друг Друга.
Наш метод и конкретные его осуществления на последующих страницах, подчеркнем это еще раз, не претендует на ту новизну, которая стремится совсем уж не быть «цитатой» или «цитатой без кавычек»1. Но идентификация причастности своей позиции определенной традиции - лишь отчасти «смерть субъекта», «смерть автора», лишь отчасти возвращение того порядка вещей, который, по логике исторического развития, предложенной Сергеем Аверинцевым, существовал когда-то как эпоха «авторитета», предшествовавшая эпохе «авторства»3 (с поправкой, что сегодня часто говорится о «смерти автора», в то время, как в ранней древнегреческой архаике, по Аверинцеву, «автор» еще не родился). Лишь отчасти - ибо «диалогическое» обнаружение традиции , то есть - в нашей интерпретации - разработка историко-культурологического проекта, это, выражаясь языком Канта, деятельность именно твоего «продуктивного воображения».
Историко-культурологический проект, составляющий содержание данной работы, детерминирован логикой, во многом связанной с той же философской традицией, о которой мы говорили на предыдущих страницах «Введения», обосновывая наш проективно-структуралистский метод.
Предмет нашего исследования - предусмотренные в авторских структурах фильмов (в наших проектах авторских структур) или, прежде всего, в 20-е годы, «рекомендованные» авторам теоретиками кино
1 Понятие Р.Барта «цитата без кавычек», родственное «цитации» Ю.Кристевой и «следу» Ж.Д еррида,
подразумевает не зависящую от смыслопорождающего сознания «автора» причастность любых самых разных
денотативных элементов «текста» (т.е. означающих «текста») потенциально бесконечному множеству
коннотативных социокультурных смыслов.
2 См. Барт Р. Смерть автора'// Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - С. 384.
3 См. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. - М: Школа «Языки русской
культуры», 1996. - СПб.
13 исторические формы выхода за пределы киноповествования, того
нарратива - данного в этом нашем случае проектируемому нами восприятию
автора, каким он себя мыслит (в дальнейшем мы будем называть такого
автора «реальным автором», а зрителя, в нашем проекте связанного с
«реальным автором» близостью «жизненных миров» - «адекватным
зрителем»), как нарратив не единственный - субъектами которого являются
персонажи разворачивающегося сюжета и окружающие их экранные вещи
природного и культурного миров.
О таких «не связанных» с киноповествованием элементах структуры фильма, философски обосновывая их как обязательную «норму», теоретики кино писали еще в 10-е годы XX века. В книге Михаила Ямпольского «Видимый мир» подробно разбираются ранние теории «оптических символов» («оптических урфеноменов»1, по Рудольфу Арнхейму) - тех неповествовательных означаемых, означающими которых являются «свет и тень, величина и малость, гармония и дисгармония, равновесие и смещение центра тяжести, порядок и хаос, прямизна и кривизна»2. Ранние немецкие кинотеоретики различали «два типа совершенно разных движений на экране. Первый связан с сознательным движением тел, перемещением предметов. Второй тип имеет ... более фундаментальное, онтологическое значение. Это механическое, ритмическое движение, выражающееся в треске киноаппарата, мелькании света»3.
Наша цель, достигнув которой мы будем вправе говорить об актуальности нашей работы, - выявив исторические формы выхода за пределы киноповествования в структурах тех фильмов, которые сняли кинорежиссеры или «спроектировали» кинотеоретики (эти фильмы и кинотеории мы объединяем общим названием «киномодернизм»), установить сходство коннотаций, историческую взаимосвязь философских контекстов,
1 Ямпольский М.Б. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. - М.: НИИ киноискусства,
Центральный музей кино, Международная киношкола, 1993. - С. 128.
2 Там же.
3 Там же.-С. 132.
14 подразумевавшихся самими авторами («реальными авторами») фильмов или
теорий в качестве онтологических обоснований этих форм выхода за пределы
«
киноповествования.
Такую связь легче установить внутри тех или иных «синхронических» рядов фактов, например, спроектировав общее информационное поле, определенным образом объединившее в 20-е годы все теории киноавангарда. Гораздо сложнее (прежде всего, в психологическом смысле, в смысле некоторой «привычности») установить факт родства авторских структур, в которых предусмотрены формы выхода за пределы киноповествования, в немом кино и в, казалось бы, совсем другом кинематографе Робера Брессона, Андрея Тарковского, наконец, в кинематографе французской «новой волны», в частности, в фильме «На последнем дыхании», и в еще более позднем «киномодернизме» понятийно-концептуального ряда.
Одна из фундаментальнейших для установления такого родства (для
нашего проекта) философская концепция — идея соединения в
драматическом произведении ритма и Мифа, предопределенного в человеческой глубинной психике самим бытием (мы в нашей работе будем обозначать этот бытийный Миф, используя заглавную букву, чтобы отличить его от тех не бытийных, а, стало быть, субъективно-психологических «мифов», которые, являясь объектами структуралистских исследований или критики,
*
полагаются зависящими от власти исторически меняющихся социальных норм), высказанная Фридрихом Ницше в книге «Рождение трагедии из духа музыки». «Предустановленный» Мифу музыкальный ритм как бы одухотворяет Миф, и душа зрителя поднимается «до уровня некоего всеведения по отношению к мифу»1 (Мифу). Здесь - начало многих взаимосвязанных традиций, важнейших в культуре XX века. Прежде всего, модернистская традиция синестезии, то есть соединения в произведении искусства запечатленных разноприродных форм существования «внутреннего времени» автора. Но идея синестезии не была бы
1 Ницше Ф. Рождение трагедий из духа музыки // Фридрих Ницше. Стихотворения. Философская проза / Сост. М. Коренева. - С-Пб.: Художественная литература, 1993. - С. 235.
15 возможна, если бы в понятии «всеведение по отношению к мифу» уже не
подразумевалось, во-первых, что глубина человеческой психики есть та или
иная бытийная структура1 (по Ницше, миф, который мы называем Мифом); и
во-вторых, что форма существования этой бытийной структуры (позже Барт
назовет ее «полнотой» и противопоставит этой негативной в его философской
системе, всегда ложно-иллюзорной «полноте» позитивную «пустоту»2) есть
именно «всеведение» (в контексте эстетического творчества и восприятия
можно говорить о «всеведении» сначала автора, затем реципиента), получившее
затем в феноменологии Гуссерля название «поток»3 и тождественное у Анри
Бергсона, Вильгельма Дильтея и самого Гуссерля понятию, которое мы в нашей
работе, обобщая все его философские варианты, только что уже назвали и часто
будем именовать в дальнейшем «внутренним временем» (Бергсон назовет это
«внутреннее время» «временем-длительностью», у Дильтея оно связано с его
«категориями жизни», у Гуссерля - это время «конституирования» тех или иных
«внутренних» предметных смыслов - «феноменов»).
Несомненно, идея синестезии коррелирует с тем напрямую связанным с
«философией жизни» модернизмом в искусстве, который идентифицирует себя
как авангардистское искусство, «являющееся жизнью», противостоящее
устаревшему искусству, «отражающему жизнь». Эта оппозиция, в свою
очередь, связана с еще одной системой противопоставлений начала XX века:
искусство, «отделяющееся от комплекса наук и морали»4, проявляющее, по
словам Юргена Хабермаса, «своеволие эстетического»5 и тем самым
подводящее начавшуюся с конца XVIII века автономизацию искусства к своему
пределу, окончательно порывает с той «утопической» эстетикой, которая верует
в социально-полезный критический потенциал искусства. И вот этот-то давший
1 В данном случае в понятие «структура» мы вкладываем тот смысл, который имели в виду различные направления иррационализма, противопоставлявшие свои бытийные иррациональные временные структуры рациональным, в частности, бинарным структурам структуралистов.
См. Барт Р. Критика и истина // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - С. 366. 3 См., например, Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Собр. соч. - М.: Гнозис, 1994. -Т.1.-С.77-89.
* Хабермас Ю. Модерн - незавершенный проект // Вопросы философии. - 1992. № 4. - С. 46. 5 Там же.
мировой культуре многочисленные символистские и авангардистские направления раннего модернизма «бунт эстетического», бунт «искусства для
искусства» против «искусства, улучшающего нравы», соединяясь с прямо противоположной тенденцией - идущей от эстетики Уильяма Морриса идеей новой («современной») подчиненности искусства задачам свободной жизнедеятельности человека, то есть функциональности искусства с ее пафосом «красоты материала» и «синтеза искусств»1, а также с «марксистским» радикальным политическим утопизмом, переходит в бунт уже «антиискусства» против «искусства для искусства». На этом пути мы и застаем вторую важнейшую для нашего проекта (для нашей темы повествования и неповествования в кинематографе) идею авангардистского модернизма, «являющегося жизнью»: идею авангардистского функционального «антиискусства».
Функщоналистская (в России - конструктивистская) идеология «являющегося жизнью» «антиискусства», слившись с еще одним стратегически важным для всего модернизма XX века эстетическим направлением, связанным с формалистскими идеями «искусства как приема» и «остранения», стала исходным пунктом как для другой — по отношению к «синестезическому» варианту - версии модернизма в искусстве (соответственно - для другой формы выхода за пределы киноповествования), так и для теоретического переосмысления самой той эстетики, которая ориентировалась на синестезическую интерпретацию философии «внутреннего времени». Переводя идеологию синестезии, детерминированную ранней философией Ницше, в систему координат, связанную с формалистской теорией «остранения», мы получаем иную форму существования «внутреннего времени» реципиента: эмоциональное «всеведение» по отношению к Мифу меняется на интеллектуальное «всеведение» по отношению к «мифу», то есть к устаревшей системе норм и представлений. Другими словами, на арену и
1 Об эстетике У. Морриса, ставшей, в частности, нараду с названной нами философией Ницше еще одной теоретической первопричиной «синестезической» формы, см., например, Эстетика Морриса и современность // Сост. В. П. Шестаков. - М.: Изобразительное искусство, 1987. - С. 7-221.
17 эстетического теоретизирования, и эстетической деятельности как таковой
выходит изначально понимаемое адептами в контексте социально-необходимой
функциональности искусство «понятия», то есть такое искусство (в 20-е годы —
«антиискусство»), которое подразумевает интеллектуальную формализацию той
или иной «реалистической» «мифологии».
Таким образом, логика нашего подхода к проблеме выхода за пределы киноповествования обусловлена той оппозицией, которая изначально, в первые десятилетия XX века, явилась европейской культуре как «единство и противоположность» двух форм опровержения «реалистического» искусства, «отражающего жизнь»: формы синестезического сосуществования ритма и Мифа в произведении, генерирующего некое «эмоциональное» («иррациональное») протекание «внутреннего времени», то есть «всеведение» по отношению к Мифу; и формы остранения «мифа» в произведении, генерирующего некое «интеллектуально-понятийное» («рациональное») протекание «внутреннего времени», то есть «всеведение» по отношению к «мифу».
Обе эти модернистские линии противостояния искусству, отражающему «реальность» через посредство ее типизации, идеологически оппозиционные одна другой, но формально, в плане теоретических абстракций своих означающих, во многом сходные, были - во всяком случае, в кинематографе - в 30-е годы прошлого века, во времена «реставрации» реализма, прерваны. Однако в 40-е годы наступили уже времена «реставрации» модернизма. Причем, и в этом новом модернизме, и в его дальнейшем развитии можно обнаружить продолжение двух тех же самых традиций, о которых мы говорили только что в связи с авангардистским модернизмом 20-х годов. История «киномодернизма» в таком контексте предстает как почти одновременное явление в фильмах двух версий «необработанного эстетического факта», подробнейшим образом проанализированных в статьях Андре Базена1. Традицию «остранения»,
1 См., например, Базен А. «Дневник сельского священника» и стилистика Робера Брессона // Киноведческие записки. - № 17. - С. 80.
18 генерирующего «понятия», по-видимому, полностью разрывая какие бы то ни было отношения с философией «внутреннего времени», продолжает киноэстетика, тесно связанная с «эффектом очуждения» Бертольта Брехта. Лоренс Оливье, экранизировав в 1944 году шекспировского «Генриха V», одним из первых в мировом кинематографе создал фильм, который мы сетдня можем отнести к разряду культурологических: повествовательный «реализм» исторического события, происходившего в XV веке, «очуждается» у Оливье своего рода «зонгами» - постоянными выведениями зрителя за пределы этого первого «реализма» в область реконструированной режиссером условности театра времен Шекспира, «подтвержденной» и реконструированной тогдашней закулисной театральной жизнью. На этом фоне «реализм» истории становится «реализмом» поставленной драматургии. Однако у Оливье, по словам Базена, с которым мы абсолютно согласны, «Шекспир, как, впрочем, и сам театр, оказываются в прочном плену кинематографа»1. Все это и придает картине герменевтический, а значит, и культурологический оттенок: мы здесь имеем дело не с «реальностью исторического факта», которой и нет вне интерпретации, а с «диалогом» настоящего времени, времени съемки фильма Лоренсом Оливье, с елизаветинской эпохой, «интерпретирующей» эпоху Столетней войны.
К кинематографу, ориентированному на интеллектуальную рецепцию, мы в нашей работе, больше не возвращаясь к периоду «второго» модернизма, то есть к 40-м и 50-м годам, обратимся еще раз, когда будем говорить о фильме «Заводной апельсин», который можно отнести уже к «третьему» модернизму. Гораздо большее внимание у нас будет уделено продолжению другой спроектированной нами модернистской традиции - связанной с синестезической интерпретацией философии «внутреннего времени». Именно это направление отчетливее, на наш взгляд, чем модернизм, ориентированный на интеллектуальную рецепцию, выделилось на фоне «кинореализма», и
1 Базен А. Что такое кино? - M.: Искусство, 1972. - С. 160.
19 соответственно, само( стало фоном, на котором явно проступила «мифичность»
кинематографического «реализма».
И возобновление этого направления «киномодернизма», произошедшее в
40-е годы, и очень сильные перемены в нем во многом связаны с новыми
философскими приоритетами: «философию жизни» и ее эстетическую
ориентацию на «беспредметность», ритм, словом, на неинформативные
(«неинформативные») структуры, вытесняет ориентация на
экзистенциалистскую и персоналистскую линии феноменологической традиции.
В экзистенциалистско-персоналистском «киномодернизме», начиная, наверное,
с «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса, место неинформативных структур
киноавангардистов занимает «внутреннее время», протекающее в форме
«факта»; ну а другой ипостасью «внутреннего времени», той, что у Ницше была
бытийным мифом (который мы называем Мифом), то есть информативной
(вербально-смысловой) иррациональной структурой «всеведения», становится
иррациональная «полнота» авторского экзистенциального воспоминания
экзистенциальной Судьбы героя, чаще всего совпадающей в авторском
понимании с экзистенциальной Судьбой автора. Таким образом, можно сказать,
что «внутреннее время» обретает два информативных, вербально-смысловых,
обличья - инвариантную структуру «факта», предопределившую многие
приемы внутрикадрового монтажа, и инвариантную «иррациональную»
структуру Судьбы, предопределившую ту форму межкадрового построения
фильма, которую Базен назвал «эллиптичностью». Причем, этот новый
«киномодернизм», остающийся верным философии «внутреннего времени», но
переориентировавшийся на ее экзистенциалистскую и персоналистскую линии
развития, отнюдь не отказывается от ритмических, то есть «неинформативных»,
если рассматривать их в прежней, киноавангардистской, системе координат,
структур - вспомним монотонно-ритмический закадровый текст в «Дневнике
сельского священника» Брессона или стихи и музыку в картинах Тарковского.
Однако ритм, музыка вписываются теперь в ряд «необработанных эстетических
фактов», протекание которых во «внутреннем времени» автора, каким он себя
20 мыслит (нашего «реального автора»), становится вторым - наряду с фактом повествовательным - обличьем «факта» из «иррациональной» череды «фактов», составляющей «завершаемую» в экзистенциальном воспоминании Судьбу.
Для того, чтобы яснее стала логика . разговора об этом
феноменологачески-эюистетщалистско-персоналистском «киномодернизме», необходимо, на наш взгляд, кратко изложить те феноменологические, экзистенциалистские и персоналистские позиции, которые важны для нашего проекта.
«Все, что доступно нам благодаря рефлексии, имеет одно замечательное общее всем свойство — быть сознанием о чем-то, сознанием чего-либо ... мы говорим об интенциональности. Это сущностная характеристика психической жизни ... и, таким образом, просто неотделима от нее. Например, от восприятия, которое раскрывает нам рефлексия, неотделимо то, что оно есть восприятие того-то и того-то, и точно так же переживание воспоминания в самом себе есть воспоминание о том-то и о том-то, таково же и мышление таких-то и таких-то мыслей, боязнь чего-то, любовь к чему-то и т.д.»1, - читаем в «Амстердамских докладах» Гуссерля. Бытийная форма существования этого «сознания о чем-то», то есть онтологическая сущность интенциональности, есть «имманентная временность», которую по-другому Гуссерль называет то «интенциональным актом», то «интенциональным переживанием»2, а мы на предыдущих страницах назвали «внутренним временем». «... глубинный источник всех заблуждений возникает из первоначально кажущегося само собой разумеющимся уравнивания имманентной временности и объективно реальной временности»3, - говорит философ, имея в виду различие между «естественной установкой» сознания, знающей только «объективное время», которое «есть форма протяжения объективных реальностей ... проходящая через реальный мир в
1 Гуссерль Э. Амстердамские доклады. Феноменологическая психология // Логос. Фипософско-литературный
журнал. - 1992.№ 1 Qk 3). -С. 65.
2 См., например, Мотрошилова H. В. Интенлиональность в «Логических исследованиях» Э. Гуссерля //
Вопросы философии. - 2000. № 8. - С. 138-157.
3 Гуссерль Э. Амстердамские доклады // Указ. соч. - С. 67.
21 качестве структурной подосновы физической природы»1, и сознанием,
переживающим свою «имманентную временность», то есть осознающим свое
истинное бытие, свой интенциональный акт.
Важнейшее свойство конституирующейся предметности интенционального акта — ее синтетический характер, характер выстраивающегося структурного единства: каждое новое, рождающееся в данной временной «теперь-точке», «наличие» воспринимается в структурном единстве с сохраняющимися в памяти предшествующими, уже синтезированными, «наличиями».
Другое важнейшее свойство - «горизонтность» интенционального акта: в каждой «теперь-точке» на уровне не осознаваемом, а - даже в процессе рефлексии интенционального акта - лишь смутно предощущаемом, «мгновенно длится» «прото-поток» или «горизонт», в котором - как некая первичная память - осуществляется «всеведение» (здесь, нам кажется, уместно именно это ницшевское слово) по отношению ко всем возможным актуализациям синтезов смысла. То есть, говоря словами самого Гуссерля, любому актуализирующемуся в «теперь-точке» синтетическому предметному смыслу «принадлежит горизонтное сознание, а именно ... в собственном смысле увиденное в себе самом, в соответствии со своим собственным смыслом, указывает на бесконечный избыток определений, на неувиденное, частично знакомое, частично неопределенно-незнакомое ... Это есть синтетически связанная цепь образов и представлений, в которой ... слипающийся со смыслом восприятия пустой горизонт ... имплицитно несет в себе смысл восприятия ... он на деле есть антиципирующее предуказание все новых и новых бытийно принадлежащих восприятию моментов, еще неопределенных, но могущих быть определенными...» «Пустой горизонт» здесь - важнейший оксюморон, та неразрешимая парадоксальность, которая «указывает» на то, что интенциональный акт в любой своей «теперь-точке» есть, с одной стороны, определенное следствие, следствие «горизонта», с другой же стороны, этот
1 Гуссерль Э. Амстердамские доклады // Указ. соч. - С. 67.
2 Там же.-С. 73.
22 «горизонт» «пуст», и «феноменологический мир является не толкованием
предварительно существовавшего бытия, но созданием
бытия»1. Другими словами, любая смысловая актуализация в «интенциональном
акте» есть «неопределенное следствие» «пустого горизонта».
«Горизонт», бытийствующий во всех временных «теперь-точках», - то
«мгновенное Все-сразу», которое, таким образом, превращает любой «интенциональный акт» как бы в воспоминание: воспоминание восприятия, воспоминание «чувств», воспоминание мышления, наконец, что для нас особенно важно, воспоминание воспоминания. Воспоминание воспоминания (у Бергсона этот модус «внутреннего времени» - «времени-длительности» -называется «памятью в собственном смысле слова» ) «представляет собой» дискретный интенциональный акт, данный сознанию как «поток» тех или иных актуализаций «горизонтного» воспоминания («прото-воспоминания»), являющихся отдельными фактами (также данными сознанию как интенциональные акты воспоминания), не связанными друг с другом иным, кроме интенционального акта, «единством места, времени и действия».
Вот эта-то двойственность интенционального «воспоминания воспоминания» — память «в форме» воспоминания факта и «в форме» воспоминания иррациональной цепочки фактов - и спроецировалась в киноэстетику, предопределив видение «внутреннего времени» в двух ипостасях - как «времени в форме факта» и «времени в форме Судьбы». С другой же стороны, в ином контексте, как мы уже говорили, это разделение является «цитатой» киноавангардистского различия между неинформативными и информативными структурами, между «ритмами» и Мифом.
Что же касается именно инвариантной иррациональной структуры Судьбы, то здесь уже слово в нашем проекте должно быть предоставлено
1 Цурганова Е. А. Интенциональность // Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический
справочник. - М.: Интрада, 1996. - С. 213.
2 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. - С. 87.
3 Бергсон А. Материя и память // Собр. соч.: В 4 т. - М.: Московский клуб, 1992. - Т. 1. - С. 209.
23 экзистенциалистской и персоналистской интерпретациям гуссерлевской
феноменологии.
После «философии жизни» и бурной авангардистской эпохи, ставшей
визитной карточкой европейского и американского модернизма, ницшевская
мысль о состоянии «всеведения» по отношению к судьбоносному Мифу была
феноменологически аранжирована экзистенциализмом и персонализмом -
двумя родственными.философскими направлениями, открывшими модернизму
новые горизонты. Экзистенциалистско-персоналистская установка придала
гуссерлевскому бытийному «горизонту» судьбоносное измерение:
«выстаивание перед смертью»1. «... трудность не в том, чтобы умереть, а в том,
чтобы совладать со смертью сейчас» , - говорит Мартин Хайдеггер и связывает
способность «совладать со смертью сейчас» с определенным характером
душевной целостности — «бытием временем»: «Существование здесь есть не
что иное, как бытие временем. Время - это не что-то такое, что происходит
вовне меня в мире, но то, что я есмь сам. В предтекании, виновности и
действовании само время есть здесь. Существование не просто всякий раз есть в
такой-то миг, но оно есть оно само на всем протяжении своих возможностей и
своего прошлого. Замечательно то, что в действовании, направленном в
будущее, оживает прошлое и исчезает настоящее. В собственном, настоящем,
смысле действуют так те, кто живет изнутри будущего, — такие могут жить
изнутри прошлого, настоящее же творится само собой. Время составляет всю
целостность моего существования здесь и в то же время определяет мое
собственное бытие в каждый его момент»3. То есть - и здесь мы подошли к
важнейшему для нас пункту как экзистенциализма, так и персонализма —
«выстаивание перед смертью», «бытие временем», жизнь одновременно и
«изнутри будущего», и «изнутри прошлого» при том, что «настоящее творится
само собой», - это такая череда жизненных действовании, которая
Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925) // Вопросы философии. -1995. № 11. - С. 133.
2 Там же.-С. 132.
3 Там же.-С. 134.
24 «предопределяется» тем самым гуссерлевским «пустым горизонтом»,
являющимся на этот раз, то есть для Хайдеггера, неким бытийствующим в
любой твоей временной «теперь-точке» мгновенным «всеведением» по
отношению к «моей целостной жизни», некой «полнотой» воспоминания всей
«моей Судьбы», ее прошлого и будущего. Соответствие своему бытийному
«горизонту», своей «полноте» экзистенциальной Судьбы, Хайдеггер называет
«пониманием».
Вспомнив «методологическую» часть нашего «Введения», можно отметить, что, полагая, как и Гуссерль в своих поздних работах, «горизонтное» бытие «моей целостной жизни» всегда историческим, Хайдеггер видел одну из современных возможностей такого «горизонтного» бытия как «бытие историком». Это «понимание», при котором «моя Судьба» раскрывается и осуществляется как все более полная реализация в бесконечном экзистенциальном «круге понимания»1 «возможности обрести понятие существования для возможности истолкования его истории»2. Правда, у Хайдеггера с определенного момента его философской деятельности такое историческое «понимание» трактуется как некая «монологическая» герменевтика, в которой язык Бытия «говорит» поэтом-историком, раскрывая в иррациональном, «поэтичном», «потоке» сознания лишь то, что оно желает раскрыть3.
То, что Хайдеггер именует «бытием временем» или «выстаиванием перед смертью», можно сопоставить с упоминавшимися уже нами бахтинскими понятиями «вненаходимость» и «завершение». Только с состоянием «вненаходимости» Бахтин связывает возможность истинно-бытийных поступков, в частности, истинно-бытийной эстетической деятельности, возможность быть автором: «... автор должен стать вне себя, пережить себя не в
О понятии «круг понимания» в философии Хайдеггера см., например, Мартин Хайдеггер. Работы и размышления разных лет / Сост. А.В. Михайлов. - М.: Гнозис, 1993. - С. 14,15.
Хайдеггер M. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925) // Указ. соч. - С. 137,138.
3 См., например, Фалев Е.В. Герменевтический метод М.Хайдеггера в применении к стихотворению Стефана Георге «Слово» // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. - 1993. № 6. - С. 27-34.
25 том плане, в котором мы действительно переживаем свою жизнь; только при
этом условии он может восполнить себя до целого трансгредиентными жизни из
себя, завершающими ее ценностями; он должен стать другим по отношению к
себе самому...»1
«Стать другим по отношению к себе самому» - значит, найти в себе
«другого». По существу, Бахтин — в отличие от Хайдегтера, понимающего
Бытие «во мне» («здесьбытие»), скорее, «монологично», чем «диалогично» -
говорит о той же самой бытийной интерсубъективности человеческого ego, о
которой, как мы помним, шла речь в гуссерлевских «Картезианских
размышлениях». В то же время, по мнению многих исследователей бахтинской
эстетики, с которым мы согласны, ее интерсубъективизм близок
западноевропейскому персонализму. «Персона» или «личность» у
персоналистов - это множество становящихся «единомоментных»
тождественных «горизонтов», «целостных жизней», каждая из которых
тождественна и основополагающему инвариантному Мифу. Этот
основополагающий Миф, как бы фундирующий структурное единство всех
судьбоносных личностных «горизонтов», является у персоналистов Мифом
евангелическим. «Чтобы увидеть смысл, намекающий на структуру нашей
сознательной жизни или на структуру нашей истории, нашей судьбы, - говорит
в одной из своих лекций Мераб Мамардашвили, - нужно, оказывается,
двинуться к одной точке — к точке одновременности с происходящими там
событиями. Одновременность есть вечный акт. Вечный акт чего?.. Это образ
«агонии Христа». То есть содержание этой агонии и есть вечный акт. Как
говорил Паскаль, агония Христа будет длиться до конца времен (это не есть
что-то совершившееся, мы внутри нее). И добавляет еще одну вещь, очень
важную и для меня, и для нашего понимания: агония будет длиться... И все это
время нельзя спать»2.
1 Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. - С. 99.
2 Мамардашвили М.К. Введение в философию, или То же самое, но в связи с романом Пруста «В поисках
утраченного времени» // Искусство кино. - 1993. № 2. - С. 96.
26 Здесь у Мамардашвили отчетливо звучит важнейшая в персонализме мысль
о «горизонтом» единстве в «личности» индивидуальной Судьбы, Мифа и
Истории. (В последней части нашей работы мы дадим «интерпретацию
интерпретации» этой персоналистскои версии структурного единства
«личности» в кинематографе Тарковского.) «Агония Христа» в персоналистскои
философии и эстетике составляет структурное единство (единый «горизонт») с
другими «длящимися» Мифами; вся совокупность этих тождественных Мифов
и есть «длящаяся» «личностная» История. «В XX веке все интересные вещи
художественного опыта, которые одновременно являются глубоким опытом
сознания, делались именно под этим углом зрения, - продолжает в той же
лекции Мамардашвили, — Если вы помните, у Фолкнера абсолютно та же самая
интуиция, те же самые пафос и страсть... Фолкнер был тоже маниакально
одержим проблемой времени, или проблемой мига. Он считал, что время
вообще есть миг и мы можем оказаться внутри его проявления (мига
действительного времени), только оказавшись в некотором пространстве
одновременности всех событий, которые по своему смыслу именно
одновременны: они все связаны и перекликаются и взаимно отсылают друг к
другу. И в этом смысле нет никакого прошлого и никакого будущего — все
одновременно. И Фолкнер говорит: каждый юноша-южанин воображает себе ту
точку истории, когда в решающем сражении между южанами и северянами...
еще не развернуты знамена, не заряжены пушки и бойцы не пошли еще в
бой...»1
«Персоналистское» произведение искусства в персоналистском же
толковании — это «зеркало», в котором экзистенция «смотрящего»
обнаруживает, что, говоря словами Эмманюэля Мунье, «Ты», а в нем и «Мы»
предшествуют «Я» или, по меньшей мере, всегда сопровождают «Я»2 ввиду
общего для «Ты» и «Я» «личностного» «горизонта», общей «личностной
Истории, общих «личностных» судьбоносных Мифов; это место, где находит
1 Мамардашвили М.К. Введение в философию, или То же самое, но в связи с романом Пруста «В поисках утраченного времени» // Указ. соч. - С. 96. Мунье Э. Персонализм // Французская философия и эстетика XX века. - М.: Искусство, 1995. - С. 134.
27 себя «личность», которая, благодаря «зеркальным» свойствам его, «выставляет
себя во-вне, ex-pose»1.
У Мориса Мерло-Понти персоналистская идея произведения искусства как зеркального отражения того в «Я», что совпадает с «Ты» (зеркального отражения «Мы»), получает развитие: «Мы» — это не столько «личностный» «горизонт» временных информативных структур (Мифов, Истории), сколько функционирующие в экзистенциальных глубинах «души» онтологические структуры «моего тела». Произведение искусства, актуализируя, «вытягивает» вовне «меня», «моей» эгоцентрической позиции, эти общие для «Я» и «другого» онтологические временные структуры восприятия (и осуществления) живых движений и онтологические временные структуры восприятия пространства, совпадающие со структурами «вещей-в-себе» или «подобные» им: «... одна и та же вещь находится ... посреди мира, и здесь в фокусе зрения, - одна и та же, или, если угодно, подобная, но тогда это действительное подобие: родство, генезис, метаморфоза сущей вещи в ее видение»2.
Феноменология восприятия Мерло-Понти - одно из ранних свидетельств наметившегося во второй половине прошлого столетия своего рода «возвращения» к «философии жизни». В данном контексте может быть рассмотрен и постструктурализм, являющийся в таком случае следующим после феноменологии восприятия этапом «возвращения». Прежде всего, в этой связи необходимо сказать о трансформации в «символическое бессознательное» («символический порядок») гуссерлевского понятия «жизненный мир», которая происходит в структурном психоанализе Жака Лакана. «Символическое бессознательное» - это «совокупность социальных установлений, норм, предписаний, запретов и т.п., которую ребенок застает готовой при своем
1 Мунье Э. Указ. соч. - С. 134.
2 Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. - С. 225.
3 Для самого Лакана «символическое бессознательное» - это, в первую очередь, трансформация в
«структурно-языковую» сферу понятий «бессознательное» из первой фрейдовской теории (первой «топики») и
«Оно» и «Сверх-Я» из второй фрейдовской теории (второй «топики»). Однако наш контекст несомненно также
подразумевается структурным психоанализом в той части, где у Лакана бессознательность социо-кулътурного
«символического порядка» противопоставлена любому осознаванию социокультурных «воображаемых»
смыслов.
28 рождении и осваивает по большей части совершенно бессознательно»1. Важнейшим отличием «символического бессознательного» от, казалось бы,
схожего с ним по смыслу «жизненного мира», является абсолютная
непрозрачность для сознательного «Я» (для «воображаемого», по Лакану)
функционирования первого, в то время как второй, как мы помним, доступен у
Гуссерля смыслопорождающему трансцендентальному ego. Означающие
функционирующего как язык «символического бессознательною» не связаны
никаким структурным единством с его означаемыми и с детерминированными
ими осознаваемыми смыслами поведения. В более глубинных, чем этот уровень
детерминации, онтологических слоях психики «символическое
бессознательное» функционирует как непрерывный процесс
разворачивающейся во «внутреннем времени» «комбинаторики сцепления означающих»2, как бессмысленная, но являющаяся проявлением бытия в человеке («Логоса»3, по Умберто Эко) речь множественного Другого, которая может быть «схвачена» и объективирована только в речи безумца или в творческом акте, всегда абсолютно лишенном возможности онтологически-истинностного разумного познания себя. Отсюда - кричащее противоречие: «... Другой, ухватывание которого потребно для самого хода развития мысли ... «это не то, что может быть объектом познания»4. И как следствие - стремление Лакана и его последователей лишить свои тексты логической ясности, их «онтологическое» нежелание быть «прозрачными», адекватно понятыми.
Если понятия «интенциональность» и «горизонт» (так же как и ницшевский Миф) предопределили экзистенциалистскую и персоналистскую «полноту», то есть судьбоносное «бытие временем», как онтологическую глубину «Я», то «символическое бессознательное» Лакана, напротив, предопределило псотструктуралистский пафос «пустоты», ту в определенном смысле продолжающую традицию философии «внутреннего времени» позицию,
1 Косиков Г.К. Комментарии к Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика, Поэтика. - С. 590.
2 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - С-Пб/. Петрополис, 1998. - С. 336.
3 Там же. - С. 332.
* Там же.
29 согласно которой и феноменология, и экзистенциализм, и персонализм
неполноценны ибо, во-первых, неиронично и «логично» веруют в
определенную истину, и во-вторых, в своей логике как раз исходят, как пишет
Ролан Барт по поводу экзистенциалистской литературы и критики, из «наивного
убеждения будто субъект представляет собой некую «полноту»1. Это «пустота»,
отрицающая какую-либо связанную с бытийным психологическим уровнем
человека рациональную или иррациональную поведенческую, в том числе и
речевую, стратегию смысла, какое-либо онтологически значимое повторение
всегда существующих как «смысл» «означаемых», имеющих различающиеся
«означающие»2. Новому, постструктуралистскому, «Логосу» — бытию в
человеке — остается лишь одно повторение — повторение повторения «чистого
различия». Именно «чистое различие» становится тем идеалом, который
должны обрести критик и автор в произведении искусства, ибо «произведение
искусства ... хотя и имеющее в основе какую-то определенную структуру,
может функционировать, значить что-либо и обретать вес в наших глазах,
только если оно понято как Зияние, генерирующее смыслы, как Отсутствие, как
вихревая Воронка, о которой мы догадываемся только по излучаемым ею
смыслам, сама же она никаким образом не может быть заполнена»3.
Таким образом, творческая деятельность начинает трактоваться как работа
онтологического «различания» (данный термин мы используем, скорее, не в
специфически дерридианском смысле, которого - «по определению» — и нет, а
обобщенно, для обоснования нашего «присутствующего» понимания), всегда
«опережающего» иллюзорное «небытийно-субъективное» означивание. Этот
пафос «доинформативности», «дознаковости» как главной ценности
творческого акта, являющийся в то же время и пафосом бесконечно богатой
информативности, «излучаемой» текстовой «пустотой» («Зиянием»), как раз и
можно интерпретировать как своеобразное «возвращение» к «философии
' Барт Р. Критика и истина // Указ. соч. - С. 366.
2 О главных постструктуралистских понятиях см., в частности, Автономова Н. Деррида и грамматология.
Предисловие к Жак Деррида. О грамматологии. - М.: Ad Marginem, 2000. - С. 7 - 107; Ильин И.П.
Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М.: Интрада, 1996. - С. 9-234.
3 ЭкоУ. Указ. соч.-С. 336,337.
жизни», если иметь в виду пристрастие многих эстетических направлений, связанных с «философией жизни», именно к неинформативным структурам.
Мы же, добравшись в нашем «Введении» до постструктуралистского этапа в интерпретациях «внутреннего времени», до этапа отношения к тому, что было у Гуссерля осознаваемым «интенциональным актом», как к «доинформативной», то есть не могущей быть осознанной, деятельности неисчерпаемого Другого, подошли тем самым к нашему собственному «возвращению» — к фильму Годара «На последнем дыхании».
Однако, рассказав о проективно-структуралистском методе, который лежит в основе нашего исследования, об имеющем отношение, прежде всего, к истории кинематографических форм предмете нашей работы и о философской логике, детерминирующей ее «фабулу», мы в завершении «Введения» должны сказать несколько слов и о структуре, то есть последовательности рубрикации, дальнейшего изложения, о той структуре, которая превращает нашу «фабулу» в «сюжет».
В первой главе, разбирая в первом ее параграфе фильмы «На последнем дыхании» и «Заводной апельсин», а во втором — киноавангардистские теории Белы Балаша, Жана Этитейна и Сергея Эйзенштейна, мы подходим к проблеме выхода за пределы киноповествования, прежде всего, имея в виду ту -в нашем проекте актуальную и для раннего, и для позднего «киномодернизма» -дифференциацию, которую, с учетом «в уме» всего, что было сказано о ней на предыдущих страницах «Введения», можно условно назвать оппозицией двух линий модернизма: «эмоциональной», верящей во «внутренне-временную» бытийную «полноту» или «пустоту» автора и ориентированной на ее актуализацию в реципиенте; и «интеллектуальной», ориентированной, прежде всего, на актуализацию «понятийной» рецепции. В то же время, наш рассказ об этих двух версиях «киномодернизма» укажет и на те изменения, которые произошли с каждой из версий на диахронной оси истории кино.
В первом параграфе второй главы, взяв в качестве примера фильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга «Юность Максима», мы говорим о
31 структуре советского «киномифа». Этот разговор необходим для того, чтобы яснее стал тот контекст, в котором как раз и существуют сами эти важнейшие для нас понятия - «киномодернизм» и, соответственно, «кинореализм»; ибо советский «киномиф», будучи, конечно же, носителем самых разнообразных смыслов, в то же время в одном из своих измерений - а именно, в «киномифологическом» в нашем узком смысле — является радикальной «реалистической» формой, тик как абсолютно не допускает в «адекватной» первопорядковой рецепции присутствия каких бы то ни было выходящих за пределы киноповествования смыслов, какого бы то ни было второго нарратива. На фоне этого разбора, во-первых, «само собой» уточняется все то, что подразумевалось в предыдущей главе в наших проектах киноавангардистских теорий; во-вторых, отчетливее видятся и важные нам приметы «собственного лица», и важная нам связь с общей «киномодернистской» традицией того, экзистещиалистско-персоналистского, «киномодернизма», о котором речь идет во втором параграфе второй главы.
В этом заключительном параграфе основной части работы дается наша интерпретация кинотеории Андре Базена и, по нашему мнению, связанного с ней единством экзистенциалистско-персоналистского религиозно-философского подхода к бытию человека кинематографа Андрея Тарковского, в котором общее для «киномодернизма» разделение на повествование и неповествование подчинено «иррациональной» логике соприсутствия во «внутреннем времени» человека «времени в форме факта» и «времени в форме Судьбы».
Структура против "структуры", или/и очуждение киноповествования (о фильмах "На последнем дыхании" и "Заводной апельсин")
Соприкоснувшись на мгновение с фильмом Жана-Люка Годара «На последнем дыхании», мы тут же отсоединились от него ради пространного изложения метода нашего исследования, его предмета и логики.
Теперь, возвращаясь к картине Годара, заново подчеркнем на первый взгляд парадоксальную особенность поведения героя фильма, пока гипотетически полагая, что этот парадокс «подразумевался» и авторской картиной мира. Итак: с одной стороны, поступкам Мишеля Пуакара не позволяется преодолевать диссоциацию, приобретать помимо простой смежности еще некую идущую от субъективности персонажа семантическую эквивалентность, становиться следствием какой-нибудь «осознанной необходимости» или любого другого замкнутого психологического пространства. То есть, как мы уже говорили в начале «Введения», не «нечто» предопределяет эти поступки, а поступки лишь сами по себе представляют собой «нечто». С другой же стороны, поведение Пуакара постоянно подключено к тем или иным «жанрам», а значит, имеет некую предысторию, что-то ему предшествующее.
Предполагать отсутствие психологической предопределенности в действиях Пуакара или, что то же самое, его свободу от «всех личностных «оболочек» заставляет нас фрагментарность этих действий. Фрагментарность как знак не «субъективно-психологического» существования, а экзистенции автора и героя была кодифицирована в кинематографе экзистенциалистско-персоналистского периода, во всяком случае, после интерпретаций Андре Базена этого кинематографа. Слова и действия героя были эллиптичны, что и создавало эффект фрагментарности и в комплексе с определенной манерой внутрикадрового и межкадрового монтажа обозначало бытийно-свободное разворачивание экзистенциального воспоминания автора экзистенциальной
Судьбы своего героя, коим сам автор часто и был. Однако случай Пуакара иной: его отдельные поведенческие целостности не кажутся фрагментами вспоминаемой целостной Судьбы, ибо они воспринимаются как пародийные и абсурдные, а это несовместимо с семантикой экзистенциального воспоминания. Фрагментарность здесь — следствие причастности различающимся поведенческим практикам, дающей ощущение полного отсутствия общего контекста действий. (Устраненная «жанровость» действий Мишеля, ситуация непрерывного столкновения разных систем (их можно назвать и «языками», и «жанрами», и «поведенческими практиками»), актуализирует восприятие их именно в качестве различающихся систем, заставляет видеть поведение героя как череду все новых, обрывающих друг друга на «полуслове» поведенческих уподоблений: он выглядит и действует как герой Хэмфри Богарта, ведет себя за рулем автомобиля то как опереточный персонаж, то как профессиональный Дон Жуан, подпрыгивает и машет руками перед зеркалом как участник боксерского поединка и т.д. Онтологическая (в том смысле, который придавал этому слову Базен) форма «реалистичности» изображения и звука - пока она не «перебивается» вкраплениями «авторского присутствия», о которых речь у нас пойдет ниже подчиняет себе эти постоянно обрывающиеся «как», и, таким образом, говоря о киноповествовании, о том нарративе, который не выходит за пределы событий, так или иначе связанных с историей взаимоотношений персонажей фильма, мы должны констатировать: в лице Мишеля Пуакара перед нами предстает реальный человек, являющийся одновременно и пародической личностью в духе описанного Юрием Тыняновым графа Хвостова, и вариантом абсурдного героя, которому, по словам Альбера Камю, «свойственно неверие в глубокий смысл вещей. Он пробегает по ним, собирает урожай жарких и восхитительных образов, а потом его сжигает»1. Впрочем, абсурдный человек Мишель Пуакар, кажется, лишен не только веры, но и неверия. Он не восстает против «желания единства ... требования ясности и связности» своей судьбы; такое восстание, как бы ни хотел избежать этого Камю, было бы уже «ясностью и связностью», чем-то цельным, какой-то абсурдистской идеологией, на словах отвергающей ту идею человеческой экзистенции, которая восходит к гуссерлевской и бергсоновской имманентной памяти, к хайдеггеровской памяти Судьбы в «бытии временем», а на деле лишь радикализующей эту идею. Поведение же Пуакара еще более радикально: это осознаваемый Сизифов труд, разбитый на массу не подозревающих о существовании друг друга фрагментов. Но все-таки, как быть с тем, что это фрагменты «жанров»?
Представим себе такую картину: снятый средним планом красивый человек на киноэкране произносит красивый монолог о любви к животным. Если этот фильм показывается не в перерыве работы цеха скотобойни, в которой трудятся - сегодня такое возможно - бывшие доценты или музыканты, то есть люди с вполне интеллигентным чувством юмора, то все происходящее на экране отнюдь не пародийно: зрители проникаются искренним сочувствием и к животным, и к этому представителю общественного движения, руководимого Брижит Бардо. Но вот происходит смена кадра: вместо поясного плана появляется изображение героя во весь рост. Он по-прежнему говорит о любви к животным, но зритель видит, что стоит этот человек на каком-то конусе: одна нога опирается на вершину, другая болтается в воздухе. Открывается, что казавшаяся наполненной высоким смыслом жестикуляция - лишь инстинктивные движения персонажа, пытающегося сохранить равновесие. И здесь уже несомненно можно говорить о восприятии пародии - слова о любви к животным, перемещаясь в стихию жизни, представленную хаотическими дерганьями не желающего куда-то сваливаться тела, становятся условностью,
Мифы, "оживляемые" ритмами, или/и ритмы, остраняющие "мифы" (о формах выхода за пределы киноповествования в теориях киноавангарда 20-х годов)
В наших интерпретациях фильмов «На последнем дыхании» и «Заводной апельсин» тема авторских форм выхода за пределы киноповествования развивалась в двух направлениях. В первом случае, как показал разбор картины
Годара, одна из авторских стратегий — обнажение истинно-бытийного «внутреннего времени» как деятельности «текстового» Другого «во мне» и противопоставление этой деятельности «субъективному» построению «мифологической» структуры Второе направление -- его мы обнаруживаем при разборе фильма Кубрика — также ориентируется на обнажение «мифологичности» повествования; но здесь авторская инстанция стремится предъявить себя зрителю не столько как «дискурс», как «текст», в котором автор«умирает», сколько как определенную логику «завершения» героя, как дискурс, превращающий «образ» мира «глазами героя» в авторскую «аллегорию».
Оба этих направления «киномодернизма», обладая сходством ввиду свойственной каждому из них «антимифологичности» или, в определенном смысле, «антиреалистичности», продолжили в 60-е годы две взаимосвязанные традиции. Одна из этих традиций — открытая, высказанная в работах теоретиков и комментариях режиссеров, приверженность философии «внутреннего времени», краткое изложение которой мы дали во «Введении». Здесь всегда речь идет о неинформативных («ритмических») и информативных (смысловых) «потоках», эмпатически — через посредство экрана - «передаваемых» авторами зрителям. Другая традиция - это, прежде всего, борьба с искусством, создающим «мифы», методом превращения «мифов» в «понятия». Именно такой общей интенцией связаны и «остраняющее» искусство в теориях формалистов, и кинотеория Эйзенштейна, и пафос работ, Беньямина, и «эпический театр» Бертольта Брехта. «То, что является «естественным», должно принять черты необычного. Только таким путем можно заставить раскрыться законы причин и следствий», — говорит Брехт о своем «эффекте очуждения». И если рассматривать брехтовский «эпический театр» именно в контексте его функции раскрывать «законы причин и следствий», то есть генерировать в зрительском восприятии понятия, то сразу же обнаруживается несомненное родство «эффекта очуждения» с беньяминовской темой политически-полезной функциональности произведения искусства «в тот момент, когда масштаб подлинности становится неприложим» к нему, то есть «в век его технической воспроизводимости».
Но с другой стороны, искусство и, конкретнее, киноискусство, связанное с философией «внутреннего времени», деформируя привычные формы, для «адекватного» зрителя несомненно являлось искусством остраняющим, очуждающим, то есть генерирующим «понятия». А искусство, стремившееся рождать понятийное мышление, в замыслах его создателей должно было передавать от авторов реципиентам не какие-то статические абстракции (к теме «статичности», то есть не «насилующей» зрителя идеологией «неэмоциональности», абстракций модернистская традиция, о которой мы говорим, пришла в 60-е годы, в эпоху появления «концептуального искусства»), но генерировать понятийные информативные «потоки», то есть «внутреннее время».
Это родство искусства «внутреннего времени» и искусства «понятий» мы постоянно будем иметь в виду, разбирая теории киноавангарда 20-х годов.
Многочисленные рекомендации, даваемые теоретиками киноавангардизма создателям фильмов (часто, как известно, те и другие были одними и теми же лицами), можно привести к одному важному принципу: о каких бы в большей иди .меньшей степени конкретизированных стилистических чертах ни говорилось, речь всегда в конечном итоге шла о способах эмпатического «выведения наружу», в верхние слои сознания, глубинных временных структур зрительского бессознательного, структур «жизни». Велся ли разговор о движениях человеческого тела, мимике, жестах, монтажных ритмах или о понятиях, казалось бы, чисто пространственных — об орнаментальности или гомогенности экранного изображения, о «тоне» изображения, «глазах ландшафта», «лице местности», «кукольности» — это всегда был разговор именно о времени, о воздействии экрана на некую онтологическую временную сущность человека, становящуюся в результате явной для самой себя. Ну а самым первым условием достижения такой явленности «жизни» было требование преодоления того, что можно назвать знаковостью экранного изображения — преодоления совсем иного рода воздействия, при котором зрительское восприятие отзывается некой смысловой привычностью, привычностью означаемого, предопределенного не «жизненной», не бытийно временной, а субъективно-человеческой «мифологией» (напомним: такую «мифологию» мы договорились брать в кавычки, чтобы отличить ее от бытийного Мифа) зрителя.
У этого проявившегося не только в теориях киноавангарда, но и в авангардистской живописи и поэзии стремления довольно древняя европейская родословная. Еще Плотин, предвосхищая многие принципы иконописи, говорил, что живопись, чтобы прорвать материальную оболочку и соединиться рч высшим духовным миром, должна перестать идти на поводу у тех иллюзорных смыслов, которые дает нам наше зрение, и, избегая перспективистских деформаций, изображения пространственной глубины и теней, сосредоточить свои усилия на схватывании и передаче самому создаваемому полотну некой реальной истины, становящейся таким образом истиной самого полотна — его поверхностным сиянием, ритмом и гармонией. Преодоление материальной оболочки, по существу, и означает у Плотина то, что мы назвали преодолением знаковости, ибо знаковость в данном нашем контексте — воспринимаемый, как сказал бы Гуссерль, в «естественной установке» привычный смысл изображенных вещей.
Преодоление знаковости, таким образом, - это стремление к достижению такого воздействия на зрителя, которое происходит здесь и теперь и не связано ни с каким предданным восприятию как определенная привычка не бытийным информативным кодом.
Программу авангардного искусства точно сформулировал американский критик Клемент Гринберг в эссе 1939 года «Авангард и кич»: «Содержание должно быть настолько полно растворено в форме, чтобы произведение искусства или какую-либо его часть нельзя было свести к чему-то, не равному им самим ... события или содержание становятся чем-то таким, от чего нужно бежать, как от чумы».
От киноавангарда к "кинореализму". "Киномиф" (о фильме "Юность Максима")
Говоря о «модернистском» типе остранения, мы должны еще раз подчеркнуть, что разрушение унитарности повествовательного означаемого экранного знака возможно только в том случае, если в структуре означающего появляются элементы, кодифицированные как «неповествование». Именно такие кодификации, как показал наш анализ, имели в виду авторы теорий одноавангарда, «моделируя» зрительское восприятие., Так понимаемый «киномодернизм» позволяет соответствующим образом понять 1;й(1.«кинореализм». Поэтому можно сказать, что в европейском и американском кинематографе 30-х годов возобладало осознанное на фоне памяти об авангардистском натиске именно как «кинореализм» стремление к такому воздействию на зрителя, при котором не было бы никакого деления означаемого экранного знака на «повествование» и «неповествование», ибо «перцептивным объектам» надлежало присутствовать в воспринимающей психике (воспользуемся еще раз выражением Эйзенштейна) «не доходя до сознания». В «политическое десятилетие», сделавшее своим главным героем идеальную сильную личность, ведущую войну с социальными врагами1, призыв Рене Клера полностью подчинить ритмы «сентиментальной стороне каждого события» оказался востребован и французским поэтическим реализмом, и голливудским жанровым кино, и сталинским и нацистским «киномифами». Лишившийся социально-психологических опор в окружении «правых» и «левых» идеологий, становившихся массовыми мифологиями, «модернистский» тип остранения был предан анафеме, и кино почти повсеместно стало «реалистическим».
Нагляднейшие примеры «кинореализма» 30-х годов демонстрирует кинематограф тоталитарных режимов. Именно в «киномифах» общие для авторов и реципиентов пространственные структуры изображений, оставаясь в измерении «пространственном», получают еще и измерение «временное», как сказали бы теоретики киноавангарда, «музыкально»-ритмическое. И весь этот сложный вторично-временной процесс, ритмизирующий результаты первично-временных процессов образования структур пространства, полностью подчинен процессу констатирования мифологического («реалистического») повествования.
Что же касается самой мифологической структуры, той инвариантной «правды жизни», «подтверждение» которой вызывало в душах большинства современников величайший прилив энергии, то в деле ее создания в 20-е и 30-е годы разное и не всегда легко разделимое участие приняли как архетипы коллективного бессознательного, так и «символизирующая» их идеология, а с другой стороны - как «формы жизни», так и «формы экрана».
В статье Юрия Ханютина «Кинематограф-нацизм-пропаганда» описывается механизм перенесения в жизнь нацистских мифологических абстракций, внедрения «в массы идеи великой расы, руководимой великими вождями. Для немецкого обывателя нацистская пропаганда создавала вполне стройную, законченную систему представлений о мире, в котором была определена его миссия, его враги и его собственное положение в стране. Вся пропаганда доказывала ему, что он счастлив, что он пользуется всеми правами и что его судьбу разделяют вожди нации. ч; Тысячи метров нацистской хроники были потрачены на доказательство этого тезиса. Геринг участвует в народном гулянии, пьет пиво и по-крестьянски вытирает руками рот. Геббельс на елке раздает игрушки детям. Гитлер тискает детишек и собственноручно кидает лопату земли на строительстве автобана». ,
Ну а кинематографический прообраз будущего нацистского I мифологического «верха» был явлен в так называемых «горных фильмах» Арнольда, Фанка. В «Психологической истории немецкого кино» Зигфрид Кракауэр, так пишет об их перемешанном с инфантильностью «ритуальном потенциале»: «... горные верхолазы ... напоминали фанатиков, которые исполняли культовый ритуал ... Духовная незрелость и горный энтузиазм были тождественны. Когда в «Священной горе» девушка говорит юноше, что готова выполнить его любое желание, тот опускается на колени, уткнувшись ей головой в подол. Это жест владельца кафе»
Собственные методы превращения уже сложившихся к 30-м годам идеологем в подчиняющие все личностные действенностные установки мифологемы, были и у отечественного сталинизма. Взять, например, широко распространенный у нас и поныне кинорепортаж со съезда, собрания, конференции и т.д. Кинодокументалистика, оттиражировав свою версию этого действа, создала из него канон ритуального поведения. Поясной план одного из вождей сменялся на экране групповым портретом сидящих в зале делегатов, то счастливо улыбающихся и обменивающихся восторженно-веселыми фразами, то с; энтузиазмом аплодирующих или внимающих. Кинематографическое время шло будто бы по кругу: «верх» в виде выступающего оратора многократно сменялся «низом» - слушающей оратора аудиторией. У «верха» и «низа» были свои собственные «верх» и «низ». Кинокадры с выступающим оратором не казались однозначно аскетичными и монументально-неподвижными (такая монументальность изображения читающего доклад оратора - стилистическая черта репортажа другой эпохи: брежневского «застойного» времени): глубина пространства, как правило, была ограничена придвинутым почти вплотную к трибуне президиумом, члены которого, так же, как слушатели в зале, время от времени обменивались репликами между собой и - что особенно важно — с выступающим, аплодировали, словом, «жили». И еще одна характерная деталь: так как пространство было не слишком глубоким, люди на заднем плане — члены президиума - не казались на экране приуменьшенными по сравнению с оратором,на, переднем плане..