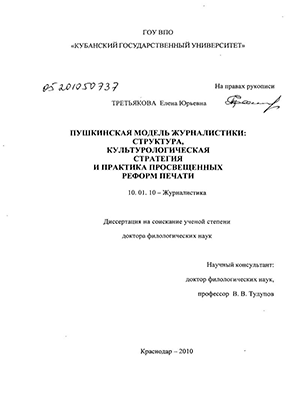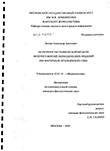Содержание к диссертации
Введение
1 Истоки и этапы осуществления пушкинской реформы журналистики 25
1.1. Неизданный журнал «Арзамаса» 29
1.2 «Русский журнал» и русский язык 42
1.3 Идеи и опыт журнала «Московский вестник» 71
1.4 Становление реформаторской позиции Пушкина 77
1.4.1 Этап первый: арзамасские бойцы 83
1.4.2 Этап второй: взаимодействие с молодыми московскими романтиками 87
1.4.3 Этап третий, собственно пушкинский 98
1.5 «Арена периодики» как театр и амфитеатр 109
1.5.1 Стадия «журнальной арены» 112
1.5.2 Стадия «амфитеатра» 138
2 Моделирование просвещенных реформ журналистики в персональном мифе А. С. Пушкина 147
2.1 Роль автобиографии и родословной в формировании образа журналиста 148
2.2 «Смена журнальных мод» 173
2.2.1 Притчи о сапожниках и гробовщиках 176
2.2.2 Иерархия оценочно-смысловых доминант 193
2.3 Ансамбль издания как коллективное мифотворчество 218
3 Пушкинская модель «журнала русского» и тактико-стратегические задачи просвещенных реформ 241
3. 1 Просвещенная реформа печати в осмыслении современников А. С. Пушкина 242
3.2 «Магический кристалл» в моножурнале Болдинской осени 1830 года 259
3.3 Сингармонизм как основа безопасных информационных технологий 278
Заключение 308
Список использованной литературы 314
- «Русский журнал» и русский язык
- Стадия «журнальной арены»
- Притчи о сапожниках и гробовщиках
- «Магический кристалл» в моножурнале Болдинской осени 1830 года
Введение к работе
Актуальность исследования. Принятая правительством РФ Концепция национальной безопасности стимулирует отход от модернизации компонентов культурного бытия и называет приоритетной задачу восстановить за ближайшее десятилетие (до 2020 г.) условия органического развития языка. Для реализации этого государственной важности решения требуется гибко совместить познание и поддержку матрично-алгоритмических основ органического языкового развития с моделированием подвижного перекрестья книжных / некнижных компонентов информационного потока, формируемого СМИ и СМК. Поэтому актуально выяснить: какая социокультурная модель журналистики стратегически обеспечит реализацию намеченной цели?
По существу, возврат к органическому языковому развитию потребует создать современный аналог реалии, известной в истории как пушкинское начало золотого века русской национальной культуры Нового времени. Однако при текстовом подходе к культурно-информационной деятельности аспекты создания классически совершенного литературного языка, смоделированные А. С. Пушкиным, когда он встал во главе «аристократического направления» отечественной журналистики 1830-х гг., не были раскрыты. Методология, изучавшая язык как порождение метафорических переносов смысла, не давала ключа к реформаторской стратегии гениального поэта. Не учитывались главные факторы органического развития: метонимическая природа бесписьменного мифа и гармоническая доминанта просвещенных реформ, очищающих от вторичной переработки артефактов перекрестье книжного / некнижного культурного опыта, т.е. текущее общение на базе литературного языка, организуемое печатью или иными медиа.
Журналистика XX столетия выступала полигоном «западных» культурных технологий. Получавшие мощную инженерную оснастку инновации и модернизации препятствовали естественному срастанию языков с вековыми пластами качественного наследия культур, в результате чего угас алгоритм первичной культурно-языковой деятельности. Текущая репрезентация целостного языкового мышления оказалась вытеснена из восприятия живых носителей языка; образцы эпического самосознания сохранилось лишь на «островках» классических художественных произведений и в архаическом фольклоре. В силу культурно-языковых обстоятельств никто не придавал особого значения записанным рукою Пушкина тезисам о «журнале русском», не было учтено, что, называя журналистику «рассадником людей государственных» («Обозрение обозрений», 1831), поэт имел в виду не «европейскую» модель текущей переработки и трансляции культурного опыта. Судя по конспекту плана к газете «Дневник» (1831–1832), Пушкин предлагал «правительству как орудие его действия на общее мнение» иную модель и имел в виду стратегию, помогающую уяснить: «Что есть журнал европейский? Что есть журнал русский <...> Каков может быть русский журнал» (VI, 329).
Для устранения постмодернистского кризиса важно учесть специфику этой стратегии, избранной Пушкиным-журналистом, а также осознать близость нынешней когнитивной ситуации с той, что сопутствовала романтизму на рубеже между натурфилософией и теорией Откровения. Это будет способствовать правильной постановке такой проблемы, как воздействие книжно-журнальной практики на судьбы живых (этнических) языков.
Сбой медиатехнологий, именуемый в XX веке «остановкой литературного процесса», в пушкинские времена называли впадением литературы в ничтожество. В литературных обществах и периодике 1820–1830-х гг. шло активное обсуждение причин «замедления хода словесности» (VI, 229). Так как синтез мер, исключающих «ничтожество литературы русской» (VI, 360), достигнут гениальным поэтом – основателем «Литературной газеты» и «Современника», целесообразно изучить выработанный им тип персонального журнализма и ансамбль текущего издания как модель и образец стратегии, всецело обращенной на службу органичному языковому развитию.
Суть типа мифотворчества, которому отдал предпочтение Пушкин-журналист, может быть раскрыта при междисциплинарном подходе, опирающемся на представление о «внутренней форме» языка в культуре (В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня). Лингвокультурологический аспект такого познания особенно актуален, поскольку он позволяет прогнозировать развитие событий. Чтобы осознанно руководить переходом от искусственного к органическому языковому развитию, нужна концепция, интегрирующая функции книжных / некнижных элементов передачи качественного достояния культуры. Понимая интеграцию как гармонию, диссертант называет ее концепцией сингармонизма. Разработку концепции следует вести на уровнях философско-теоретическом (выявление генотипа и матрично-алгоритмических характеристик) и сравнительно-типологическом (сопоставление разновременных феноменов и компонентов структуры органично развитого культурно-языкового процесса). Таким нам представляется выявление сходств / различий между предстоящими просвещенными реформами и этапом преобразований, который начался на заре XIX в. деятельностью многочисленных литературных обществ, в том числе «Арзамаса» и «Общества любомудрия» (участники этих кружков были наиболее близкими диалогическими партнерами Пушкина в реформах периодической печати).
Выявленные тем самым особенности «журнала русского» обогатят типологию национальных моделей СМИ и СМК знанием о гармонии и послужат интеграции культурных институтов, объединенных системой безопасных информационных технологий.
Научная разработанность темы. Текстология и фактография моментов жизни поэта, имевших отношение к его журналистской деятельности, представлена в работах П. В. Анненкова, А. Н. Пыпина, Л. Н. Майкова, С. Н. Гессена, Н. П. Барсукова, П. Н. Столпянского, К. Я. Грота, И. Н. Розанова, Б.Л. Модзалевского, Н. О. Лернера, Н. К. Писканова, Е. А. Маймина, Т. К. Батуровой, Р. Н. Клейменовой, Н. А. Решидовой, С. Я. Махониной, С. Л. Абрамович, А. И. Станько, Л. Г. Фризмана, Т. И. Тищенко и др. Но уяснению позиции Пушкина-журналиста довольно долго препятствовал следующий анахронизм: введенная западниками 1840-х гг. установка на идеи заслоняла более раннее, руководившее последователями Карамзина, понимание гармонии вкуса и сердечного воображения. Историки журналистики (В. В. Гиппиус, Н.К. Козмин, К. А. Кузьминский, В. А. Орлов, М. П. Еремин, В. Г. Березина, В. И. Гилельсон, В. А. Мильчина и др.) видели в «аристократическом» и «торговом» направлениях 1830-х гг. два лагеря идейных противоборств.
Между тем, Пушкин говорил: «Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности его народа, как он повинуется законам своего языка?» (VI, 248) и считал все литературные лагеря и их теории родом «сектантства» («Письмо к издателю “Московского вестника”», 1828).
Опыт французской печати показал, что журнальные схватки перерождаются в якобинский террор и узурпацию власти. П. А. Вяземский подчеркивал, что «аристократическое направление» формировало другой путь, и при Пушкине в журналистике было целое, в 1840-х гг. подмененное «более или менее мелкими дробями («Взгляд на литературу нашу в десятилетие со смерти Пушкина», 1847). «Дробными» направлениями стали «эстетическая» (ранний В. Г. Белинский, В. П. Боткин, А. В. Дружинин и др.), «утилитарная» (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев и др.) литературная критика, пропаганда идей «народничества» (Н. К. Михайловский) и пр. Вслед за европейскими теоретиками журналистику стали называть двигателем классовой борьбы (К. Маркс, В. Парето, К. Манхейм и др.), инструментом манипулирования подсознанием (Г. Ле Бон, Г. Тард, З. Фрейд, С. Московичи и др.). Она выступала рупором партийного руководства государством (В. И. Ленин, И. В. Сталин и др.), проводником мер тоталитарного контроля, трактовавшегося как системность (А. Г. Здравомыслов, В. П. Кузьмин и др.), координатором системных компонентов потребительского общества (Л. Н. Федотова и др.).
При автономном развитии отраслей гуманитарного знания – более позднем следствии упомянутого дробления – смысл подзаголовка «Литературный журнал» на титуле «Современника» стали объяснять гораздо уже, чем предполагала крылатая фраза «Пушкин наше все» (тезис создателя «органической критики» А. А. Григорьева). О персональном мифе Пушкина (начало его изучения положено В. Я. Брюсовым и Р. О. Якобсоном) и трансформации образа Пушкина в мифе русской культуры писали в основном литературоведы и культурологи. В программной статье сборника «Легенды и мифы о Пушкине» (1994) М. Н. Виролайнен предложила концепцию, о которой нельзя не упомянуть в обзоре комплексных научных разработок, предшествовавших нашему исследованию. Создатель персонального мифа предстает либо как «человек образа» (романтики-индивидуалисты), либо как «человек пути» (протеи, подобные Пушкину). Гармоническую суть правила карамзинистов «Писать, как говорят, и говорить, как пишут», раскрыла Л. Я. Гинзбург (глава «Школа гармонической точности» книги «О лирике», 1964–1974), вклад в дальнейшую разработку проблемы внесли С. Т. Вайман («Гармонии таинственная власть», 1989), М. Н. Бойко (исследование «Пушкин: Трагедия. Гармония. Покой», опубликованное в книге «Авторские миры в русской культуре первой половины XIX века», 2005). О роли Пушкина в концептосфере русского мира писали отечественные (Д. С. Лихачев, В. С. Непомнящий, С. А. Кибальник, О. И. Высочина, И. З. Сурат, Н. С. Котова и др.) и зарубежные специалисты (П. Дебреццени, Д. Баннлей и др.), придерживавшиеся постулата о метафорической природе мифа (Э. Кассирер, М. Элиаде).
Однако согласно «русской школе» гуманитарного воззрения, миф растет как метонимическое целое. Создатели этой школы, ученики Ф. И. Буслаева и старших славянофилов, не разнообразили герменевтические ходы, чтобы не дробить наследие национальной культуры на мифологии (понятие во множественном числе, как в известном сборнике Р. Барта «Мифологии»), амальгамирующие (термин Потебни) язык. Научное знание, указывал А. Н. Веселовский («Историческая поэтика»), должно усваивать присущий органично развитому мифу «каркас народной психологии». А. А. Потебня («Мысль и язык») объяснил это как «кристаллизацию стихий, находящихся в сознании»: люди в новой среде из новых элементов выстраивают те же духовные сущности, которые действовали на прежних этапах становления их культуры.
Перечисленные моменты помогают понять, как достигается устойчивое (гармонически подвижное) равновесие компонентов информационного процесса, и продолжают философскую линию, намеченную «Московским вестником», «Европейцем», к более ранним истокам которой принадлежат «Арзамасские протоколы» (особенно 1817–1818 гг.), массив рукописных материалов, отражающий издательские планы участников этого общества, и рукопись Д. В. Веневитинова «О состоянии просвещения в России» (1826, опубликована в 1831 г. под названием «Несколько мыслей в план журнала»). Аналогичные идеи развивал в статьях и диссертации «О сущности поэзии, называемой романтической» (1830) Н. И. Надеждин. Таков вклад современников Пушкина в проработку вопроса, каким может быть «русский журнал».
Глубоким истолкователем карамзинско-пушкинского вклада в журналистские стратегии 1820–1830-х гг. был И. В. Киреевский. В своих работах (особенно итоговых, 1856 г.) он обогатил гумбольдтианский метод. Применительно к «деконструкции дискурса журналистики, науки и политики» лингвофилософские идеи Киреевского модифицировал К. Гарднер, ученик О. Розенштока-Хюсси, пропагандировавший эти идеи в Европе (и с 1993 г. – в России). Но для разработки безопасных информационных технологий концепция Розенштока-Хюсси и его учеников менее пригодна, чем наработки самого Киреевского (труд «О необходимости и возможности новых оснований для философии»). Именно они дают альтернативу позитивистским методам. В том числе структурно-семиотическому анализу (Т. Б. Фрик, С. В. Денисенко, С. Г. Слуцкая, М. Гринлиф, Г. Гиффорд и др.) и поиску проблемно-тематических и жанровых перекличек между известными западными журналами и изданиями, которые редактировал Пушкин (Б. В. Казанский, Д. П. Якубович, А. А. Долинин, А. Дейнегга и др.).
Ранее не была выявлена преемственность модели «журнала русского» с разработками И.-Г. Гердера («Парамифии», «Идеи к философии истории»), с которым во время заграничного путешествия беседовал Карамзин. Но сторонники «деконструкции дискурса СМИ» (П. де Манн, Ф. Гваттари и др.) утверждают, что возможность понять правоту таких мыслителей эпохи Просвещения, как Гердер, еще не упущена. Это, можно полагать, повлияет и на изучение национальных моделей журналистики стран Америки, Европы, Африки и Азии (В. Е. Аникеев, С. И. Беглов, Г. Ф. Вороненкова, Ю. В. Лучинский, В. П. Терин и др.), социокультурной модели отечественной журналистики советского и постсоветского периода (Е. П. Прохоров, Р. Ф. Абдеев, И.В. Кондаков, В. В. Прозоров, Г. П. Почепцов, А. С. Панарин и др.). Из советских ученых Э. С. Маркарян первым в 1970-х гг. потребовал вернуть теорию социокультурного моделирования на базис саморазвития архаических устоев народной традиции; тогда откорректировать эту идею с аналогичными установками немецкого романтизма и русской гуманитарной школы XIX в. еще не представлялось возможным. Но импульс к корректировке нарастал, около 30 лет накапливался фон изменений, вследствие которых ныне Концепция национальной безопасности придала государственный статус положению о возврате к органическому развитию национального языка.
Постановка вопроса об универсальных свойствах пушкинской модели «журнала русского» осуществлена в нашей монографии «Коммуникативное пространство печати: пушкинская модель» (2002). В ряде других публикаций мы очертили границы моделирования подобных стратегий и соотнесли концепцию сингармонизма с подходами, которые в пределах понятий своего времени предлагали Н. И. Надеждин, И. В. Киреевский, Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, И. С. Аксаков, пушкинисты Серебряного века, а также с интерпретацией этих подходов в работах других исследователей (С. Г. Бочаров, В. П. Попов, М. М. Панфилов, Н. А. Бенедиктов, Н. С. Капустин, Н. Н. Вихрова, Н. В. Суздальцева, В. С. Болтунов, Ю. А. Немировская, Д. П. Ивинский и др.).
Предмет диссертационного исследования – модель журналистики, поддерживающая органичное развитие национального языка.
Объект изучения – пушкинский этап просвещенных реформ отечественной периодической печати.
Цель исследования – дать системное представление о безопасных информационных технологиях как сингармонизме книжных / некнижных компонентов культурной деятельности.
Достижению цели служит решение следующих задач:
1. Реконструировать по опубликованным и рукописным произведениям, черновикам, переписке, мемуарам и иным документальным свидетельствам этапы становления «журнала русского» в ходе просвещенных преобразований первой трети XIX столетия. Охарактеризовать позицию различных участников реформы, их вклад в ее осуществление.
2. Проверить гипотезу о том, что эпический баланс книжных / некнижных компонентов культурно-языкового процесса стал основой персонального журнализма А. С. Пушкина и ансамбля изданий, благодаря которым поэт возглавил «аристократическое направление» отечественной периодики.
3. Обосновать базисное значение параметров эпическая объективность / субъективизм (эгоцентризм, индивидуализм) для характеристики типов журналистского мифотворчества. В системном представлении о первичной (органичной «ходу словесности народа») и вторичной (амальгамирующей национальный язык) переработке артефактов дать «формулу» оптимального взаимодействия письменных / устноречевых компонентов информационного процесса.
4. Установить различия опубликованных / не пошедших в печать фрагментов собеседования Пушкина с единомышленниками и противниками. Охарактеризовать его способ обобщения журнальных полемик и притчевый характер текстов, разъяснявших цели просвещенной реформы. По дневнику творческих событий Болдинской осени 1830 г. показать, какую роль в создании пушкинской модели журналистики сыграло умозрение «сквозь магический кристалл».
5. Сформулировать концепцию сингармонизма книжных / некнижных компонентов информационного процесса, преемственную с воззрениями Пушкина и любомудров на культурную миссию журналистики. Разработать методику освоения лингвофилософских открытий И. В. Киреевского при создании безопасных информационных технологий. Доказать, что пушкинская стратегия просвещенных реформ нормализует алгоритм взаимодействия органично развитых языковых феноменов, при котором устойчивым внешним выражением «внутренней формы» языка (структурной подосновы всех культурных данностей) выступает вековая преемственность между поколениями.
Теоретико-методологическая база исследования. Главный источник методологии – «русское гумбольдтианство», представители которого не квалифицировали отсутствие научных объяснений как незнание (лакуны возмещаются житейской практикой, для которой «нравственность в природе вещей»). Апофатическое (несловесное) понимание истины уберегает язык от амальгамирования (А. А. Потебня), а культуру от эклектичной (подчиненной обоснованию или пропаганде тех или иных идей) переработки артефактов. Первичная (эпическая) переработка не дробит смыслы, образы-понятия «выплескивают» в речь единство внутренней формы языка, как протуберанцы солнца – единую энергию солнцевещества; и тогда энергия пронизывает всю действительность, а не «островки», чудом сохранившиеся в классических художественных текстах и эпических поэмах древности.
Пушкин-журналист дал стратегию преобразований, преемственный рост которых создал «русскую школу» в искусстве и гуманитарном познании. Концепция смиренно-личностной речи, мышления и познавательной деятельности (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков), учение о метонимической природе архаического мифа (Ф. И. Буслаев и такие его последователи, как А. Н. Веселовский обосновавший на этом наиболее емкие способы типологического анализа культурных параллелей), комплекс лингвопсихологических идей А. А. Потебни упомянуты нами при освещении научной разработанности проблемы. Там же названы и некоторые теоретические источники, влиявшие на уяснение задач нашего исследования. Их ряд следует пополнить источниками, которые служили предметом философской рефлексии арзамасцев, любомудров и Пушкина (Б. Паскаль, Б. Спиноза, Г. С. Сковорода, Ф. Шиллер, Ф. Шеллинг, И.-В. Гёте, Ж. де Сталь, П.-С. Балланш и др.).
Изложенная в диссертации оценка мира книг и журналов читателями XIX столетия системно выверяет сведениями эпистолярных и мемуарных источников изыскания П. И. Бартенева, В. И. Срезневского, Д. Н. Овсянико-Куликовского, Д. С. Святополка-Мирского, В. В. Вересаева, Я. К. Грота, П.В. Владимирова, А. И. Белецкого, И. Н. Розанова, А. Я. Гурвича, В. Б. Банка, Н.П. Смирнова-Сокольского, Л. В. Чернец, Т. М. Фроловой, А. И. Рейтблата, Г. В. Жиркова, Н. Ф. Филипповой, В. А. Кошелева, А. Г. Битова, Г. П. Талашова, Г. Е. Потаповой, А. Ю. Балакина, Е. О. Ларионовой, Е. В. Осмининой, И. И. Мазур, В. В. Кунина, В. М. Есипова и др. Привлечены наблюдения над ментальностью русских / европейцев (В. В. Набоков, Ю. М. Лотман, В. К. Кантор и др.). Кроме мемуарных свидетельств (С. П. Жихарев, А. И. Дельвиг, С. С. Уваров, М. А. Дмитриев, Ф. Ф. Вигель, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, К.А. Полевой, К. Д. Кавелин, А. Ф. Смирдин, И. И. Панаев, М. П. Погодин, В.И. Даль, В. А. Соллогуб, О. Н. Смирнова, П. П. Вяземский и др.) в характеристику литературного быта эпохи включены сведения, изложенные у В. И. Резанова, В. М. Истрина, Ю. Н. Тынянова, В. А. Орлова, М. И. Аронсона, С. А. Рейсера, Н. Л. Бродского, Ю. Г. Оксмана, С. М. Бонди, Г. О. Винокура, Г. П. Макогоненко, Н. Н. Петруниной, Л. А. Краваль, Н. К. Гея, Р. Ю. Данилевского, Н. А. Попковой и др. В особую группу можно выделить структурно-семиотические труды о пушкинском творчестве, которые мы пересматриваем в свете своей концепции. Это различные интерпретации «Повестей Белкина» (А. Глассэ, В. Есипов, О. Поволоцкая и др.), «Маленьких трагедий» (Р. Якобсон, Л. Димитров, Н. Кашурников и др.), сказок и поэм Пушкина (В. Зуева, Д. Медриш, А. Фаустов и др.).
Для реконструкции замыслов и практических шагов А. С. Пушкина изучены периодика и книги 1820–1830-х гг., дневники, произведения, письма поэта, его единомышленников и противников, придворная и деловая переписка, мемуары. В круг источников включены «Арзамасские протоколы», публицистическое и эпистолярное наследие участников этого общества, а также общества любомудрия. Проводя последовательное отграничение персонального мифа Пушкина-журналиста от пушкинского мифа русской культуры, соискатель делает предпочтения, имеющие определенную методологическую значимость. За основу берутся устойчивые соответствия смысла высказываний о задачах просвещенной печати в публикациях 1810–1870-х гг. Наиболее тщательно учтены позиции людей, участвовавших в формировании замысла реформы (А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев, В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, Д. В. Веневитинов, В. К. Кюхельбекер, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, А. С. Хомяков, Н. В. Гоголь, П. А. Вяземский и др.). Принимаются во внимание моменты их биографии и особенности их персональных мифов.
В вопросе о гармоничном моделировании культурного опыта мы развиваем идею о тождестве предметов и тождестве их окрестностей (А. И. Уемов). В подходе к эволюции книжных составляющих информационного процесса следуем трудам по эпистемологии знания в Средние века / Новое время (М. Фуко, С. С. Аверинцев, В. П. Визигин, В. С. Библер и др.) и пересматриваем концепцию «социальных эстафет» А. М. Розова.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования. Постановка вопроса о пушкинской модели книжных / некнижных компонентов культурно-информационной деятельности принципиально нова для корпуса современных работ по теории журналистики. Открываемый концепцией сингармонизма подход концентрирует смысл вопроса о безопасных информационных технологиях на онтологически значимой проблеме поддержки органического развития языка и мифа национальной культуры. Концепция позволяет доказательно подтвердить универсальный характер модели, воплотившей идею о единстве механизмов просвещенной трансляции культурного опыта во все века (идея была известна поэту в интерпретации И.-Г. Гердера, Н. М. Карамзина, П.-С. Балланша и др.).
Моделирование «журнала русского» впервые истолковано как процесс, гармонично сконцентрировавший русский и европейский контекст преобразований. Существенной новизной обладают предложенные способы реконструкции этапов этого процесса: выделяя не замеченные ранее грани соавторства поэта с учителями, старшими и младшими единомышленниками, с соперниками, диссертант исходит из следующего. К синтезу романтических, сентименталистских и классицистических установок вывели принципы «очищения языка». Сближая литературный язык с почвой фольклорного предания, Пушкин осуществил и намерение арзамасцев формировать арену журналистики как аналог хореи – коллективное действо, в котором главенствует не индивидуальность, а эпический взгляд на мир, естественно объединявший актеров, хор, публику в театре золотого века древнегреческих Афин.
При научном обосновании двух типов журналистского мифотворчества, диссертантом найден теоретический ход, позволяющий разделить / сдвоить структурные уровни безопасных информационных технологий, один из которых соответствует матрице архаического мифа (структурная подоснова витального), другой – практике умозрения «сквозь магический кристалл» (ментальный инструмент гибкого перехода синхронии в диахронию). Преимущество такого подхода состоит в возможности найти оптимальную (первичную, первобытную, как называл ее Пушкин) «формулу» соотношения практик устной / письменной речи, выявить алгоритм перерастания менее протяженных отрезков развития в более протяженные (ментальное десятилетие – витальное тридцатилетие – золотой век). Самостоятельный инновационный характер носят предложенные соискателем методы: равновесного учета ретроспективных / профетических составляющих культурно-информационного потока; анализа ненарративных компонентов и апофатических звеньев в «ансамбле издания»; изучения топологии ментального пространства, организуемого умозрением «сквозь магический кристалл»; выявления алгоритмов развертывания / свертывания полноценной трансляции культурно-языкового предания в отрезках, соизмеримых с этапами развития личности, мерами сменяемости исторических поколений и эпох.
На защиту выносятся положения:
1. Пушкинская модель журналистики объединила проекты просвещенной реформы печати, имевшиеся у наиболее близких поэту представителей русского общественного мнения первой трети XIX века. Подготовительный этап, когда эти проекты обсуждались, но еще не были опробованы, прошел до 1825 г. На втором этапе (1825–1829) диалог о «вхождении поэзии в действительность» сопровождался апробацией журнального проекта русских сторонников немецкой философской теории романтизма. Начало третьего этапа (1830–1836) следует отсчитывать с Болдинской осени – творческой лаборатории, в которой Пушкин наедине с самим собой выверил замысел любомудров подходом к задачам периодического издания, сложившимся у арзамасцев как противников ложного классицизма. Эти «очистители языка» считали наиважнейшим эпический баланс книжной / некнижной речи, при котором происходящему на сцене журналистики живо откликается амфитеатр.
Решение об органичной поддержке «нормального хода словесности» стало основой «журнала русского». В соответствии с этой моделью печатные органы выступают зрелыми образцами ментального единства, пронизывающего все разнообразие жизненных наблюдений и мнений. Каждый том журнала (газеты) – звено процесса, сохраняющего «в движении покой». Гармоничный культурно-языковой и нравственный итог не сковывает приволье и широту приложения творческих сил любого из участников журнального замысла. Пример тому – ансамбль материалов пушкинского «Современника».
2. Пушкин активизировал тип персонального мифотворчества, позволяющий «и в книге говорить, как в сказке». Приобщенный к воспроизводству матрицы архаического Древа Речи литературный язык явил богатырскую мощь органического развития, природа которого гораздо богаче результатов аллегорико-метафорической переработки мифологического материала. При вторичной переработке обломки мифа – мотивы, образы, сюжеты – становятся подсобным материалом герменевтических практик; каждая отрасль знания создает свой искусственный язык, и расслоение (амальгамирование) языкового опыта ведет к распаду культурного предания. Глобальные информационные кризисы успешно преодолевают органично развитые культурные миры, в которых пространство познания сращено с историческим преданием этноса, а необходимые мыслительные процедуры компактно хранит «внутренняя форма» живого языка, энергетически емко проявляющая себя при ненарративной (гармоничной) центровке смысла сравниваемых реалий и метонимическом единстве метаморфоз речи.
3. «Журнал русский» (альтернатива «журналу европейскому») создавался как инструмент информационной деятельности, обеспечивающий именно такую монистическую центровку предметных и непредметных единств. Такая модель журналистики универсально упрочивала синтез просвещенных преобразований: закрепляла и уравновешивала подвижное перекрестье ретроспективно / проективных лучей, воссоединявших практику «школы гармонической точности» (по Л. Я. Гинзбург, – совместный результат деятельности трех преемственных волн культурной жизни русского просвещенного дворянства) с идеями философской критики, которая «не сухо и дельно» объясняла законы органичного культурно-языкового развития.
Этим ознаменован выдающийся момент в истории русской журналистики 1820–1830-х гг., когда, как сказал П. А. Вяземский, «силы раздробленные, второстепенные» не могли заменить собой «силу полную и сосредоточенную». Смиренно-личностные звенья информационного потока – проводники умозрения «сквозь магический кристалл», вовлекающие в сферу действия энергий эпического понимания мира современность и историю (наследуемые от поколения к поколению ретроспективно-проективные отрезки пути) – и создают тот «общий богатый итог» книжного / некнижного опыта, который может служить эталоном безопасных культурных технологий. Пушкинская модель журналистики – наиболее полный их образец, освоение которого послужит переходу от фазы «заката культуры» к новой фазе расцвета.
4. Извлечь из созданной Пушкиным реалии доступный современному познанию механизм, дать оздоравливающий импульс практике СМИ и СМК призвана концепция сингармонизма («всесозвучие» – от sn `вместе`, harmona `созвучие`) книжных / некнижных компонентов информационного процесса. Комплекс ее доказательных и объяснительных возможностей позволяет раскрыть феномен золотого века русской культуры Нового времени как устойчивый континуум словесно-жизненного предания, выросший на базе просвещенных реформ журналистики. Гармоническим центром этого континуума и накопленного нашими соотечественниками многовекового культурно-языкового опыта оказался этап преобразований, возглавленный гениальным поэтом. Тогда подтвердилось, что звенья синхронных информационных взаимодействий (в пушкинскую эпоху их создавала журналистика, теперь – СМИ и СМК) способствуют не только видоизменению, но и определенной группировке книжных / некнижных компонентов культуры. Типов группировки два: сужающийся (эгоцентричный) и широкий (устойчиво транслирующий эпический пульс жизни органично развитого культурно-языкового предания).
5. Смиренно-личностный («белкинский») тип коммуникативной позиции, при котором субъект речи не репрезентирует в информационной деятельности эгоистические (свои или групповые) интересы, оптимален для синхронно действующих информационных звеньев: наброски родословной и другие фрагменты персонального мифа поэта показывают, что он отдавал предпочтение именно этому типу журналистской активности. Пушкин разъяснял цели реформ в притчах, перерабатывал смысл журнальных полемик так, чтобы звучащий сию минуту на страницах периодики хор (ансамбль издания) эпически проецировал в будущее лучшие достижения народа.
По дневнику событий Болдинской осени 1830 г. (моножурналу, фиксировавшему результаты философского эксперимента, о котором гласит пушкинский тезис: «Вдохновение нужно в поэзии, как в геометрии») можно реконструировать пушкинский анализ драмы европейского самосознания. Проверяя возможности умозрения «сквозь магический кристалл», поэт отыскал модель, устраняющую индивидуалистические противоречия. Среди любомудров (старших славянофилов) наиболее полезное для создания безопасных информационных технологий разъяснение этой модели найдено И. В. Киреевским (работы 1856 г.). Освоение соответствующих лингвофилософских представлений полезно вести в совокупности с применением в теории журналистики психолингвистических (А. А. Потебня) и иных методик, на которых построены работы о мифе Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского и других выдающихся представителей русской гуманитарной школы XIX столетия.
6. Входящее в концепцию сингармонизма учение о топологии ментального пространства дает соответствующий современным когнитивным практикам вариант разъяснения апофатических элементов мышления, в основе которого лежит «кристаллизация» духовного опыта. Соответствующий философский базис культурно-информационных и образовательных технологий поможет устранить факторы амальгамирования, ведущие к недоразвитию массового сознания, и целенаправленно формировать реалистическое речевое мышление у представителей журналистских профессий. Совокупность историко-познавательных и дидактико-прагматических аспектов вопроса о пушкинской модели «журнала русского» – инструмент прогнозирования и выработки преемственных шагов, направленных к коренному улучшению культурно-языковой ситуации в стране.
Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 36 научно-теоретических и научно-практических конференциях, а также в Комиссии по сохранению пушкинского наследия (ИМЛИ им. А. М. Горького).
«Русский журнал» и русский язык
Мнение о том, что периодикой должны распоряжаться талантливые мастера слова, а не меркантильные посредственности, Пушкин усвоил в юности, когда его, лицеиста, приняли в арзамасское братство. Это мнение, проистекавшее из более широкой культурной установки - сохранить органично развитый национальный язык, укреплялось с годами.
В черновике статьи «Обозрение обозрений» (1831) поэт подчеркнул, что в Европе условия профессионального труда литераторов и немалое разнообразие («великий конкурс») изданий не позволяют невежеству и посредственности овладеть монополией журналов. «...Человек без истинного дарования не выдержит Г epreuve издания. Посмотрите, кто во Франции, кто в Англии издает сии противоборствующие журналы? Здесь Шатобриан, Мар-тиньяк, Перонет, там Гиффорд, Джефри, Питт. Что ж тут общего с нашими журналами и журналистами - шлюсь на совесть наших литераторов?» [296, т. 6, с. 330].
В России первой трети XIX столетия разнообразной прессы не было, привычка читать новые издания лишь начала складываться, и периодические издания распространялись по подписке аналогично книгам и собраниям сочинений. Подписка на них в России XVIII — первой половины XIX века представляла собой «форму коллективного меценатства», осуществляемую «самыми состоятельными из числа покупателей» [307, с. 103-104].
Естественно, что идеальный тип мецената-читателя был сформирован дворянской усадебной культурой XVIII столетия, по примеру русских вельмож, которые были наиболее активными из подписчиков на книги и журналы, пополняя свои собрания старинных и новых рукописных текстов. А идеальный тип публики - по образцу дворянского салона, кружка истинных ценителей прекрасного, друзей, единомышленников, объединенных изящным вкусом и творческими потребностями. Оба идеальных типа оказывали воздействие на письменный язык, упрочивая формы общения, «приличные для размена мнений» меж образованными людьми, и привнося положительные моменты в расклад обстоятельств, которые влияли на формирование отечественной журналистики.
У культурно-языковой ситуации, вызвавшей к жизни модель «журнала русского», были черты, очень удачно охарактеризованные Р. О. Якобсоном. Незадолго до карамзинско-пушкинской эпохи в России, указывает он, «литература и устное творчество различались только функционально: в соответствии со средневековой традицией письменное слово служило преимущественно задачам церкви, а устное творчество использовалось в светской поэзии, и дело обстояло именно так даже в высших слоях общества. В XVIII веке наметилась тенденция к секуляризации русской книги, а фольклор постепенно становился исключительной принадлежностью низших общественных слоев; однако жизнь русского поместного дворянства, которая долгое время оставалась решающим фактором в русской литературе, была столь глубоко погружена в крепостную народную стихию, что соответствующие художественные стимулы сохраняли силу» [470, с. 206]. Идущие от устной народной традиции стимулы требовали корректировать письменную практику вполне определенным образом: примеривать к «телосложению» живой речи все, что «выкраивается» из материала речи письменной. И побеждало языковое соз-нание, «вскормленное» органически, а не искусственно, «под ферулой схоластики».
Сохранность эпического механизма наследования органично развитой культуры обеспечила счастливую судьбу феноменам русского Просвещения. В первое столетие своего становления отечественная журналистика была их частью, никоим образом не устранявшейся от работы над совершенствованием национального литературного языка. И классически совершенный литературный язык показал свои истинные возможности в десятилетие, начавшееся с середины 1820-х годов, когда в журналистике разразился кризис, угрожающий остановкой культурного развития. Камнем преткновения стало буквально на глазах происходившее преобразование периодики в доходный «промысел». Владельцы газет и журналов открыто воевали за монополию в газетно-журнальном деле, стремясь «прибрать к рукам» прибыльную отрасль (дав скромный хлеб авторам сочинений, предприимчивые издатели быстро , богатели, так как оставляли львиную долю прибыли себе).
Просвещенные участники культурного процесса, чтобы сдержать напор захватнического эгоизма, были вынуждены начать реализацию журнальных проектов, которые бы исключили нещадную эксплуатацию литературного труда. Конечно, решался не только вопрос о достойной оплате труда писателей, о введении профессиональных отношений в справедливо организованное, выгодное для авторов, а не для журнальных магнатов русло. В моделирование журналистики вместилось и многое другое. Книжно-журнальные проекты «аристократии талантов» гибко совмещали спектр задач, направленных на совершенствование литературного языка и форм повседневного общения в печати. Такая стратегия упрочивала баланс письменных / устных речевых практик, присущий органично развитому мифу национальной культуры.
Коллизия между «торговым» и «аристократическим направлением» сделала печать ареной драматичного действа, имевшего национально значимый масштаб, потому что меркантильный эгоизм перечеркивал наличное разнообразие и богатство жизни: настоящую и будущую широту общенациональных культурных горизонтов подменяли денежным расчетом и амбициями тех, кто богатеет, издавая периодику.
В стремлении наращивать тиражи торговая журналистика «слишком низко наклонялась» (выражение В. Г. Белинского), заискивала перед необразованной публикой, потакала безвкусию и невежеству, о чем Пушкин с холодным негодованием писал как о главном пороке французской печати времен Реставрации. Сохранился его отзыв об «Истории поэзии» С. П. Шевырева, где противопоставление России и Франции дается как краткий пересказ первой главы шевыревской книги.
«Франция, средоточие Европы, представительница жизни общественной, жизни все вместе эгоистической и народной. В ней наука и поэзия - не цели, а средства. Народ (der Herr Omnis) властвует со всей отвратительной властию демокрации. В нем все признаки невежества - презрение к чужому, une morgue petulante et tranchante etc.
Девиз России: Suum cuiqe» [296, т. 6, с. 212].
Красноречивое резюме «Suum cuiqe» («Каждому свое») подчеркивает, что можно в собственном опыте не повторять чужие ошибки: заботиться о том, чтобы печать не искоренила условия органичного развития национальной культуры. Эти условия существуют в неписьменном общении людей и проявляются как поддержка негласная, молчаливая: эпическое самосознание передается из поколения в поколение через внутреннюю форму языка, вместе с любовью к родному миру.
Взлеты и падения европейских монархий, в частности, Французской в XVII-XVIII столетии, показали, что когда «периодическая речь»18 выступает застрельщиком раздоров, «типографский снаряд» оказывается взрывоопасным орудием. Кроме того, журналистика активно насаждает эклектику. Отчасти неизбежная (далеко не всякий редактор, издающий газету, журнал, альманах, способен быть классиком), эклектика сама по себе не столь уж опасна - опасен перекос обстоятельств, при котором ее водружают в центр информационного потока, замещая первозданные языковые процессы вторичной переработкой идей и сведений.
Практически невозможно уйти от такой подмены, когда журналистикой монопольно распоряжаются меркантильные дельцы. Гонка авторских самолюбий, соперничество социальных групп и другие проявления индивидуализма дробят поток печатной полемики на множество мелких водоворотов, затягивающих в завихрения своих «воронок» весь наличный размен мнениями. В пушкинском письме из Кишинева 6 февраля 1823 года о таком кризисе буквально сказано, что это «французская болезнь» (в XX веке кризис стали называть «остановкой литературного процесса»). Трагический финал европейского Века Просвещения в немалой степени был следствием раздора, с 1770-х годов имевшего вид журнальной схватки между «классиками» и «романтиками».
«Болезнь» - слово настораживающее; Пушкин опасался, как бы аналогичный недуг не «умертвил нашу младенческую словесность».
Во время Великой Французской революции и после нее образованные люди всей Европы черпали со страниц печати известия о картине политических переворотов, о новых и новых трагических последствиях раздора, о наполеоновских войнах. От глубокого взгляда на вещи не мог укрыться тот парадокс, что споры по, казалось бы, сугубо эстетическим вопросам послужили катализатором бури: поток слов материализовался потоками крови, и за слишком щедрую дань раздорам французская литература заплатила «впадением в ничтожество».
Стадия «журнальной арены»
В 1823-1825 годах лучи «Полярной звезды» притянули к себе все заметные литературные дарования. Пушкин тоже устремился навстречу Бестужеву и Рылееву, чей стиль руководства журнальным мнением был ему особенно симпатичен. Он открыто высказывал им свою позицию в письмах: правильно откорректировать свой подход к феноменам романтизма было важно и затворнику Михайловского, и его новым друзьям - тогда еще не называвшимся декабристами защитникам свободного гражданственного слова.
С Кондратием Рылеевым Пушкина связывала особенно теплая взаимная приязнь. Статьи Александра Бестужева он назвал «очень молодыми», но честными и требовательными. Бестужев резонно подмечал, что журналисты заставляют публику «зевать над статьями вовсе для нее не занимательными»: «Мы ... слишком ленивы, не довольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть все высокое, оценить все великое. Мы выбираем себе авторов по плечу: восхищаемся д1 Арленкурами, критикуем Лафаров и Делилев. И заметьте: перебранив все, что у нас было вздорного, мы еще не сделали комментария на лириков и баснописцев, которыми истинно можем гордиться ... дельных критиков мало; но между тем листы наполняются...» [117, т. 2, с. 401-402]. Он призывал отвергнуть «личности, все частности и расчетные виды», «не корпеть над запятыми», а искать «взора общего, правил более стихийных» (естественных).
Что подразумевал Пушкин, сказав об обзоре литературы 1824-1835 годов «статья Бестужева очень молода»? Скорее всего, неточное (незрелое) соотнесение метафор. Броской и запоминающейся вышла мысль о том, что переводы посредственных статей «отражают иностранную литературу, как рябь на поверхности лужи отражает блики молний»; «Скажите мне, кто ставит охранный маяк в луже?»46 - восклицал критик [Там же, с. 403]. Развивая тему высоких стихий («Огонь очага требует хворосту и мехов, чтоб разгореться, но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе»), он не достиг целостной проработки ассоциативного ряда поверхностное - неглубокое - плоское — холодное — лишенное огня — темное — стертое — безвестное. Яркость граничит с аляповатостью, если нет гармонически точного взаимного дополнения метафор; словесный орнамент становится вычурным, рыхло положенные краски осыпаются из-за неполной, отрывочными мазками затронутой проработки семантических полей.
Пушкин достроил компоновку антиномий плоское / глубокое, темное / светлое, безвестное / прославленное до полноты. Но, чтобы не обидеть друга и не разрушить сложившийся союз, пустил эпиграмматическую стрелу в «журнального гонителя» романтиков М. Т. Каченовского. (В обзоре Бестужева о статьях, помещаемых в «Вестнике Европы», было сказано: «разбирать по складам надгробия безвестных людей»).
Бестужевский обзор отечественной периодики 1824 - 1825 годов начинался отсылкой к неизменным законам природы: «Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы ... Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно». [Там же]. Пушкин, изображая в эпиграмме недуг, поразивший текущую журнальную литературу, юмористически обыграл выражения «круготечение словесности», «текущие издания» [315, с. 245].
Это освежило память о фразе «Плюгавый выползок из гузна Дефонтена» (эпиграмма И. И. Дмитриева «Ответ Каченовскому», 1815), напомнило, как Пушкин («Бессмертною рукой раздавленный зоил», 1818) и Вяземский (три его эпиграммы мы процитируем) высмеяли нападки Каченовского на Карамзина. Эпиграмма гибко ввела смысловые мотивы статьи Бестужева в гармонично целостный пласт содержания, освоенный в эпиграммах на слог «Вестника Европы», написанных П. А. Вяземским в 1818 году [Там же, с. 211]. Первая из этих эпиграмм касается сухости слога, вторая - желчной завистливости, третья оценивает гениальность / бездарность как жар холоде.
Пушкин чуть позднее, в стихотворении «Поэт», опубликованном впервые в «Московском вестнике» (1827, ч. 6, № 23), точно так же придал органичное звучание другой важной теме, упомянутой в статье Бестужева: «Свет ... допускает в свой круг не иначе как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества, скрывать искру божества как пятно, стыдиться доблести как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы, богатое нечерпанное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!» [117, т. 2, с. 404].
Не только «Полярная звезда», но и «Мнемозина» публиковала обзоры современной литературы, интересовавшие Пушкина и как анализ общих принципов «постановки сценического действия» на журнальной арене, и как характеристика актерского состава «труппы» в каждом из действовавших периодических изданий.
Статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) по пафосу выгодно отличалась от статей Бестужева. Не юношеский пыл, а богатырская энергия зрелого мужества дышала в строках: «Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Ла Гар-пова Лицея и Батеева Курса; но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро большим перед нами дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества!» [Там же, с. 362]. Кюхельбекер проводил очень четкую грань между самобытными и вторичными явлениями: разоблачал эпигонский классицизм, но не перечеркивал веру в героическое. «Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римляном или греком, освещенных приговором Ла Гарпова Лицея. Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык; ибо французы и по сю пору не перестали быть нашими законодавцами; мы осмелились заглядывать в творения соседей их потому, что они стали читать их» [Там же, с. 363].
Прочтя это, Пушкин стал вчерне набрасывать историю русской литературы прошедшего столетия. В частности, записал следующее. «Петр создал войско, флот, науки, законы, но не мог создать словесности, которая рождается сама собою, от своих собственных начал». Это дало «поколение преобразованное», которое «презрело безграмотную [бесписьменную. — Е. Т.] народную словесность» («...Князь Кантемир, один из воспитанников Петра, в путеводители себе избрал Буало» [296, т. 6, с. 386]).
В черновом плане статьи «О ничтожестве литературы русской» (1825) Пушкин назвал Екатерину послушной «ученицей 18-го столетия», стремившейся дать соответствующий «толчок своему веку» («Ее угождение философам. Наказ»). Но тогда словесность отказалась «за ней следовать, точно так же, как народ» [Там же]. Лишь при Екатеринином внуке Александре в текущей журнальной словесности стало заметно «ничтожество общее»: «французская обмелевшая словесность envahit tout» (заполнила все) [Там же].
Приведенные замечания остались вне публикации, возможно, потому, что Пушкину хотелось найти способ выражения мыслей, не менее сильный и полный достоинства, чем у Кюхельбекера.
Не все пункты суждений своего лицейского друга он принял безоговорочно. Например, указал на то, что Кюхельбекер путает вдохновение с восторгом. Заметив, что и Бестужев наобум пишет о довольно важных вещах, Пушкин опроверг ряд тезисов бестужевского «Взгляда на русскую словесность в течение 1824-го и начала 1825-го годов».
Известны два текста опровержений — письмо Пушкина автору этой статьи из альманаха «Полярная звезда» и черновая заготовка собственного пушкинского наброска, где конспективно помечено: «Бестужев предполагает, что словесность всех народов следует общим законам природы. Что это значит? Первый век ее был возрастом гениев. Кажется, автор хотел сказать, что всякая словесность имеет свое постепенное развитие и упадок» [296, т. 6, с. 232].
В дружеском по тону, но основательном по характеру поправок письме сказано: «Отвечаю на первый твоего "Взгляда". У римлян век посредственности предшествовал веку гениев - грех отнять это титло у таковых людей, каковы Вергилий, Гораций, Тибулл, Овидий и Лукреций, хотя они - кроме двух последних - шли столбовою дорогою подражания. Критики греческой мы не имеем. В Италии Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Ариосту, сии предшествовали Alfieri и Foscolo. У англичан Мильтон и Шекспир писали прежде Адиссона и Попа, после которых явились Southey, Walter Skott, Moore и Byron — из этого мудрено вывести какое-нибудь заключение или правило. Слова твои вполне можно применить к одной французской литературе» [Там же, т. 9, с. 114].
Притчи о сапожниках и гробовщиках
В III томе «Современника» опубликовано стихотворение с подзаголовком «Притча». Эта посвященная Николаю Ивановичу Ыадеждину басня называется «Сапожник». Пушкин подписал ее псевдонимом «Семен Старожилов», чтобы литературная маска напомнила Надеждипу эпизод полемики 1829 года, которая и семь лет спустя не потеряла своего значения.
В конце 1820-х годов Надеждин (под псевдонимом Никодим Надоум-ко) начал пропагандировать свою концепцию подхода к классицизму и романтизму и предсказал, что в ближайшем будущем произойдут очень важные перемены, которые коренным образом преобразят ход книжно-журнальных дел. На первых шагах разъяснения своей, на самом деле очень проницательной, философско-культурологической теории он писал критические статьи, которые не сразу были правильно оценены. В недооценке сыграли роль сразу несколько факторов: запальчивый тон, место публикации статей («Вестник Европы») и неизящный слог, который Пушкин окрестил в эпиграммах «се-минаристской» и «лакейской прозой».
И самая «античная» из эпиграмм Пушкина на Надоумко (та самая притча «Сапожник») опиралась на старинный, из «Естественной истории» Плиния Старшего позаимствованный, сюжет. «Суди, дружок, не свыше сапога!» - ответил древнегреческий художник Апеллес сапожнику, критиковавшему изображение на его картине Мораль притчи о сапожнике выражалась пятистишием:
Есть у меня приятель на примете: Не ведаю, в каком бы он предмете Был знатоком, хоть строг он на словах, Но черт его несет судить о свете: Попробуй он судить о сапогах!
У Плиния Апеллес прислушался к замечанию о том, как должны быть устроены сандалии, но не допустил того, чтобы сапожный мастер давал ему советы относительно всего другого, что он нарисовал. Как видим, и пушкинская эпиграмма не ставила под сомнения теоретические выкладки, обходя их стороной: «Не ведаю, в каком бы он предмете / Был знатоком...»; притча высмеивала неуместный апломб сапожника.
С 1830 года остановить поток пасквилей на свет и светскость, писавшихся теми, кто сам «дальше прихожей не бывали», стало гораздо труднее, чем в 1829-м (а уж тем более - в 1821 году, когда, как мы помним, Пушкин потребовал от Вяземского не печатать эпиграммы на Каченовского, чтобы пресечь ответную брань Михаила Трофимовича на эпиграмматистов).
Теперь пытаться сохранить взаимное уважение спорящих стало просто опасно: это не столько подливало масла, сколько подбавляло черной копоти в огонь. На любое упоминание о литературных приличиях соперники обрушивали шквал упреков, в которых было все сразу - и откровенная злоба, и подсознательные страхи, и укоры совести. Вспомним, что случилось после ста тьи Вяземского «Несколько слов о полемике» (Литературная газета, 1830, № 18), в которой было сказано: то, что «непозволительное в гостиной, в сношениях личных человека образованного с человеком образованным» не терпимо и в полемике «писателя с писателем». Вяземский выдвинул три аргумента в пользу литературных приличий. Первый: «Не всегда захочешь вступить в полемику с сочинителем, то есть в спор, в прение, потому что спор есть разговор, а с иным писателем разговаривать не можно, то есть и не должно ... и полемика полемике, и спор спору рознь. Между равно благовоспитанными, образованными людьми нередко и в споре бывает обмен насмешек, колкостей; но из того не следует, что спор в гостиной между благовоспитанными людьми есть одно и то же, что спор в сенях между лакеями и на улице между черни. По этому соображению образованный человек, застенчивый в отношении своей чести, не войдет в бой неровный, словесный или письменный, с противниками, которые не научились в школе общежития цене выражений и приличиям вежливости». Аргумент второй: «Пойдет ли благородный человек, вооруженный шпагою, драться на поединке с поденщиком, владеющим палкою? Разумеется, не от страха откажется он от боя: оружие его язвительнее; но законы, сии необходимые предрассудки общества, определили, что бой на шпагах благороден, а бой на палках унизителен». Третий аргумент касался чужеродных новшеств и домашних правил общежития: «Английские нравы, может быть, и хороши в Англии, но не в литературе: там знатный лорд должен по первому вызову площадного витязя засучить рукава и действовать кулаками. Есть и в литературе аристократия: аристократия талантов; есть и в литературе площадные витязи, но, по счастью, нет здесь народного обычая, повелевающего литературным дэ/сентлъменам отвечать на вызовы Джона Буля» [82, с. 107—108]. Из сказанного автор статьи заключал, что отступления от «сепаратных указов», от «частных, случайных, изменяющихся по временам и обстоятельствам» моментов возможны, но коренные законы общественной пристойности печать нарушать не должна. Эти законы «принадлежат, так сказать, к праву естественному; они везде одни и те же и должны быть известны и свойственны каждому члену образованного общества» [Там же, с. 109].
Язвительные пересуды не замедлили явиться во всех печатных изданиях, почувствовавших себя мало-мальски задетыми, то есть виновными в нарушении приличий. А на вопрос, кто поднял новую волну взаимной неприязни, все поспешили ответить: князь Вяземский! Пушкин вступился за друга, постарался вывести на глаза общий смысл этой ситуации, логическую несообразность нелепого утверждения о том, что во всем виноват «князь Вяземский», и тем поставить точку. Как всякий простой силлогизм, его краткая заметка «О статьях кн. Вяземского» (Литературная газета, 1830, № 10) состояла из двух посылок и вывода. Посылка первая: все «журналы, обвиненные в неприличности полемики» указывают «как на зачинателя брани, господствующей в нашей литературе», на князя Вяземского. Посылка вторая: его острые эпиграммы «могут казаться обидными самолюбию авторскому», но в них только образные обобщения, типы, а не брань в чей-то конкретно названный адрес. «Кн. Вяземский может смело сказать, что личность его противников никогда не была им оскорблена; они же преступают черту литературных прений и поминутно, думая напасть на писателя, вызывают на себя негодование члена общества и даже гражданина». Пушкин признал, что осуждать журналистов за незнание светских приличий не совсем верно: «Чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств. Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною...» [296, т. 6, с. 53-54]. Из двух посылок Пушкин сделал вывод: «Доказательством, что журналы наши никогда не думали выходить из границ благопристойности, служит их добродушное изумление при таковых обвинениях и их единогласное указание на того, чьи произведения более всего носят на себе печать ума светского и тонкого знания общежития» [Там же, с. 54].
Лапидарное доказательство истины отнюдь не утихомирило споривших. И вновь, как в том давнем случае с М. Т. Каченовским, подтвердилось, что полемику можно прекращать только отсутствием прямых поводов для полемики. На наш взгляд, именно желанием не подавать пищу новой вспышке огня и дыма было продиктовано решение Пушкина не печатать «Опровержения на критики», а вместо них дать в «Литературную газету» стихотворение «Арион»72. Однако узлы противоречий уже нельзя было развязать без постоянно действующего проводника первичной культурно-языковой деятельности - печатного органа, который бы вел гармоничную переработку информационного потока так, чтобы точка эпического равновесия между прошлым и будущим продвигалась вперед вместе с жизнью мифа национальной культуры, а не была утрачена современниками, оставлена в прошлом, на все более отдаляющемся от настоящего рубеже.
Бои между ложными романтиками были значительно опаснее воинственной позиции отжившего свой век «Вестника Европы» — опаснее тем, что индивидуализм подменяет единый центр мироздания множеством мелких точек, которые, каждая сама по себе, завязывают и вьют узлы противоречий. При таких условиях нельзя бороться с распадом только на пространстве книжного (печатного) обмена мнениями. В кризисные индивидуалистические эпохи борьба обретает истинный, а не ложный смысл лишь при поддержке алгоритма жизни устного народного предания.
Вот почему осенью 1830 года поэт начал активно осваивать путь увещеваний через сказки - народные (обработки фольклорных записей, сделанных в Михайловском от Арины Родионовны) и литературные (комические поэмы, первой из которых стал «Домик в Коломне» и повести, первой из которых стал «Гробовщик»).
«Магический кристалл» в моножурнале Болдинской осени 1830 года
Пушкин работал в Болдине над созданием театра журналистики, хотел добиться того, чтобы все было не бутафорским, а подлинным: действие драмы, актеры, хорея и прохор, амфитеатр. Осень 1830 года обогатила творческий мир поэта важными приобретениями. К возникшему тогда смиренному типу повествователя, Ивану Петровичу Белкину - провинциалу (и даже не писателю!), но очень важной персоне в предстоящей «перемене журнальных мод» прибавилась модель гармоничной организации пространства - геометрия «магического кристалла», который позволяет уравновесить и колебания маятника полемик, и проективное развитие человеческих судеб.
Пушкин полагался на пластичность русского опыта, которая стихийно преодолевает конфликты жестко очерченных индивидуальных миров. Это позволяло до определенного времени не касаться драмы европейского самосознания, но уже в 1826 году поэт сделал около десяти пометок (сюжеты из древней и новой европейской истории) для будущих драматических очерков на эту тему. Творческие люди годами держат в голове сюжеты, затем выдавая их в виде мгновенной импровизации, как итальянец на вечере у Чарского в «Египетских ночах». Такой импровизационный всплеск лег в основу «Маленьких трагедий» Название цикла дано друзьями Пушкина при посмертном разборе его рукописей, его нет на титульном листе драматических очерков, где Пушкин нарисовал следующую графическую композицию.
Некто умудренный жизнью задумчиво разглядывает густо заросшую листвою ветвь. Высокий изборожденный морщинами лоб погруженного в созерцание человека не покрыт головным убором. По центру страницы в полный рост нарисован закованный в латы воин (забрало его шлема опущено). За ним с одной стороны строй боевито нацеленных стрел и секира, нависшая над испитой чашей; с другой стороны приспущенное знамя и нечто, напоминающее и главу величественного храма и повергнутый наземь воинский шлем с шишаком и забралом. Эта центральная композиция отделяет друг от друга то, что расположено на левой (где нарисован мыслитель с ветвью) и правой части страницы. Справа видим не очень могучее, но уже состарившееся сучковатое дерево без кроны: осталась лишь нижняя, сильно покоре женная ветвь. Она совсем оголена и на ее оконечности, самой близкой к земле, колеблется последний, вот-вот готовый оторваться лист.
Все перечисленное занимает более половины страницы, но это нижняя часть целостного оформления титула. Верхнюю часть составляет привольно парящая надпись «Драматические сцены, 1830», легкой виньеткой связанная с фигурою мыслителя в правой стороне листа. В левой стороне тоже есть своя виньетка. Она соединяет с изображением иссохшего древа два других предположительных названия цикла («Драматические изучения», «Опыт драматических изучений»). Эти витающие над обрубленным стволом строки как бы дают ему новую крону.
Мы подробно рассмотрели изображение, чтобы понять, почему там присутствуют четыре формулировки: «Драматические сцены», «Драматические очерки», «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений». Подавая идею «Totus mundus agit historionem» в драматическом роде, Пушкин охватил несколько одновременно действующих проекции. Внешняя форма художественного исполнения (на бумаге - драматические очерки, на театральных подмостках — драматические сцены); внутренний смысл — опыт, серия драматических изучений: поэт выверял некую совокупность очерков характерологии европейского человека универсалией христианской средневековой культуры113. Драма как род литературного повествования наиболее приближена к возможности моделировать обычное речевое общение людей (герои сами высказывают свои представления о мире). В некнижном общении тип компоновки речемыслительного пространства особенно важен и, как мы говорили, может быть метонимическим (смирение - плод внутренней совместности объемов понимания) или метафорическим.
Поэт желал гармонично урегулировать моменты семейных и журналистских дел: «различить даль свободного романа» - книжного и жизненного. Болдинской осенью поминки по арзамасскому и лицейскому братству совпали с сюжетом, навеянным Пушкину недавно прочитанной поэмой Вильсона «The City of the Plague»: поминки по Вентворту, председателю шумных застолий, комический дар которого помогал горожанам не бояться смерти (Wentvorth - ушедшая ценность").
Пушкин ознаменовал День лицея отметкой: «19 окт. сожж. X песнь», за которой две фигуры: 1) Пушкин сидит у камелька, в котором горят автобиографические части его романа; 2) Онегин читает и напряжено вдумывается в свои чувства, роняя при этом в огонь то туфлю, то журнал. Н. Н. Петрунина высказала гипотезу о том, что предисловие к «Повестям Белкина» и название этого цикла появились не ранее 20 октября (дня написания «Метели»). И если эта мысль верна, то к совмещенному портрету автора и Онегина необходимо прибавить тень покойного Белкина. Это прорисует полную схему соответствий, прочерченную датировкой созданий Болдинской осени. В схеме три необходимых составляющих: автор — адресат — предмет (автор романа в стихах, скромный повествователь «Повестей Белкина», Онегин). Все -субъекты привольно проявляемого жизненного выбора; ни один - не безгласный объект изображения.
Если допустить существование такого «треугольника», то приуроченные к определенным дням сентября - ноября 1830 года произведения (Пуш кин помечал даты) станут кристаллическими гранями диалога, развитие которого зафиксировал литературный эюурнал или дневник (вроде «Альбома Онегина» и «Журнала Печорина»). Не стоит отворачиваться от идеи рукописного моноиздания как от пустой выдумки. Творческие прихоти Пушкина не бывали пустыми. Если он хотел выверить принципы стереоскопического понимания речи, как всякому ученому для объективного сбора материала, ему был необходим журнал проведения эксперимента.
По пушкинской датировке произведений можно узнать очередность, в какой возникали вещи, написанные Болдинской осенью. Возникали ли они целиком, или приурочивались в дневнике к моменту, когда та или иная вещь солировала в метасюжете хоровода, установить уже нельзя. Можно видеть, как рос кристалл - стройный, ясный объем действа, в котором перемежались стихи, повести Белкина, переложения фольклорных сказок, финальные главы «Онегина», «Маленькие трагедии», статьи и комментарии к повестям и роману, ответы критикам и рецензентам пушкинских произведений. Каждая реплика, соотнесенная с целым понимания, входила в ограненное (раскладываемое на проекции совмещенных речевых явлений) объемное пространство смысла. В метонимичном целом не было пропусков и пустот.
Композиция моножурнала, сколь ни была она существенна для Бол-динского творческого процесса, неизбежно бы рассыпалась при публикации написанных вещей. (Компоновка журнальных материалов тоже исчезает после того, как впервые вышедшие в периодике тексты обретут вторую, во многом иную, жизнь в составе книг.) Очередность не столь уж важна, если достигнуто эпическое понимание - тождество "сути и "присутствия". Гармоничный информационный поток не сковывает привольное восприятие сути. Но первоначальная разметка, проверка правильности соотношений в ходе эксперимента, поставленного, чтобы изучить компоновку объемов, целостно вбирающих и гармонично передающих эпический смысл - дело особое. Пока не выверен устойчивый алгоритм, «ювелиру» необходимо вести учет граней, строго выверять их взаимное расположение, отшлифовывать «глазок» драгоценного камня, окружая его композицией более мелких, но тоже имеющих свой порядок граней. Это все он выставит на вид, а под оправой перстня скроет конусовидную часть брильянта. Пушкин тщательно отделывал скрытое и выставленное напоказ, добиваясь гармонической точности. Круговую компоновку мелких граней дало переложение любовных и семейственных историй, по занимательной интриге не уступавших самым виртуозным творениям европейской беллетристики «Метель» — последний штрих мелкой вязи. Ее эпиграф (фрагмент баллады Жуковского) напоминает о снежной буре, как стихотворение «Бесы», но не смута, а задатки верной любви и доброй семейственности берут верх в этой притче. Концентрические ходы мысли от «Гробовщика» до «Метели» скреплены не только внешней узорчатой огранкой. Под оправу скрыта более глубокая проекция повествования («История села Горюхина») - плод дум покойного Белкина о своем захудалом роде. Доставшееся ему скудное письменное наследие не имело перспективы. Для будущего требуются не столбцы расходных счетов или обрывки фраз на полях старых календарей; нужен эпический задаток мифотворчества - эхо органической языковой деятельности многих поколений.