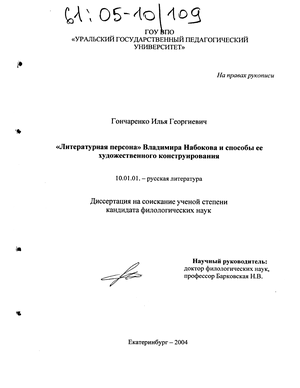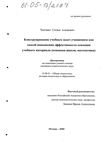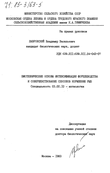Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Проблема автора в теории и истории литературы 14
1. Теории автора и проблема «литературной персоны» 14
1.1. «Литературная личность» автора в трудах формалистов 14
1.2. Полемика В.В. Виноградова и М.М. Бахтина 16
1.2.1. Автор, сказ и диалог в трактовке В.В. Виноградова и М.М. Бахтина 16
1.2.2. Коммуникативная ситуация в трактовке В.Н. Волошинова / М.М. Бахтина 21
1.3. Вопрос о «смерти автора» 25
2. История авторства в аспекте генезиса «литературной персоны» 29
ГЛАВА II. «Литературная персона» в фикциальных текстах В. Набокова 44
1. Модели анализа «литературной персоны» 44
1.1. Способы художественного воплощения «литературной персоны» В. Набокова 44
1.2. Условность «литературной персоны» («Набор», «Королек») 50
2. «Литературная персона» в повествовании от лица героя повествователя («Отчаяние») 63
3. «Литературная персона» в романе «Приглашение на казнь» 70
3.1. Критика и литературоведение о романе , 70
3.2. Проблема сюжетных и повествовательных мотивировок в романе 73
3.3. «Невозможный» мир романа 99
3.4. Коммуникативный статус вставных конструкций 108
3.5. «Литературная персона» и трансгрессия повествовательного языка 122
ГЛАВА 3 . Другой «другой» Набоков 129
1. Автобиография и интервью в оценке критиков 129
2. Моделирование «литературной персоны» автора в интервью и fr автобиографии 133
2.1. Особенности жанра интервью в творчестве В. Набокова 133
2.2. Самопрезентация как отличие 138
2.3. Противоречивость образа «литературной персоны» В. Набокова 148
3. Прошлое как сеть соответствий 168
3.1. Повествовательный перфоманс в автобиографии 168
3.2. Нарративные объективности 179
4. Аллегория памяти 188
Заключение 196
Список использованной литературы 202
- Теории автора и проблема «литературной персоны»
- Полемика В.В. Виноградова и М.М. Бахтина
- Способы художественного воплощения «литературной персоны» В. Набокова
- Автобиография и интервью в оценке критиков
Введение к работе
В настоящий момент творчество В. Набокова изучается достаточно
интенсивно. Подходы к произведениям писателя отличаются разнообразием.
.* Наследие В. Набокова вызывает интерес как явление взаимодействия литератур
[Букс 1998; Виролайнен 2001; Долинин 1989, 2000; Курганов 2001; Проффер
2000; Семенова 2001; Смирнов 1999; 2001; Шадурский 1999; Шраер 2000 и мн.
др.], как пример последовательного развития традиций русской литературы
Серебряного века [Александров 1999; Голынко-Вольфсон 2001; Долинин 1991;
Липовецкий 1997а; Сконечная 1996, 1997, 2001; Сендерович, Шварц 1997а,
' 19976], как факт преобразования модернизма в новую художественную
формацию, которую называют по-разному: синтетическим этапом русского авангарда [Медарич 1997], постмодернизмом [Липовецкий 19976]. На материале творчества писателя ставится и решается целый комплекс важных историко-литературных проблем, поэтому высокая степень изученности творчества В. Набокова закономерна.
Однако в области изучения наследия писателя продолжают существовать мало исследованные участки. Как правило, слабая изученность некоторых аспектов творчества В. Набокова связана с объективными трудностями: произведения писателя нередко вступают в конфликт с существующими в литературоведении моделями описания и анализа текста. Одним из таких аспектов является проблема авторского «я», или «литературной личности» В. Набокова.
Проблема автора - одна из наиболее обсуждаемых в современном
литературоведении, о чем свидетельствует появление работ
междисциплинарного характера, посвященных проблематике авторского права
^ [Вудманси 2001], анализу авторской идентичности [Абашева 2001], стратегиям
писательского поведения на литературном рынке [Берг 2000] и т.п. Однако несмотря на давнюю, почти столетнюю, историю существования, проблема автора не только не нашла еще своего решения, но и, пожалуй, только
5 обострилась с течением времени. «Самый спорный вопрос литературоведения — это вопрос о месте автора», - констатирует Антуан Компаньон [Компаньон 2001: 56]. Это и понятно: проблема автора — частный случай проблемы субъекта, которую на протяжении последних нескольких десятилетий активно обсуждают гуманитарии. Проблематичность - модус существования субъекта в современных гуманитарных построениях.
Образы субъекта, рисуемые различными доктринами, настолько разнообразны и многочисленны, что трудно их было бы свести к некоторому типологическому единству, некоторой вразумительной классификации, построение которой, к тому же, само по себе требует определенной и внятно артикулированной позиции, определенного предварительного решения проблемы.
Добавим к этому очевидную ситуацию кризиса в литературоведении, существование которого, подобно субъекту, давно уже стало привычно проблематичным, и станет ясно, что либо проблемы автора касаться не следует вообще, либо, решив все же принять участие в ее обсуждении, следует двигаться по пути эклектики. Так делает, например, в процитированной работе Антуан Компаньон. В самом деле, эклектики не избежать: даже если пытаться создавать видимость методологической однородности, во внимание неизбежно придется принимать и как можно дольше удерживать другие, альтернативные варианты решения и подходы.
Однако нередко оказывается, что путь эклектики не способен привести к последовательным ответам на цепь связанных вопросов. Это особенно ощутимо, когда в целях создания более или менее убедительной эклектичной смеси берутся взаимоисключающие ингредиенты.
Понимая сложность проблемы автора, осознавая рискованность эклектики как пути ее разработки, мы все же решились принять участие в ее обсуждении, ибо из сложности проблематики можно извлечь немалую выгоду: острота дискуссий и отсутствие единства сами по себе уже могут обеспечить
работу качествами актуальности и новизны. Тем более что объектом для освещения этой проблематики избрано творчество Владимира Набокова.
Авторство как категория, которой оперирует литературоведение, антиномична. В зависимости от точки зрения в ее рамках в противоречие могут вступать различные полярности, такие, как индивидуальное и коллективное, этическое и эстетическое, земное и небесное, личное (субъективное) и внеличное (интерсубъективное), жизненно-конкретное (в частности биографическое) и художественно-обобщенное. Противоречивость усугубляется тем, что в художественной практике XX века эти полярности как будто намеренно перемешаны.
Как раз такое смешение и демонстрирует творчество Набокова.
Художественным произведениям писатель нередко придавал
автобиографическое или псевдоавтобиографическое звучание, а мемуары подвергал очевидной фикционализации. В современной критической литературе эти и связанные с ними явления уже стали предметом основательных штудий, так что их анализ может представляться даже общим местом. Так, «присутствие» автора в романах Набокова кажется чем-то очевидным, если не банальным. Одним из первых об авторском «присутствии» заговорил Альфред Аппель. В рецензии «Кукольный театр Набокова» (1967) на книгу воспоминаний «Память, говори» (1967) он писал: «Набоков, воплощенный Протей, всегда присутствует в своих произведениях с маской на лице: как импресарио, сценарист, режиссер, сторож, диктатор и даже как актер эпизодической роли (Седьмой охотник в пьесе Куильти, вставленной в «Лолиту», Молодой поэт, который утверждает, что все в этой пьесе придумано им самим)» [цит. по: Классик 2001: 435-436]. По сути, критик развернул придуманную Набоковым метафору автора - «антропоморфного божества», распоряжающегося всем в мире произведения. Позже об авторском «присутствии» в романах Набокова, обнаружение которого требует от читателя
7 знания некоторых моментов биографии, писали Г. Левинтон [Левинтон 1997], Ю. Левин [Левин 1998в], Б. Носик [Носик 1995] и многие другие.
Как итог и теоретическое осмысление накопленного фактического материала следует воспринимать работу П. Тамми «Поэтика даты у Набокова», в которой на материале функционирования дат в текстах Набокова и со ссылкой на Б.В. Томашевского, разделившего авторов на «писателей с биографией» и «писателей без биографии», было введено понятие «литературной персоны» (или «литературной личности») Набокова. П. Тамми пишет: «Поскольку Набоков (опять вместе с Пушкиным) несомненно относится к классу писателей с биографией (здесь и далее курсив автора - И.Г.), различные факты биографии могут приобретать в его произведениях текстуальный статус. Мнения, литературные пристрастия, лингвистические выверты, а также личные имена, даты и другие документальные реалии могут использоваться для моделирования персоны автора. И, как любой другой элемент текста, эта авторская персона может открыто фигурировать в, литературном произведении, становиться его подтекстом или объектом пародии» [Тамми 1999: 24]. В заключении работы литературовед останавливается на проблеме «границ интерпретации» и решает ее довольно просто: «Набоковская поэтическая стратегия основывается на полигенетичности текста — использовании возможности все новых интерпретаций, брезжащих за фасадом уже найденных. Зачем же их ограничивать?» [Там же: 26]. На наш взгляд, этот вывод не совсем убедителен. Интерпретация, как известно, зависит не только от самого текста, но и в большей степени от контекста, в котором существует интерпретатор. Как бы ни изощрялся литературовед, выйти за пределы собственного контекста он не может. Вопрос, таким образом, состоит не в ограничении произвольности интерпретаций, но в том, что они никогда не могут быть радикально произвольными: прочесть функционирование дат у Набокова со словарем китайского календаря можно, но никто, даже Пекка Тамми, этого не делает. Но
8 раз есть неартикулированные «границы интерпретации», быть может, интуитивные, то почему бы все-таки не придать им артикулированный вид и переместить их тем самым из области «мнения» в область более или менее отрефлектированного «знания».
Впрочем, мы не предполагаем обсуждать здесь вопрос о «границах интерпретации», нам важно подчеркнуть только, что применительно к анализу авторского «присутствия» в романах Набокова нередко можно наблюдать отсутствие у критиков хотя бы какой-то доли аналитической рефлексии. Так, В.В. Мароши, обозначая приблизительно то же явление, что и «литературная персона», словом «автоперсонаж»,2 предлагает считать все производные лексемы «бок» в романах Набокова знаками авторского «присутствия» (как и лексемы «толстый» у Льва Толстого). При этом В.В. Мароши приходит к парадоксальному выводу: «Подобные авторские автореференции ориентируют читателя на индексирующую зеркальность всех жестов и поз персонажа как жестов воображаемого авторского тела, вписывающихся в тщательно выстроенную квазиреальность» [Мароши 2000: 290].
Нередко в работах об авторском «присутствии» у Набокова соседствуют интересные и убедительные наблюдения с неправдоподобными. Это касается в первую очередь анаграмм, а также близкого к ним явления «хроместезии», при котором авторское «присутствие» обозначается указанием на оттенки цветов, связанные с инициалами или полным именем Набокова через посредничество синестезических ассоциаций писателя, зафиксированных в автобиофафии [Шапиро 1999: 34].
В целом, в работах, посвященных проблеме автора у Набокова, наблюдается слишком буквальное понимание «присутствия» автора,
1 Этот факт подтверждает суждения философов о модусе гуманитарного познания: «Гуманитарные построения, по сравнению с философскими и научными, опираются на наименее отрефлектированные метафизические допущения, представляющие собой конгломерат философских, мифологических, идеологических, обыденных представлений... Из-за слабой отрефлектированности и кажущейся «естественности» такие допущения вызывают у познающего ощущение истинности, подобно идеологическим, религиозным и прочим представлениям, обусловленным действием психологического механизма, называемого психоаналитиками рационализацией» [Орлова 2001:45].
Ср. также обозначение «автор-персонаж» в: Скоропанова 2001: 44. В некоторых работах для номинации того же явления встречается словосочетание «персонажный автор» [Дворцова 2002: 81].
9 фигуративность выражения «антропоморфное божество», как правило, не принимается в расчет. Поэтому, несмотря на попытки теоретического обоснования явления авторского «присутствия», большая часть работ носит чисто фактический характер.
Принципиально иной подход к проблеме «литературной персоны» или «литературной личности» Набокова реализуется в работах Н. Мельникова и Г. Рыльковой. Н. Мельников анализирует «литературную репутацию» Набокова в аспекте рецепции его творчества критиками, русскими и американскими [Мельников 1998, 2001]. С другой стороны, им рассмотрены аспекты «литературного имиджа» Набокова, который писатель сознательно создавал в сознании читательской аудитории в американский период творчества [Мельников 2002, 2003]. Аспекты писательского «имиджа» Набокова исследуются также в работе Г. Рыльковой [Рылькова 2001]. Но указанные работы являются только первыми подступами к проблемам «литературной репутации», «литературного имиджа» и «литературной персоны» Набокова. Важно подчеркнуть, что для анализа подобного рода проблематики требуется особый подход, учитывающий социально-психологические, социологические, экономические аспекты проблемы. Между тем в отечественном литературоведении сложившихся традиций такого подхода не существует. Наверное, поэтому многие выводы указанных авторов кажутся шаткими. Так, Н. Мельников, например, считает, что «литературная персона» Набокова (т.е. образ, который он создавал в сознании аудитории) часто предопределяла художественную практику писателя [Мельников 2002: 37]. Вопрос о предопределении - очень сложный вопрос. Еще Б.М. Эйхенбаум в связи с проблематикой «литературного быта» писал: «Литература, как и другой специфический ряд явлений, не порождается фактами других рядов и потому не сводима на них. Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только
10 отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности» [Эйхенбаум 2000: 345].
По-видимому, для того чтобы профессионально осветить проблематику «литературного поведения» Набокова, требуется не только привлечение нового — «нелитературного» - материала (дизайн книг, фотографии, выступления на телевидении), но и разработка особой методики его анализа. Ориентация же на работы Б.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова, Г.О. Винокура, И.Н. Розанова, которую можно наблюдать в существующих исследованиях, кажется не совсем соответствующей современности. Как считает Борис Дубин, - и мы присоединяемся к его мнению, - проблема соотношения биографии и творчества при истолковании литературных фактов у близких формализму авторов удовлетворительного теоретического разрешения не получила и вообще не решаема изнутри литературоведения [Дубин 2001: 120].
В работах, посвященных проблематике «литературной персоны» Набокова, можно обнаружить определенные закономерности в характере обращения с материалом. Говоря о «литературной персоне» в произведении, обычно умалчивают о функциях этой фигуры. Материал же «небеллетристический» — интервью, автобиография, комментарии к «Евгению Онегину» - используется в основном как источник фактов, т.е. имеет вспомогательное значение и не анализируется сам по себе. В то же время, если анализируется «литературная репутация» или «литературный имидж», вспомогательное значение приобретает беллетристика. Выявить такие особенности художественной практики В. Набокова, которые позволяли бы говорить на одном языке и о том, и о другом, еще не удалось. На выявление и исчерпывающий анализ таких особенностей не претендуем и мы, однако считаем необходимым начать разговор об «онтологии» и «телеологии» «литературной персоны» Набокова.
Итак, вопрос о «литературной личности» В. Набокова обладает актуальностью в нескольких отношениях: во-первых, он не получил еще более
или менее последовательного решения применительно к творчеству писателя, хотя и привлекает внимание многих литературоведов; во-вторых, его обсуждение важно с точки зрения генезиса сходных явлений в новейшей
литературе («автор-персонаж» в постмодернистских произведениях); в-третьих,
он имеет эвристический потенциал, связанный с возможной конкретизацией
существующих в литературоведении «теорий» автора.
Сказанное предопределило цель, задачи, выбор объекта и предмета настоящей диссертации.
Цель работы заключается в описании способов художественного
* конструирования «литературной персоны» В. Набокова в фикциальных и
нефикциальных текстах.
В задачи исследования входит:
проанализировать различные подходы к проблеме автора; охарактеризовать важные в плане генезиса «литературной персоны» явления из истории литературы;
указать параметры коммуникативной ситуации, в которой возникает явление «литературной персоны», охарактеризовать художественную онтологию «литературной персоны»;
дать определение явлению «литературной персоны», обосновать продуктивность понятия «литературная персона» применительно к творчеству писателя;
проанализировать стратегии воплощения «литературной персоны» В. Набокова в фикциальных и нефикциальных текстах; указать параметры «литературной персоны» В. Набокова;
охарактеризовать функции «литературной персоны» в фикциальных и нефикциальных текстах.
Объектом исследования являются русскоязычные тексты В. Набокова (рассказы, романы, автобиография), наиболее показательные с точки зрения художественного воплощения «литературной персоны» автора.
Предмет исследования - коммуникативные стратегии воплощения «литературной персоны» автора в различных жанровых условиях.
Научная новизна работы связана с аспектом анализа «литературной персоны» В. Набокова. Явление «литературной персоны» рассматривается в коммуникативном аспекте, предполагающем изучение литературы как средства массовой коммуникации. Научная новизна работы состоит в определении сущности, параметров и функций «литературной персоны» В. Набокова с коммуникативной точки зрения.
В настоящий момент очевидно смещение фокуса внимания филологических дисциплин в сторону прагматики. В лингвистических исследованиях практикуется коммуникативно-прагматический подход, значительная часть литературоведческих исследований ведется в рамках нарративистики. Многие современные направления, с которыми связано литературоведение (постколониальнье, тендерные исследования), имеют явный антропологический характер: артефакт рассматривается здесь не только сам по себе, но и как объективация социальности субъекта. Практика анализа в рамках указанных подходов и направлений нередко сопровождается сведением эстетического к лингвистическому или социальному, побуждающим определить такую область анализа, которая не была бы только коммуникативной, не была бы только антропологической, но позволяла бы сохранить собственно артефакт, учитывая, однако, современные подходы.
В настоящей работе попытка определить подобную область анализа была осуществлена с опорой на работы лидеров франкфуртской школы (Т. Адорно, В. Беньямин), составившие методологическую основу настоящего исследования. Кроме того, при трактовке коммуникативного аспекта литературы оказались значимыми положения, сформулированные в работах В. Волошинова, Ж. Лакана, Я. Мукаржовского, А. Леонтьева, П. Бурдье, И. Ильина, Ю. Левина, Ю. Тынянова, Ю. Лотмана.
Теоретическую базу исследования составили работы, посвященные феномену авторства, принадлежащие А. Аверинцеву, М. Бахтину, Н. Боннецкой, В. Виноградову, Б. Корману, В. Топорову, М. Фуко.
Конкретный текстовый анализ ориентирован на работы П. де Мана.
Практическая значимость работы заключается в возможности использовать результаты исследования в практике преподавания филологического анализа текста, специальных курсов по творчеству В. Набокова, специальных курсов по теории литературы.
Апробация работы. Результаты исследования докладывались на всероссийских и международных конференциях, проводившихся в Новосибирске, Твери, Екатеринбурге, Москве, и отражены в восьми публикациях. Диссертация обсуждалась на кафедре современной русской литературы УрГПУ.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и библиографического списка.
В Главе I анализируются значимые для целей исследования подходы к проблеме автора, указываются параметры коммуникативной ситуации, в которой возникает явление «литературной персоны».
В Главе II на материале рассказов и романов анализируются способы репрезентации «литературной персоны» В. Набокова в фикциальных текстах.
В Главе III рассматривается стратегия конструирования «литературной личности» В. Набокова в автобиографии и доказывается ее сходство со стратегией представления «литературной персоны» в фикциальных текстах.
В Заключении делаются выводы, намечаются перспективы дальнейших исследований.
Теории автора и проблема «литературной персоны»
Как отмечалось, в современных трактовках понятие «литературной личности» В. Набокова имеет двойственный характер. Оно отсылает к сфере художественного творчества, если его соотносят с понятием «образ автора» в художественном произведении (П. Тамми, Г. Шапиро), и к «жизненной», внехудожественной реальности, если его соотносят с публичным поведением писателя (Н. Мельников, Г. Рылькова).
Данная двойственность унаследована от формализма, в котором можно выделить два подхода к теоретической разработке сходных явлений: имманентный анализ, направленный на выявление способов представления и замещения автором самого себя в художественном тексте, и подход с позиций «социологии литературы». В первом случае использовалось понятие авторской «маски» (И. Груздев). Функция авторской «маски» связывалась с «остранением»: «маска» «представляет собой некую сумму всех остраняющих приемов», причем авторская «маска» отграничивается от «личности автора как исторической, биографической или мировоззренческой величины» [Ханзен-Леве 2001: 267]. Во втором случае также рассматривались способы замещения автора, но только на материале «литературного быта». Здесь возникала необходимость противопоставить «биографическую» и «литературную» ипостась автора. В рамках такого подхода Б. Томашевским использовалось понятие «литературной личности». Ю. Тыняновым «литературная личность» трактовалась как результат «экспансии литературы в быт» (выделено автором - И.Г.) [Тынянов 1977: 279]. «Литературная личность» обнаруживалась у таких писателей, как Пушкин, Толстой, Блок, Маяковский, Есенин.
При концептуализации авторской «маски» и «литературной личности» в формализме большую силу имела оппозиция литературного и нелитературного «рядов». Эта оппозиция не позволяет рассматривать явления авторской «маски» и «литературной личности» как соотносительные. В результате «литературная личность» расщепляется на множество «личностей», существующих в различных дискурсивных условиях. Такому заключению противоречит тот факт, что и авторская «маска», и «литературная личность» суть замещения биографической личности, т.е. они имеют тождественный субстрат и возникают, по-видимому, в сходных условиях. Разрешить это противоречие, сохраняя противопоставление литературного и внелитературного «рядов» и не вводя никаких дополнительных посредников между ними, невозможно.
С иных позиций к проблеме связи биографии и творчества писателя подошел Г.О. Винокур. Принципиальным в его подходе было рассмотрение биографии в становлении, «делании», так что биография превращалась в текстуальное образование, обладающее своим синтаксисом («развитие есть синтаксис») и стилистикой («стилистические формы поэзии суть одновременно стилистические формы личной жизни») [Винокур 1927: 33, 82]. Проводя аналогию биографии с повествованием, Г.О. Винокур прежде всего решал задачи научного биографирования, поэтому в соответствии с данной позицией личность писателя должна была представлять собой реконструкцию, принадлежащую исследователю.
Другое смещение фокуса исследования можно наблюдать в книге И.Н. Розанова «Литературные репутации» (1928), где автор рассматривался как объект восприятия, причем не столько современников, сколько читателей последующих поколений. Сделав акцент на читателе, показав конъюнктурность факторов канонизации, И.Н. Розанов предвосхитил ряд идей П. Бурдье.
Общим для работ Г.О. Винокура и И.Н. Розанова является то, что личность автора в них исследуется как объект биографирования или восприятия. Иными словами, эти работы почти не соотносятся с проблематикой «литературной личности». Подходы названных исследователей указаны для того, чтобы подчеркнуть, что в дальнейшем нас будет интересовать автор не как объект, а как субъект, сознательно стремящийся сформировать в сознании читательской аудитории представление о себе как о писателе.
Несмотря на большое количество продуктивных идей, в дальнейшем «социоцентрический» подход к проблеме автора в отечественном литературоведении не получил развития, если не принимать в расчет «вульгарный социологизм».3 Имманентный же анализ «образа автора» продолжал разрабатываться в трудах В.В. Виноградова.
Полемика В.В. Виноградова и М.М. Бахтина
Повествование в рассказе «Набор» (1935) как будто разнородно (т.е. является безлично-личным).9 Первый абзац рассказа выдержан в регистре безличного повествования: «Он был стар, болен, никому на свете не нужен и в бедности дошел до той степени, когда человек уже не спрашивает себя, чем будет жить завтра, а только удивляется, чем жил вчера» (PIV: 557). Придаточные изъяснительные, распространяющие глаголы со значением мысли или восприятия, появляющиеся в рассказе с некоторой избыточностью, нарочитостью, создают впечатление, будто повествователь погружается вглубь героя. Тонкая психологическая нюансировка, почти избыточное перечисление родных и знакомых Василия Ивановича, героя рассказа, свидетельствуют о максимальной осведомленности повествователя о персонаже. Преобладание внутренней точки зрения «в плане психологии» [Успенский 1995] подразумевает в качестве субъекта речи всеведущего безличного повествователя. Но уже во втором абзаце повествование как бы расслаивается: появляется заключенная в скобки вставная конструкция: «Наконец (и этот момент я как раз и схватил, после чего уже ни на минуту не упускал из вида рекрута) Василий Иванович вышел» (558). Далее это «я» начинает постепенно проступать, становясь все четче и четче. Во фрагменте, где субъектом восприятия является герой, возникает еще одно — третье — лицо: «Рядом, на ту же в темно-синюю краску выкрашенную, горячую от солнца, гостеприимную и равнодушную скамейку, сел господин с русской газетой. Описать этого господина мне трудно, да и незачем, автопортрет редко бывает удачен...» (561). Указания на автопортрет здесь еще не достаточно для того, чтобы выяснить, кто является этим третьим лицом. Но несколько позже вскользь упомянутый факт родства повествователя с Аксаковыми, позволит читателю, знакомому с книгой воспоминаний Набокова, установить личность повествователя: это созданный писателем образ самого себя. Далее лик «литературной персоны» проступает все явственней, и к концу рассказа повествование приобретает откровенно «остраняющий» характер: «мне во что бы то ни стало нужно было вот такого, как он, для эпизода романа, с которым вожусь третий год» (561). Иллюзия безличного повествования, так старательно создававшаяся в начале, оказывается моментально разрушенной, а тот существующий в мире Василия Ивановича безличный повествователь замещается иным субъектом — «литературной персоной». Следовательно, безличный повествователь — это притворство «литературной персоны», скрывающей, как на самом деле обстоят дела, обладающей по отношению к читателю избытком видения и знания, а потому «играющей» с читательскими ожиданиями. Но перспектива «игры» намечена уже в самой избыточности, «гладкости» безличного повествования, поэтому безличное повествование при повторном чтении может восприниматься как «притворство».
Упоминание романа, над которым повествователь «возится третий год», здесь совсем не случайно: рассказ «Набор» создавался параллельно с романом «Дар»(1938, 1952), работу над которым Набоков начал в 1932 году, примерно за три года до того, как был опубликован рассказ. Но в «Даре» нет Василия Ивановича, зато Василий Иванович есть в рассказе «Облако, озеро, башня»(1937).10 И все-таки между романом «Дар» и рассказом есть стилистические переклички: воображаемое погружение Федора Годунова-Чердынцева во внутренний мир чужого человека сравнивается в романе с тем, как усаживаются в кресло, повествователь же в рассказе называет героя
Василием Ивановичем «потому, что это сочетание имен как кресло» (561). Рассказ отсылает к роману также за счет того, что в обоих произведениях с роскошной подробностью описывается состояние творческого озарения -«эпифании» (в рассказе этим состоянием счастья одаривается герой). Описание вдохновения содержится также в программном для Набокова эссе «Искусство литературы и здравый смысл» (1942). Примечательно, что и в рассказе и в эссе моменту «эпифании» сопутствует воскрешение в памяти образа старого, забытого, давно исчезнувшего знакомого: «Ни с того ни с сего Василий Иванович вдруг увидел в воображении человека, которого сестра когда-то любила, — гаршинской породы, полусумасшедшего, чахоточного, обаятельного, с угольно-черной бородкой и цыганскими глазами, неожиданно застрелившегося из-за другой, кровь на манишке, маленькие ноги в щегольских штиблетах» (559). Ср. в эссе: «Прохожий начинает насвистывать именно в тот момент, когда вы замечаете отражение ветки в луже, что, в свою очередь и мгновенно, напоминает сочетание сырой листвы и возбужденных птиц в каком-то прежнем саду, и старый друг, давно покойный, вдруг выходит из былого, улыбаясь и складывая мокрый зонтик» (Лекции 2000: 473).
Способы художественного воплощения «литературной персоны» В. Набокова
Способы воплощения «литературной персоны» в фикциальных текстах Набокова многочисленны и разнообразны. Важнейшая функция «вторжений» «литературной персоны» автора в мир произведения, демонстрация «сделанности» или «делаемости» текста состоит в разрушении иллюзии правдоподобия изображаемого мира, в демотивации повествования, которое одновременно становится мотивированным на другом - не миметическом — уровне.
В ранних романах писателя, таких, как «Машенька» (1926) или «Защита Лужина» (1930), установка на жизнеподобие явно доминирует над установкой на разрушение иллюзии жизнеподобия. «Сделанность» произведения проявляется косвенно и почти незаметна. Так, в «Машеньке», например, она, проявляется на уровне лейтмотивов, в частности — в «игре» с цифровыми обозначениями (комнаты в пансионе и дни недели, в которые происходит фабульное действие), в обыгрывании сюжета о сотворении мира в течение недели [Медарич 1997: 458], и реминисценций, которые прочитываются как тематизация отталкивания от традиций [Долинин 20016: 11]. Важно, что рефлексивный, «металитературный» компонент не обращает на себя внимание. М. Осоргин в рецензии на роман даже назвал Сирина «бытовиком» [Классик 2001: 33]. «Литературная персона» автора «присутствует» в «Защите Лужина» (см. анализ романа как «аллегории» взаимоотношений автора и героя в: Найман 2002), но ее «присутствие» почти незаметно, поэтому роман может легко читаться на разных уровнях — «миметическом» и «металитературном». Таким образом, комплекс взаимосвязанных принципов построения текста: «игра» с читателем, интертекстуальность, автотематизирование [Медарич 1997] — определился в творчестве Набокова сразу, и в дальнейшем шло его углубление.
Способы реализации этих принципов, или приемы демонстрации «сделанности» текста, могут быть классифицированы по различным признакам: хронологическому и языковому («вторжения» «литературной персоны» автора в мир произведения в русских и англоязычных романах, характер эволюции этих приемов); по признаку выявленности («эксплицитности») «литературной персоны» на различных участках текста (намек на «присутствие» автора -автобиографическая деталь, например, дата; и демонстративное «присутствие» - указание на лицо пишущего «автора»); по признаку уровня произведения, на котором происходит демонстрация «сделанности». С методической точки зрения предпочтительными кажутся последние два признака.
В соответствии с этими признаками классификация способов проявления «литературоной персоны» может выглядеть следующим образом.1
1. «Литературная персона» автора может функционировать в мире произведения, существовать в том же пространстве и времени, в котором существуют герои. Здесь следует оговориться, что «литературная персона» в таком случае становится замещением самой себя: это не традиционный герой-повествователь, но именно замещение «литературной персоной» самой себя, поскольку «реальная» «литературная персона» не может находиться в мире произведения, который ею самой и вымышлен и вымышленность которого она же и должна подчеркнуть. Отсюда метафорические обозначения этого образа «представителем» («Облако, озеро, башня» (1937)). В романе «Король, дама, валет» (1928) «представителями» автора становится молодые супруги, причем трудно было бы распознать здесь «присутствие» автора, если бы не было эксплицитного сравнения пары с лейтмотивом: «Он давно заметил эту чету — они мелькали, как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив — то на пляже, то в кафе, то на набережной» (РИ: 291). Кроме того, в предисловии к английскому переводу романа Набоков обратил внимание читателей на факт своего метафорического «присутствия»: «мы с женою появляемся в двух последних главах только для инспекции» (Предисловия 1997: 63). Ср. также упоминание Набокова как автора «Лолиты» в романе «Бледное пламя» (1962) или искаженное упоминание в «Аде» (1968).
2. На повествовательном уровне возможно указание «литературной персоной» на самое себя (появление местоимений 1-го л. ед.ч. в контексте кажущегося безличным повествования). Такова реализация «литературной персоны» в романах «Приглашение на казнь» (1935) и «Под знаком незаконнорожденных» (1947). Важно, что в предисловии к последнему роману Набоков комментирует этот прием. Здесь возникает метафора автора как «антропоморфного божества»: «В последней главе книги это божество испытывает укол сострадания к своему творению и спешит вмешаться» (Предисловия 1997: 81); ср. также: «я распускаю труппу» (77), и Круг, «и его сын, и жена, и все остальные — суть просто мои капризы и проказы» (77).3 Ср. также роман «Прозрачные вещи» (1972), текст которого насыщен всевозможными отступлениями и открытыми обращениями повествователя к герою, однако герой не способен услышать их и поэтому гибнет.
Нередко «литературная персона» автора проявляется как на пространственно-временном, так и на повествовательном уровнях; в романе «Пнин» (1957), например, повествователь фигурирует в художественном мире под именем Владимир Владимирович. Здесь же можно указать многочисленные каламбурные обозначения авторского «присутствия» в романах «Лолита»(1955), «Ада», «Прозрачные вещи», «Посмотри на арлекинов!» (1974).
Автобиография и интервью в оценке критиков
Десятилетие, в течение которого вышли перевод и комментарий к «Евгению Онегину» (1964), автобиография «Память, говори» (1967) и сборник интервью «Твердые суждения» (1973),1 ознаменовало завершение процесса официального признания писателя в англоязычном мире. Если можно так сказать, именно тогда определились некие «институциональные» рамки (по крайней мере их очертания), в которых творчество Набокова стало в дальнейшем существовать и оцениваться. В трех книгах Набокову удалось самому сформулировать и сформировать основные позиции в отношении к собственному творчеству, которые затем были растиражированы его исследователями. С тех пор в большинстве работ о Набокове в качестве сильнейшего аргумента стала использоваться апелляция к высказываниям писателя, так что его нефикциальные тексты приобрели статус своеобразного «метанарратива» (по Ж-Ф. Лиотару), «легитимирующего» тот или иной критический опыт.
Смысл и назначение автобиографии и книги интервью были быстро определены критиками. Так, в рецензии на автобиографию (1967) Альфред Аппель указывал, что «Память, говори» — не только мемуары, это, вместе с пятой главой «Гоголя» (1944), идеальное предисловие к набоковскому искусству, потому что самый внятный критический разбор набоковского творчества находим в его книгах» [цит. по: Классик 2001: 428]. А. Аппель прочитал «Память, говори» как своеобразный эстетический манифест. Важно, что критик был хорошо знаком с творчеством Набокова, поэтому книга, соотнесенная с художественными текстами, оказалась способной прояснить многое. Критику бросилось в глаза, что, прочитанные на фоне автобиографии, романы Набокова обретают квазиавтобиографическое, пародийное звучание: «Хотя «Память, говори» проливает ясный свет на самопародийное содержание набоковской прозы, никто еще в полной мере не понял скрытого эстетического смысла этих превращений или той степени, в какой Набоков сознательно проецирует в свои произведения собственную жизнь» [Там же: 430]. Смысл игровой автобиографичности прозы Набокова Аппель усмотрел в обозначении авторского «вмешательства» в тот или иной текст. Критик назвал 6 приемов (пародия, совпадение, моделирование, произведение в произведении, драматизация романа, авторский голос), использование которых позволяет достичь эффекта авторского «присутствия».
Тогда же сформировался круг искренних почитателей искусства Набокова и тех, кто относится к набоковскому творчеству весьма скептически, воспринимая его как легкомысленную игру сноба и эстета. По-видимому, важным (но не единственным) фактором разделения читателей Набокова на почитателей и простых читателей является общественная позиция писателя, социально индифферентная и политически консервативная. У тех и у других складывается особое к ней отношение. Первые стараются о ней не говорить. Однако в аналитической практике молчание превращается в умолчание, т.е. в фигуру красноречия: настоящие читатели Набокова (например, в Барабтарло 2003 подразумевается такое разграничение) тщательно и тонко анализируют текст, обнаруживают в нем множество реминисценций, демонстрируя глубокую эрудицию. При этом они не говорят о социальных, политических, экономических, психологических и т.п. аспектах и контекстах творчества Набокова. Вторые же называют Набокова «невежественным реакционером» и, не разделяя его общественной позиции, не принимают его творчество или принимают очень ограниченную часть (для первых все произведения Набокова значимы, т.к. они образуют единый текст, скрепленный сквозными мотивами и реминисценциями). Можно предположить, что откровенное выражение Набоковым своих политических убеждений и литературных пристрастий играло двойную роль: с одной стороны, читателям объяснялось, как по-настоящему надо читать книги, и очень убедительно объяснялось, так, что трудно было не поверить Набокову и не стать его поклонником,5 с другой стороны, результатом разъяснений становилось то, что многие «левые» или просто политически ангажированные интеллектуалы исключались из числа его читателей.
Нефикциальные тексты Набокова не только побуждают критиков обращаться к ним с целью усиления аргументации, но и провоцируют производство отличий.6 Так обстоит дело с работами М. Маликовой [Маликова 2002] и Б. Аверина [Аверин 2003]. Мария Маликова утверждает, что чтение автобиографии Набокова требует выработки особой стратегии -«оппозиционности по отношению к «авторской тирании», соединения фикциального и фактуального кодов чтения, учета пародийной специфики интертекстуальности Набокова и особенностей автобиографической интертекстуальности» [Маликова 2003: 17].