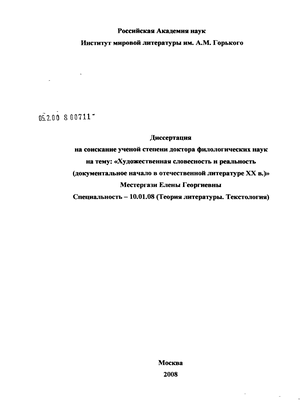Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Документальное начало в отечественной литературе XX в.
1.1. Причины «пробуждения» факта и предпосылки развития «документальной» литературы в XX в С. 28
1.2. О терминологии С. 36
1.3. О «документальных» жанрах С. 57
Глава II. Правда факта и специфика художественной образности в «документальной» литературе .
2.1. Достоверность / недостоверность факта как теоретико-литературная проблема С. 77
2.2. Специфика художественной образности С. 86
Глава III. «Образ автора» в «невымышленной» прозе .
3.1. «Образ автора»: основные концепции в отечественной литературной теории XX века С. 144
3.2. «Образ автора» в «невымышленной» прозе С. 151
Глава IV. «Наивное письмо» в литературе конца XX в. как художественная реальность С. 174
Заключение С. 222
Библиография С. 227
- Причины «пробуждения» факта и предпосылки развития «документальной» литературы в XX в
- Достоверность / недостоверность факта как теоретико-литературная проблема
- «Образ автора»: основные концепции в отечественной литературной теории XX века
- «Образ автора» в «невымышленной» прозе
Введение к работе
Понятия «литература» и «реальность» относятся к тем основополагающим категориям, с которых начинаются любые теоретические построения в области изучения художественной словесности. В разные эпохи, а иногда и в пре-. делах одной эпохи, эти понятия трактовались различным образом. Так, например, сама постановка вопроса — факт или вымысел — имеет существенное значение для человека ХІХ-ХХ столетия. Для предшествующих периодов различие между реальностью и вымыслом не столь существенно: более того, литература, описывающая жизнь вымышленных персонажей, зачастую воспринималась как самая настоящая реальность.
Объем понятий «литература» и «реальность» исторически изменчив. Очень долгое время под литературой понималась исключительно изящная словесность, и лишь в XIX веке, с развитием реализма, границы такого представления начали размываться. Заговоривший «сам по себе» факт неожиданно расширил пространство художественности, ибо оказалось, что книга может быть написана хорошо принципиально не писателем, и писатель может создавать шедевры не только на основе вымысла. В XX веке для теоретика культуры становится очевидным, что «весьма поспешным было бы утверждение, будто наука о литературе имеет дело со словом литературным, поэтическим, творческим, со словом литературы, поэзии. Ограничительное в таком утверждении пока не оправдано: есть такие эпохи истории литературы, в применении к которым понятие литературного расширяется и распространяется на все написанное вообще, и молено задаться вопросом, не верно ли было бы распространять его во всех случаях» [Михайлов, 2001: 250].
Под «действительностью» те или иные художники могут также понимать не одно и то же, именно поэтому наукой о литературе эта категория в каждом отдельном случае должна рассматриваться специально. В художественном произведении «реальностью» может представать 1) нечто действительно сущее, видимое глазом и воспринимаемое на слух, наконец, подвластное осязанию, т. е. нечто, соответствующее реалиям быта; 2) нечто, не исчерпывающееся види-
4 мым и осязаемым, относящееся к сфере не быта, но бытия; 3) нечто из области фантазии, чистого вымысла, не опирающегося ни на какие жизненно-правдоподобные реалии.
Литература и реальность существуют в неразрывном единстве. Не только из реальности произрастает литература, но и художественная словесность способна моделировать действительность. С этим напрямую связано такое явление культуры, как жизнетворчество. Оскар Уайльд, одним из первых, обратил внимание на особую форму взаимоотношений искусства и жизни, отметив, «что не столько природа обусловливает красоту художественного произведения, сколько художник является истинным виновником красот природы. Англичане только тогда стали гутировать красоту лондонских туманов, когда гениальный Тернер выявил ее суть на своих бессмертных полотнах. Уайльд смело заявляет, что великие художники воплощают в своих произведениях не современное им общество, а то, которое живет после них» [Евреинов, б. д.: 22]. Нечто сходное высказывает и А. С. Суворин, замечая об И. С. Тургеневе как о «модном писателе»: «Его романы - это модный журнал, в котором он был и сотрудником, и редактором, и издателем. Он придумывал покрой, он придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались...» [Суворин, 1923: 89].
Начиная с ХУШ века еще один аспект взаимоотношений литературы и реальности, связанный с проблемой отражения общественной жизни в искусстве, становится актуальным. Литература становится важнейшим инструментом идеологического воздействия. В свою очередь и всякий анализ художественных произведений так или иначе оказывается не свободным от мировоззренческих установок исследователя. Таким образом, взаимоотношения литературы и реальности включают в себя целый спектр проблем, тесно связанных между собой и исторически обусловленных.
Выбор темы и актуальность диссертации определяются принадлежностью обозначенного в заглавии материала к кругу коренных, наиболее важных вопросов науки о литературе, мало изученных. В то время как наиболее значимые формы взаимодействия художественной словесности и реальности находи-
5 лись в центре внимания на протяжении всей истории, сегодня, в условиях слома прежней идеологически ориентированной методологии отечественного литературоведения и выработки современных исследовательских подходов, особенно актуальным представляется рассмотрение той области теоретического знания, которая до сих пор почти не попадала в поле зрения ученых, а именно: к проблеме документального начала в литературе как одной из составляющих взаимоотношений искусства и действительности, в XX веке приобретшей качественно новые характеристики, требующие историко-литературного описания и теоретико-литературного осмысления.
Сказанным обусловливаются задачи исследования и его научная новизна. Предпринимается попытка изучить в различных теоретических аспектах феномен литературы с главенствующим документальным началом, а также дать историко-литературное описание явления от первых признаков «пробуждения» факта до обретения им «самостоятельного эстетического значения» в XX веке.
Не только в отечественном, но и в зарубежном литературоведении эта проблематика монографически не рассматривалась. Научная новизна обращения к данной теме определяется несколькими обстоятельствами.
Во-первых, до сих пор в отечественной науке литература с главенствующим документальным началом не получила сколько-нибудь определенного статуса, налицо терминологическая путаница. Нет единства в точке зрения на предмет: представляет ли он собой отдельный вид словесности или, как некоторые полагают, особый ее жанр; каким образом функционируют такого рода произведения и в какой мере реальность, воссоздаваемая ими, принадлежит области «художественного».
Во-вторых, что касается зарубежного литературоведения, то оно еще менее, чем отечественное, склонно теоретизировать по поводу рассматриваемого в диссертации предмета, поэтому понятийный инструментарий существенно беднее и заметно отличается от того, что принят в русскоязычной практике.
В-третьих, при обилии материала и все возрастающем интересе к нему представителей смежных гуманитарных дисциплин — социологии, истории, фи-
лософии, а также наличии отдельных ценных историко-литературных исследований, в целом филология пока только ищет подступы к осмыслению вопросов, которые настойчиво выдвигает сама жизнь.
Следовательно, одна из насущнейших задач нынешнего дня состоит как в выработке более совершенного категориального аппарата, так и в придании литературе с главенствующим документальным началом научно закрепленного статуса на основе историко-теоретических исследований художественной природы таких произведений и особенностей их функционирования.
Отсюда цель настоящей диссертации существенно отлична от целей работ сугубо историко-литературного плана и состоит прежде всего в попытке изучения различных теоретических аспектов указанного феномена, а также в рассмотрении широкого круга вопросов, связанных с функционированием произведений с главенствующим документальным началом, наряду с преодолением сложившихся стереотипов в восприятии рассматриваемого материала.
Степень изученности темы можно определить как невысокую. Об этом прежде всего свидетельствует отсутствие (за редким исключением) в литературных словарях и энциклопедиях необходимых статей, относящихся к рассматриваемой проблематике, отсутствие соответствующих разделов в многочисленных авторских и коллективно созданных «Теориях литературы», а также иных учебных и методических пособиях, относительно небольшое число отдельных исследований, при подавляющем большинстве из них историко-литературных. Таким образом, тема настоящей диссертации, безусловно, нуждается в научной разработке и особенно - теоретической.
Гипотеза исследования состоит в выделении литературы с главенствующим документальным началом в особый вид художественной литературы с выявлением характерных, только ему присущих черт, и рассмотрением важнейшей теоретической проблематики, относящейся к указанному феномену.
Материалом исследования служат как отечественные «документальные» повествования XX века, подобранные не просто в иллюстративном порядке, но в соответствии с мерой их методологической значимости для решения
7 задач, встающих перед наукой, так и теоретико-литературные работы, посвященные изучению предмета, указанного в заглавии диссертации.
Методология анализа заключена в следовании принципам историко-типологического познания литературы с опорой на отечественную традицию. «В отличие от структуралистского историко-типологический метод не "атоми-зирует" отдельные элементы произведения, не игнорирует системности в их содержании и поэтому не пренебрегает спецификой художественного творчества как разновидности познания» [Николаев, 1983: 289].
***
Отношения между искусством и действительностью как проблема присутствуют в эстетических теориях уже в начале классического периода древнегреческой культуры, что зафиксировано в термине «мимесис» («подражание»). Существовавшую еще в глубокой древности теорию воспроизведения природы искусством Сократ дополнил теорией идеализации природы посредством искусства.
Позднее Платон, основываясь на космологическом мотиве пифагорейцев и этических постулатах Сократа, увидит единственно оправданную цель художественного творения в открытии и воспроизведении той неповторимой формы, которая присуща каждой вещи. Философ противопоставлял вещь идее вещи, разграничивая чувственный мир и мир идей. Об особенностях платоновского понимания вещи А. Ф. Лосев писал: «Идея вещи в платонизме есть вечная и порождающая модель вещи. <...> Мир идей, о котором учит платонизм, относится уже не просто к мертвым вещам. Он определяет собою, осмысляет и организует уже и всю человеческую личность» [Лосев, 1978: 81]. Известно таюке скептическое отношение Платона к возможностям искусства, чье совершенство ничтожно по сравнению с совершенством мироздания. Согласно его концепции, произведение искусства необходимо должно соответствовать действительности, которую оно воспроизводит и законы которой должно соблюдать, а также тому морально-общественному порядку, которому оно должно служить.
8 «Поэтика» Аристотеля завершила сложную эволюцию понятия подражания и термина «мимесис». В отличие от Платона, видевшего цель искусства в точном воспроизведении форм бытия, и пифагорейцев, находивших эту цель в свободном изображении действительности, Аристотель впервые в термине «мимесис» соединяет обе характеристики, присущие искусству. «Так как поэт есть подражатель подобно живописцу или какому-нибудь другому художнику, то необходимо ему подражать непременно чему-нибудь одному из трех: или он должен изображать вещи так, как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть» [Аристотель, 1957: 127]. Аристотель защищал двойственную автономию искусства - как в отношении морали, так и в отношении правды, что, безусловно, было новацией в области античной эстетики.
Те самые взгляды, которые в Ш в. до н. э. провозглашались по-гречески, с небольшими изменениями формулировались спустя шесть веков по-латыни в Риме, что позволило позднее историкам культуры говорить об античности как об одном длительном периоде в развитии эстетической мысли. Только в конце ГП в. н. э., на стыке античности и средневековья, возникла эстетическая концепция, имевшая принципиальные отличия от предыдущих. Ее творцом был Плотин. «В философии Плотина старая миметическая концепция совершенно утратила свои основания: "Тому, кто не уважает искусств по причине их подражания природе, надлежит сказать... что искусства не просто подражают видимым предметам, но проникают в принципы, кои заключают в себе источник природы; кроме того, искусства многое созидают сами, ибо если где-нибудь имеется недостаток, то они его восполняют, так как сами содержат в себе прекрасное"» [Татаркевич, 1977: 305]. Таким образом, по мысли философа, художник воспроизводит не действительность, но внутреннюю форму (идею), пребывающую в его разуме. «Эта внутренняя форма не является, однако, его творением, а отражением вечного образца» [Татаркевич, 1977: 306].
Средневековая европейская эстетика в своих теоретических обоснованиях опиралась как на метафизику Плотина, так и на учение Псевдо-Дионисия, глав-
9 ного посредника между Плотином и неоплатониками. При этом осмысление, усвоение и переработка идей Платона и Аристотеля лежали в основе последующих литературных теорий, коими сопровождались все большие историко-литературные эпохи. И средневековье, — первая из этих эпох, связанная с античным образцом «особенно непосредственной, неопосредованной школьной преемственностью» [Аверинцев, 1996: 230]. Западное схоластическое средневековье, говорившее на латыни, растянувшееся почти на тысячу лет, в каком-то смысле представляет собой, по замечанию У. Эко, не столько размышление о реальности, сколько «комментарий к определенной культурной традиции». Новизна средневекового взгляда на отношения литературы и жизни состояла в стремлении воспринимать действительность как отражение трансцендентного. Сакральный смысл искусства предполагал постижение красоты в качестве нравственной и психологической реальности. А непосредственной задачей художника было направление читательского вкуса таким образом, чтобы устремленность к духовному всегда брала верх над интересом к чувственному.
Пришедшее в Европе на смену средневековью Возрождение культивировало представление о том, что чувственно воспринимаемая человеком картина мира и есть подлинная реальность. «Возрожденческая эстетика не хуже античной проповедует подражание природе. Однако, всматриваясь в эти возрожденческие теории подражания, мы сразу же замечаем, что на первом плане здесь не столько природа, сколько художник» [Лосев, 1978: 57]. Последний в своем стремлении эстетизировать действительность ставит искусство выше природы, а собственную фантазию не ограничивает слепым копированием и натуралистическим подражанием. «Эстетика Ренессанса, основанная на стихийном жиз-неутверждении человеческого субъекта, вообще успела пройти почти все этапы последующей истории эстетики, хотя этапы эти были пройдены слишком стихийно, слишком инстинктивно, с большой горячностью и пафосом и потому без необходимого здесь научного анализа и расчленения. <.„> Возрожденцы дошли до полного изолирования художественного образа от всей жизни и от всего бытия. Уже с начала XV в. раздавались голоса, что поэзия есть чистый вымы-
10 сел, что поэтому она не имеет никакого отношения к морали, что она ничего не утверждает и не отрицает, — это точка зрения, которая впоследствии (XX в.) будет принадлежать неопозитивизму» [Лосев, 1978: 59].
Барочная эстетика создает предпосылки для появления сложных, зашифрованных литературных произведений с «двойным дном»: «наивной» поверхностью и «поэтологической "тайной" всего целого» [Михайлов, 1994: 381].
На рубеже XVn-XVUI вв. искусство воспринималось как скопление правил и предписаний, диктуемых разумом, а задача художника виделась не в подражании природе, а в передаче «замысла природы», никогда ею до конца не осуществляемого.
Нормы и каноны классицизма, изложенные в «Поэтическом искусстве» Н. Буало, были призваны регламентировать рациональную природу эстетической деятельности. Вслед за Аристотелем классицизм считал искусство подражанием природе, однако последняя понималась не как чувственно-осязаемый мир, а как высшая умопостигаемая сущность мира и человека, как идея гармоничного сочетания природных реалий в идеально-прекрасном единстве. Именно такое единство классицизм нашел в античности, которая и была объявлена вечным эталоном искусства. Таким образом, действительность в классицистической литературе предстает не столько воспроизведенной, сколько смоделированной по античному образцу.
Однако на всем длительном историческом отрезке от античности до рубежа XVHI-XIX веков поэтику определяла не столько нормативность правил, сколько то, что «слово, которым пользуется поэзия, есть готовое слово. Это -слово, которое заранее дано поэту (или ученому, или оратору, и т. д.), - слово, данное как готовый смысл» [Михайлов, 1988: 310]. Такую систему взаимоотношений литературы и реальности А. В. Михайлов назвал морально-риторической, или мифориторической, системой слова. «В рамках такого риторического типа культуры истиной можно играть и над истиной можно смеяться, можно из каких бы то ни было соображений переворачивать истину, но опровергать и отрицать истину, собственно говоря, нельзя, потому что тут, в рамках
11 такого типа культуры, в конечном счете всегда совершенно твердо известно, что есть истина и что есть истина, а вместе с тем все истинное еще и морально-положительно, так что можно только как угодно сдвигать веса внутри системы, но изменить самое систему, при которой есть нечто истинное, правильное, доброе, благое, совершено немыслимо, как и невозможно сделать так, чтобы существовало какое-либо знание, не имеющее морального смысла и т. д.» [Михайлов, 1988: 310] Все изменилось только в начале XDC века.
Предшественники романтиков, Гете и Шиллер были близки в своих взглядах на взаимоотношения искусства и действительности. Так, Гете, как известно, различал три творческих метода: «простое подражание природе», «манеру» и стиль. В отличие от «простого подражания природе», «манера» предполагала создание художником собственного языка, «в котором дух говорящего себя запечатлевает и выражает непосредственно. И подобно тому, как мнения о вещах нравственного порядка в душе каждого, кто мыслит самостоятельно, обрисовываются и складываются по-своему, каждый художник этого толка будет по-своему видеть мир, воспринимать и воссоздавать его, будет вдумчиво или легкомысленно схватывать его явления, основательнее или поверхностнее их воспроизводить» [Гете, 1937: 400]. Стиль же, по мнению писателя, являясь наивысшим достижением в области творческого метода, должен соединить в себе оба предыдущих метода с целью достижения наиболее глубокой содержательности художественного произведения, изображающего действительность во всей ее онтологической полноте.
Сходны суждения Шиллера, утверждавшего, что изображаемое должно «свободно и победоносно» «выявиться из изображающего и, несмотря на все оковы языка, предстать пред воображением во всей своей правдивости, жизненности и индивидуальности» и что «красота поэтического изображения есть свободная самодеятельность природы в оковах языка» [Шиллер, 1956: 154].
С другой стороны, немецкая идеалистическая философия в лице Канта провозглашала принцип самодовления искусства в его чистой созерцательности. Искусство представало в эстетике Канта как изображение целесообразно-
12 сти без всякой цели и даже просто как игра. После этого «открылась возможность понимать искусство уже не как логически сконструированную область, но как некоего рода абсолютную действительность, которая выше всякой другой возможной действительности» [Лосев, 1994: 46]. Эстетическая теория Канта предваряла открытия романтизма.
Так, вслед за Кантом Шеллинг в трактате «Система трансцендентального идеализма» (1800) увидит в произведении искусства высшую и окончательную реальность. При этом демиургическои силой, направляющей и созидающей произведения искусства, для философа-романтика будут «понятия». В «Философии искусства» Шеллинг, отталкиваясь от платоновских идей, говорит о том, что «вещи живы только одним понятием и что подлинная действительность только и состоит из тех творческих понятий» [Шеллинг, 1966: 180]. «Магический идеализм» Новалиса относил все сферы бытия к области мифологии, делая тождественными природу и искусство, искусство и универсум. Романтическая мысль в полном смысле слова сотворяла действительность, заполняя изначальную пустоту образами, разворачивающимися «однолинейно, по канве своего сюжета и в согласии с риторическим принципом традиционной словесности» [Михайлов, 2000: 239].
Литературная практика в эпоху господства романтизма испытывала ярко выраженное давление со стороны теоретической мысли, прямо формировалась ею. Романтики пытались моделировать действительность с помощью определенных «формул» творчества: «думать обо всем, и обо всем сразу, о поэзии, политике, истории, причем взятой с предельным размахом и мыслимой широтой, и, наконец, думать обо всем как о целом - об органическом, живом целом, существующим по своим внутренним законам» [Михаилов, 1987: 15].
В «Эстетике» Гегеля искусство предстает слиянием идеи прекрасного и такого прекрасного, которое существует в природе. Идея философа, состоящая в том, что все разумное действительно, а все действительное разумно, как принято думать, оказала большое влияние на возникновение и развитие реализма в XIX веке.
В литературе реализм явился как реакция на романтизм. Новое направление подчинило искусство действительности. «Реализм начал осваивать историю как деятельность народов, как закономерное движение, начал постигать связь различных эпох и начал понимать личность, человека как произведение исторического движения и как носителя этого движения» [Михайлов, 1987: 214]. Реализм русской классики ХГХ века, реализм Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова вознес отечественную литературу на вершину мирового искусства. «Важнейшей чертой выдающихся произведений русского реализма было как раз то, что они не устанавливали ни компромиссов между ценностями жизни и ценностями "вообще", ни компромиссов между словом и реальностью, но утверждали отношение между жизнью в литературе и поэтическим словом как своего рода бесконечный процесс опосредования, как беспрестанное вращение - от жизни во всей ее правде к слову во всей его полновесности, от слова к жизни во всей ее реальности...» [Михайлов, 2005: 197].
Оттеняя подлинный реализм, в противовес ему, как тенденция, возник натурализм, который, питаясь идеями позитивизма, «понимал себя как углубление реализма - как более последовательный и точный реализм; стремление не "отстать" от действительности, не упустить из виду любых ее сторон, черт и черточек, которые так или иначе характеризуют действительность, приводило к тому, что действительность в изображении писателей-натуралистов распадается на отдельные фрагменты, в которые писатель всматривается как бы через микроскоп» [Михайлов, 2005: 210].
Литературная практика представителей «натуральной школы» нашла теоретическое осмысление в революционно-демократической эстетике.
В трактате Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), в качестве главного тезиса, была выдвинута идея превосходства действительности над искусством. «Поскольку ум не способен постигнуть что-либо, не доступное чувственному восприятию, доказывал Чернышевский, ничего не может быть прекраснее того, что в самом деле существует в действительности; следовательно, "прекрасное есть жизнь". Но если
14 считать действительность областью прекрасного, отсюда следует, что эстетические категории приложимы к явлениям действительной жизни. Величайший парадокс реализма заключается в том, что реалистическая эстетика, декларировав принцип отличия искусства от действительности, вызвала экспансию литературы в жизнь, вполне сравнимую с той экспансией искусства, которая происходила в эпохи романтизма и символизма, которые сознательно ориентировались на слияние искусства и жизни» [Паперио, 1996: 14].
Для позитивистской критики второй половины ХГХ века и прежде всего т. н. революционно-демократической с Добролюбовым и Чернышевским во главе главным критерием оценки художественного произведения было его содержание, по которому литературное создание «опознавалось» как полезное или вредное, а автор признавался «своим» или «чужим», точнее «чуждым». «В отличие от романтических литературных моделей, модель Черньшіевского была основана на антиэстетике. Идея плохого писателя, то есть автора эстетически слабого, практического человека (человека действия), политического деятеля и популяризатора науки, а не поэта, стала неотъемлемой частью его модели» [Паперио, 1996: 185]. Форма произведения, его эстетические достоинства, практически, не рассматривались, не принимались во внимание как предмет изучения, что свидетельствовало о явном перекосе в эстетической теории апологетов «критического реализма». Эта тенденция в отечественном литературном процессе будет господствовать достаточно долго, по меньшей мере до наступления новой переходной эпохи рубежа веков, приход которой ознаменует собой символизм1.
XX век, чрезвычайно пестрый и разнообразный в сфере искусства, отличался чрезвычайно сильно выраженной зависимостью литературного процесса от «направляющих» идей, как вырабатываемых в самой литературно-
Здесь и далее термин «символизм» употребляется с оглядкой на условность общепринятой терминологии. Рассмотрение различий между терминами «декаданс», «модернизм» и «символизм» в настоящей работе не предполагается.
15 философской среде, так и «спускаемых» сверху в виде прямых идеологических установок.
Уже с первых брюсовских сборников 1894 г. [См.: Русские символисты, 1894], заставивших заговорить о появлении символизма на русской почве, ясно обозначился характер той новизны, которая по воле ее привносителеи должна была свидетельствовать о наступлении иной эпохи в осмыслении отношений литературы (и шире — искусства) и жизни. С самого начала символизм определил себя «в неизгладимых словах Фридриха Ницше, как "переоценку всех ценностей"» [Эллис, 1996: 3].
О каких же ценностях шла речь? Очевидно, о тех, что покоились в основании мировоззренческих установок предшествующей эпохи. И тут неверно было бы думать, что подразумевался только натуралистический позитивизм, отталкивание шло и от всего реализма середины XIX века.
Пытаясь постичь дух нового направления в искусстве, один из его французских теоретиков писал: «Если мы хотим проникнуть в суть своеобразия символизма, вспомним о его разрыве с натурализмом. <...> Ибо общество обеспокоено описанием реальности, видя в нем свой собственный обличительный портрет, а не просто критику отдельных частностей. Однако же, возможно, еще большее беспокойство и тревогу внушает обществу искусство, которое презирает реальность в столь сильной степени, что интересуется одними лишь идеями. Судя по философскому словарю символизма, он представляет собой идеализм по преимуществу» [Кассу, 1998: 16. Курсив мой. — Е. М.].
Действительность в представлении символистов теряет свои четкие «реальные» очертания, представая скорее «тенью» и «обманом». Да и сама установка поэта — мимо, мимо нее:
Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу, -
Я люблю идеал человека.
Эти строки от жизни далеки...[Брюсов, 1973: 100]
Символисты полагали, что в искусстве должен быть запечатлен не реальный мир, который есть не более, чем призрак, некое профанное пространство, но лишь понимание художником реальности, ее особое вг/дение, на которое имели право только посвященные.
Опираясь на философское учение В. С. Соловьева, а также на различные мистические и оккультные системы, символисты усматривали возможность проникновения в опыт действительной жизни путем постижения «сверхсмысла». При этом построение культуры уподоблялось переходу проповеднического начала искусства в его интимное переживание. Отсюда стремление символистов «пересоздать» настоящее на основе выявления символического единства мира через проникновение в его «тайну».
Въедливому всматриванию в мельчайшие подробности и детали обыденной действительности, ее бесконечному дроблению на фрагменты, - всему тому, что было характерно для натуральной школы, символизм, вслед за романтизмом, противопоставил субъективно-мистическое созерцание мира, где искусству отводилась роль хранителя подлинных сокровищ человечества. В детали, вещи, образе скрывался тайный смысл. «Только в тот момент, когда мы выдвинем вопрос о жизни и смерти человечества... мы приблизимся к тому, что движет новым искусством. ... Людям серединных переживаний такое отношение к действительности кажется нереальным; они не ощущают, что вопрос о том, быть или не быть человечеству, реален», — писал А. Белый {Белый, 1911: 242-243]. Это туманное, на первый взгляд, суждение имеет непосредственное отношение к проблеме отношений искусства и реальности. Причем реальность здесь равна истории человечества. Символисты смотрели на искусство как на тайное знание, в котором содержались ключи к управлению миром. А значит искусство, литература имели прямое отношение к судьбам человечества, к истории, к действительности, глупым слепком которой они никогда не были. Скорее наоборот. Искусство было ответственно слишком за многое созданное в
17 жизни. Тема власти художника над жизнью, над умами простых смертных -одна из главных тем символизма.
Проповедуя «магический идеализм», Брюсов создает «иной идеальный мир, иную эстетическую действительность», в которой он «безграничный властелину} [Мочульский, 1997: 386. Курсив мой. —Е.М.]. Поэт ощущает себя проводником божественной идеи, сосудом, наполненным содержанием, закрытым даже для него самого. И в этом его высокая миссия — не покорять, но покоряться явленному внутри.
Творчество символистов демонстрировало приверженность нового искусства идеям, далеким от христианства. И. А. Есаулов верно отмечает: «Вчитавшись в статьи Вяч. Иванова, посвященные анализу творчества Скрябина, можно с достаточной степенью уверенности сказать, что теургическая "соборность" в истолковании символистов, как правило, кардинально отличается от соборности православной, имплицитно проявляющей себя в русской литературе ХТХ века» [Есаулов, 1995: 278]. Все это - и оккультизм, и утопические чаяния, и отрицание прошлого - как нельзя лучше соответствовало тем сокрушительным переменам, которые приближали революционную действительность.
Особенность культурной ситуации состояла также в том, что литературная теория в эту эпоху, так же, как и в некоторые другие, например, в эпоху романтизма, непосредственно формировала литературную практику.
В литературной теории XX век начался прежде всего с ревизии наследия психологической школы, а также революционно-демократической, народнической эстетики, т. е. непосредственно с ревизии идей Добролюбова, Чернышевского, Писарева, их последователей и эпигонов.
Символизм, наиболее яркое и новационное явление эпохи, в своих литературных манифестах провозгласил идею неотделимости формы от содержания, даровав тем самым области эстетического освоения действительности равновесное состояние.
Переосмысляя идеи предшественников, в частности, Гете, один из теоретиков русского символизма Вяч. Иванов писал: «Человек уступает этому вле-
18 чению подражательности или для того, чтобы вызвать в других наиболее близкое, по возможности адекватное представление о той или иной вещи, или же для того, чтобы создать представление о вещи заведомо отличное от нее, намеренно ей неадекватное, но более угодное и желанное, чем сама вещь. Реализм и идеализм изначала соприсутствуют задачам и устремлениям деятельности художественной, - и как бы они ни переплетались между собой, в какие бы ни входили они взаимные сочетания, оба везде различимы, как формы типа женского, рецептивного (реализм) и мужского, инициативного (идеализм)» [Иванов, 1994: 145]. Далее Вяч. Иванов, рассуждая о задачах нового искусства, видит смысл символистского творчества не в воспроизведении вещи как таковой, а в воспроизведении как бы ее идеала.
Вместе с тем намеренное отстранение от действительности, погружение в мир мечты, иллюзии, видений и т. п. не могло не вылиться в известную односторонность, ущербность символистского видения мира. И здесь уместно вспомнить концептуальное замечание А. В. Михайлова: «Весьма знаменательно то, что фактически натурализм и символизм не были диаметрально противоположными решениями творческих проблем <...>. Важнее противоположности между ними оказывалось связывавшее их общее - "экспериментальность" того и другого, значительная условность, недостаточно глубокая слитость с писательским "я". В конечном итоге — литературность такого слова. Именно потому, что за словом не стоит социальная или жизненная необходимость (как за словом морально-риторической системы и словом антириторическим), таким словом можно пользоваться куда более произвольно, связь слова и жизни нарушена, и нарушена в чем-то существенном. Отходя от реализма середины XIX в., писатель — учит нас опыт тогдашнего натурализма и символизма - либо вынужден отказываться от своего "я", заполняя произведение сырым материалом жизни (другое дело, что в таком, якобы, "сыром" материале нередко скрывался сугубый писательский произвол и субъективизм!), либо вынужден (что бывало чаще) отказываться от материала жизни, пестуя свое "я", развивая и выявляя
19 свою субъективность, свой - подчеркнутый - субъективизм» [Михайлов, 2005: 213].
Подобно романтизму, чью суть постичь практически невозможно, вглядываясь в нее со стороны, через напластования всего нового в культуре, суть символизма также неуловима и несводима в строгие рамки литературного направления или школы. И как следствие — огромная разница в оттенках и индивидуальных чертах его представителей, а также художников, лишь частично к нему примыкавших. Последних, кстати, было гораздо больше, нежели подлинных символистов, к которым, вероятно, безоговорочно, можно причислить только В. Брюсова, Вяч. Иванова, К. Бальмонта и А. Белого. Впрочем, сам Брюсов, «затеявший» в России символизм, во многом ощущал его не как потребность души, а как игру, как некую точку приложения сил. Отсюда зачастую в восприятии окружающих кипучая энергия Брюсова, пресуществляясь, отливалась в холодную маску, личину, почти демонстративно носимую.
Символисты больше других, хотя в этом и не единственные, понимали творчество как жизнетворчество. Брюсову вторит Вячеслав Иванов. В известнейшей из его статей «Заветы символизма», впервые напечатанной в «Аполлоне» (1910, № 8), он пишет, что искусство по природе своей действенное, а не созерцательное и, в конечном счете, «не иконотворчество, а жизнетворчество».
«Тип связи писателя с жизнью был, конечно, совсем иной, чем у реалистов и у натуралистов: с бытом связь была поверхностнее, с бытием — глубиннее. Требовал или не требовал поэта к священной лире Аполлон - творимая легенда продолжалась. Тога мага у Брюсова, репутация колдуна у Сологуба, уверения И. Анненского, что поэт должен "выдумать себя", штейнерианство Белого, хитон Волошина, африканские путешествия Гумилева - все это часть поэтического наследия, а поэзия — часть жизнетворчества» [Крейд, 1993: 14].
Говоря о жизнетворчестве как особом типе взаимоотношений литературы и реальности, стоит отметить, что это явление в XX веке, бесспорно, выходит за границы символизма, захватывая и поле иных литературно-философских и эс-
тетических исканий и поле литературной биографии писателей, стоящих на иной почве.
Уже к 1917 году символизм в России изжил себя. На смену модернистским течениям начала XX века приходят футуристы и позднее обэриуты с их упоением «формой», с другой - к этому времени вполне созревает новое направление с упором на «содержание», вскоре оно получит имя «социалистический реализм».
Активизация авангарда в России после 1917, по мнению А. И. Чагина, «имела (помимо "конъюнктуры" эпохи) глубинные основания собственно эстетического и мировоззренческого свойства» [Чагии, 1998, II: 30]. Известная «левизна» литературы и других видов искусства в те годы во многом была обусловлена революционным переворотом в жизни общества, сопровождавшимся попиранием нравственных устоев и отказом от традиционных ценностей.
«Форма, раскрепощенная символистами, переросла нормальные размеры в писаниях футуристов. Хлебников и Крученых, самые последовательные из них, - можно сказать, в несколько прыжков очутились в области "чистой формы". Постепенное и, наконец, полное изгнание какого бы то ни было "содержания" логически привело их сперва к "заумной поэзии", а там и к "заумному языку", воистину "простому, как мычание", облеченному в некую сомнительную "форму", но до блаженности очищенному от всякого "содержания"» [Ходасевич, 2002: 326].
Закономерность появления на русской почве футуристического и шире -авангардистского искусства словно была подтверждена параллельным возникновением в науке о литературе соответствующей школы — формализма.
Формальный метод в литературоведении, или попросту формализм, родился в 1917 году: в Петрограде во П выпуске «Сборников по теории поэтического языка» вышел его манифест — работа В. Шкловского «Искусство как прием». Именно здесь впервые были сформулированы ключевые для русского формализма понятия «прием», «остранение» и «автоматизация».
К середине 20-х годов примерно в том же, т. е. формальном, направлении
21 движется мысль многих видных литературоведов - В. Жирмунского («К вопросу о формальном методе», 1923), Б. Эйхенбаума («Теория "формального метода"», 1926), Ю. Тынянова («О литературной эволюции», 1927). Пытаясь объективно изучить новый метод в искусстве и в то же время рассматривая его изнутри, т. е. находясь на его же точке зрения, Б. Энгельгардт в работе 1927 года сформулировал важнейшие выводы из формальной теории: «I. С эстетической точки зрения художественное произведение должно рассматриваться как вещно-определенный ряд, подвергшийся специальному эстетическому оформлению и потому обладающий напряженной эстетической суггестивностью в качестве доминирующего признака. П. Задачей частной эстетики является эстетическое обоснование этого ряда во всех его элементах или - говоря иначе — выяснение эстетической функции всех особенностей его структуры, условно соответствующих видоизменениям, испытанным этим рядом в процессе оформления» [Энгельгардт, 1995: 52].
Формализм, возникнув как реакция, с одной стороны, на символистские литературные теории, а с другой - на русскую психологическую школу в филологии, в первую очередь, обрушился на своих ближайших предшественников. Именно полемике с Потебней и его последователями, в частности с Овсянико-Куликовским, а также с символистами посвящены первые страницы книги «Искусство как прием».
Шкловский провозглашает: «Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием "ост-ранения" вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ переэюить деланъе вещи, а сделанное в искусстве не валено» [Шкловский, 1983: 15]. Последние слова оказываются перчаткой, брошенной русской культуре, для которой идея, содержание в искусстве на протяжении веков выдвигались на передний план. Дуэль с формализмом не могла не состояться.
От лица «старой» России страстно выступил В. Ходасевич: «Формализм
22 есть писаревщина наизнанку - эстетизм, доведенный до нигилизма. <...> Неуважение к теме писателя, к тому, ради чего только и совершает он свой тяжелый подвиг, типично для формалистов. Правда, родилось оно из общения с футуристами, которые сами не знали за собой ни темы, ни подвига. Но, распространенное на художников иного склада, это неуважение превращается в принципиальное, вызывающее презрение к человеческой личности и глубоко роднит формализм с мироощущением большевиков. "Искусство есть прием". Какой отличный цветок для букета, в котором уже имеется: "религия - опиум для народа" и "человек произошел от обезьяны". Говоря о близости к большевизму, я нарочно говорю о формализме, а не о формалистах. Это потому, что я хочу быть точным. Формализм, как течение, несомненно, внутренне близок к большевизму, хотя это не сознается ни формалистами, ни большевиками и хотя обе стороны друг от друга открещиваются» [Ходасевич, 2002: 329].
Большевики тоже не заставили себя долго ждать: родства так и не признали и «съели» формализм. Все-таки к концу 1920-х годов новой власти уже никак невозможно было «смотреть сквозь пальцы» на идею «примата формы над содержанием». Последнее давно было объявлено сферой интересов государства, и идеи в этой области не только были наперечет и подотчетны соответствующему ведомству, но и вообще в качестве таковых рассматривались как главное достоинство, присущее искусству с его «воспитательной» ролью в строящейся стране советов. Несмотря на это, «20-е годы нельзя свести только к революционным идеям. Вопреки всему то была эпоха не только пролетарской псевдокультуры, но и великого искусства» [Ютнг, 2006: 348].
В 1930-е годы и позже востребованным и единственно приемлемым для новой власти оказался метод социалистического реализма, созревавший еще в недрах «старой» литературы и едва различимый тогда в «лесу» символизма начала века, окончательно теоретически оформившийся как раз к эпохе Ленина -Сталина. «Самым желательным типом писателя явился бы, конечно, такой, который соединил бы высокое искусство мастера и специалиста литературы с
23 четкостью мировоззрения пролетарского писателя» [Луначарский, 1927: 20]. Такова была идеологическая установка эпохи.
Вульгарный социологизм 1920-1930-х гг. даже идеологами советского государства рассматривался как «догматическое упрощение в области искусства», карикатурно искажавшее марксистскую теорию и обедняющее художественную практику победившего пролетариата. Вульгарный социологизм, на самом деле, будучи своего рода возвратом к эстетической традиции революционных демократов ХГХ в., отражал наиболее левые настроения в среде революционных художников, стремившихся в своем отрицании «старой» России и ее культуры дойти до крайней точки.
В 1930-е годы господствующим методом в искусстве объявляется социалистический реализм. Исторически социалистический реализм явился реакцией, с одной стороны, на формализм, а с другой - на вульгарный социологизм 20-30-х годов.
Творчество Горького положило начало синтезу реалистических и романтических тенденций в социалистическом искусстве. И хотя официально к романтизму в эту пору отношение было сложное, по поводу него велись довольно горячие споры - быть ему или не быть в социалистическом искусстве, на деле как тенденция он существовал, особенно зримо в поэзии, для которой на исходе века нашлось определение «охранительный романтизм».
«Деформации в литературном процессе советской эпохи связаны не только с насильственным вторжением в эстетическое развитие такой силы, как идеологическая политика большевиков (цензура, репрессии, постановления и целый ряд других "оргмероприятий", вплоть до "коллективизации" литературы). <...> В результате исторических событий второго десятилетия века изменился состав русских писателей и состав читательской аудитории, к которой они обращались. На общей сцене в советские годы сошлись действующие лица, принадлежащие к разным стадиям культурного развития. Уже это обстоятельство определило возникновение в русской культуре и литературе качественно новой эстетической ситуации» [Авраменко и др., 2006: 17].
24 На протяжении всей советской эпохи ярлыком «соцреализма», на самом деле, покрывались самые разнородные явления. Так, например, В. В. Кожинов рассматривал литературу этого периода как сосуществование нескольких враждебных друг другу течений - модернизма (М. Булгаков, О. Мандельштам и др.), авангардизма, в том числе умеренного авангардизма (В. Маяковский, А. Платонов и др.) и классики (М. Шолохов, А. Ахматова, Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, А. Твардовский и др.).
«Тихий Дон», как давно отмечено исследователями, никак не сводим к произведению социалистического реализма. Художественная правда этого романа такова, что моральный перевес оказывается не на стороне представителей новой власти - Михаила Кошевого и товарищей, а на стороне Григория Мелехова, носителя народного миросозерцания. В гибели русского казачества на совершенно определенном историческом рубеже - там, где социалистический реалист, вероятно, должен был увидеть торжество классовой справедливости, Шолохов увидел трагедию своего народа. Поэтому совершенно справедливо причисление Шолохова именно к классикам, продолжавшим традицию, идущую от Пушкина. О писателе-классике в XX веке так писал А. В. Михайлов: «Действительно, нет ничего общего, что определяло бы творчество писателя и его место в жизни, - нет общей системы творчества (какой была морально-риторическая система), нет народа, от имени которого говорил бы писатель, а есть только литературная и культурная история, в которой писатель определяет свое место в соответствии со своими взглядами и своей индивидуальной предрасположенностью. Чтобы стать большим, настоящим писателем, всякий писатель XX в. должен преодолеть в себе момент субъективности и произвола, должен заново завоевать историю и жизнь - но не полагаться лишь на то, что с самого начала заложено в данном ему литературном слове. Другими словами, он должен подлинно реализовать заключенную в литературном слове силу истории» [Михайлов, 2005: 215-216].
Реальность XX века оказалась такова, что сказать правду о ней стало сверхзадачей писателя, решить ее только привычными художественными сред-
25 ствами дано на поверку немногим, большинству же на помощь приходит именно документ. То, что это действительно так, кажется, подтверждается общностью побуждений, двигавших самыми разными авторами, чувствовавшими необходимость и даже более того - долг свой, опираясь на факты, свидетельствовать о пережитом: «Я считаю своим долгом запечатлеть эту нашу напряженную, неимоверно насыщенную драматизмом жизнь, ибо - я повторяю - мы были свидетелями этих невероятных перемен, каждого из нас вынудили быть таким свидетелем» [Цвейг, 2004: 8]; «"Положить печать на уста своя" - значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле. Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми» (Из предисловия неизвестного составителя к книге «Отец Арсений», сборнику литературно обработанных воспоминаний о подвиге современного исповедника) [Отец Арсений, 1994: 9] и т. п.
Особенности истории и культуры XX века — обретению литературным героем «вместо свободного мира идей - предельно необходимого и давящего мира объективного ужаса жизни» [Гинзбург, 1999: 327-328] - в высшей степени отвечало мощное развитие документального начала в литературе. Впервые факт приобрел в искусстве художественную самостоятельность, из чего последовало немало перемен, в частности, размывание не только прежнего понятия «литература», но и такого, казалось бы, устойчивого понятия как «писатель». .Явилась особого рода литература - «без писателя» (дневники, записки, письма неизвестных людей, тех, кого принято называть обывателем) и интерес к ней со стороны читающей публики оказался глубоким и устойчивым.
Феномену воспитавшегося «внутреннего писателя» (выражение П. В. Па-лиевского), т. е. нового образца читателя, соответствовало встречное выдвижение на авансцену литературы писателя, который, будучи зачастую автором од-ной-единственной книги, может быть, даже вовсе не предназначенной для печати, не только не был «профессионалом», но и не всегда вообще ощущал себя писателем в своем, когда осознанном, когда стихийном порыве «оставить по
26 себе слово». Многие произведения такого рода писателей появлялись в печати без всякого авторского участия, спустя годы и даже десятилетия после смерти автора, извлекаемые из пыльных архивных хранилищ. Человек XX века жадно вслушивался в голос современника...
Своеобразие литературного процесса в советскую эпоху заключалось в том, что он: а) определялся идеологическим давлением «сверху», подавлявшим всякое инакомыслие, лежащее на поверхности; б) будучи официально помещен в рамки одного метода - социалистического реализма, на деле, в вершинных своих произведениях, опрокидывая все методологические барьеры, прорывался к подлинной классике XX века, к искусству вечному; в) протекал по меньшей мере в двух «измерениях», в России и зарубежье, — именно поэтому ретроспективный взгляд на XX век полнее и всеохватнее того, которым в каждую минуту своего существования XX век осмыслял себя.
С опозданием на десятилетия к читателям пришли произведения целого ряда крупных писателей, сочинения М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, философов начала века. Их слову, рожденному где-то в начале века, было суждено с новой силой прозвучать ближе к его концу. И это слово после всего случившегося и пережитого обрело иной вес. «Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» [Балтии, 1986: 8]. Эти давние слова Бахтина, пробившись к читателю лишь на пороге иных времен, удивительным образом оказались созвучными новым идеям, уже овладевшим умами.
27 В России 80-90-е годы XX века пришли в литературу вместе с постмодернизмом2, явлением, со всей очевидностью, заданным как реакция и на соцреализм, и на классику XX века. Среди авторов наиболее известные - А. Битов, В. Маканин, Л. Петрушевская, Венедикт Ерофеев, В. Аксенов, Саша Соколов.
Как творческий метод постмодернизм ориентирован на модернизм начала XX века с его созданием «второй реальности», литературностью и увлечением гностицизмом. Он - дитя не только рубежа веков, но и рубежа цивилизаций, некая точка, поставленная в конце большого пути. «Основные понятия, которыми оперируют сторонники этого направления: "мир как хаос" и "постмодернистская чувствительность", "мир как текст" и "интертекстуальность", "кризис
_5Э СС,
авторитетов и эпистемологическая неуверенность , двойное кодирование и "пародийный модус повествования" или "пастиш", "противоречивость", "дискретность", "фрагментарность" повествования и "метарассказ"» [Ильин, 1996: 204].
Однако было бы ошибочным думать, что постмодернистские веяния в литературе последних десятилетий вытеснили иные тенденции. Разумеется, сохраняется реалистическое искусство, разумеется, творчество лучших современных писателей свидетельствует о «новом рождении классики», если воспользоваться словами В. В. Кожинова [См.: Коэ/синов, 2003: 23].
По мнению И. П. Ильина, постмодернизм на Западе утвердился уже в 1950-е гг.
Причины «пробуждения» факта и предпосылки развития «документальной» литературы в XX в
Существует точка зрения, согласно которой литература XX века по преимуществу отличалась особой склонностью к разного рода фальсификациям, часто возводя на пьедестал ничтожное, если не низменное. И это во многом справедливо. Размышляя об ушедшем столетии, В. Е. Хализев писал, что оно «ознаменовалось не только упрочением болезненно-кризисных художественных явлений, но и (это, конечно, главное) величественными взлетами разных видов искусства, в том числе литературы. Опыт писателей XX в. нуждается в непредвзятом теоретическом обсуждении» [Хализев, 2000: 88]. И далее ученый отмечал: «Ныне становится все более насущным подведение итогов как утратам, так и обретениям, имевшим место в художественной жизни нашего столетия» [Хализев, 2000: 88].
В числе таких обретений в литературе XX века видится среди прочего и прорыв в неизведанное, связанный прежде всего с тем, что впервые факт обрел «самостоятельное эстетическое значение» [Палиевскиіі, 1971: 421]. Литература с главенствующим документальным началом — подлинное открытие XX века, его вклад в культуру. По сути, это было революционным событием в культуре, неким водоразделом, отделившим литературу предыдущих эпох от литературы современной.
О существовании документального начала в литературе было известно с незапамятных времен: исторические хроники, мемуары, автобиографии и жизнеописания великих людей - все это были произведения, в которых присутствовала авторская установка на достоверность приводимых фактов, что, впрочем, не исключало возможность вымыпшенных построений, отвечающих художественной задаче. На протяжении веков вопрос о правдивости факта, иными словами, его реалистичности, не был актуален. Литература вымысла создавала действительность, подчас не более условную, чем сам окружающий мир.
Только во второй половине ХГХ столетия в служебном, подчиненном положении факта впервые намечаются какие-то сдвиги, открывающие новые возможности документа.
Процесс этот в определенной мере был спровоцирован, или лучше — подготовлен, самым ближайшим прошлым: эпохой расцвета культуры салонов и кружков первой половины столетия с ее культом писем, дневников, альбомов, записных книжек, записок — с одной стороны; растущей тягой к постижению «внутреннего человека» — с другой; первыми плодами разрушения патриархальных устоев и наступления века научно-технического «прогресса» — с третьей.
Начиная со второй половины ХГХ века, под влиянием идей Ипполита Тэ-на и французских романистов Эмиля Золя и братьев Гонкуров, и в европейской и в русской прозе все настойчивее начинает проявляться стремление к фактографии. Последнее, казалось, отвечало духу эпохи торжествующего позитивизма. Э. Золя заявлял, что «метафизический» человек умер и что наша почва изменяется вместе с «физиологическим» человеком. При этом писатель представлялся Э. Золя аналитиком, анатомом, собирателем человеческих документов и, наконец, ученым, признающим исключительно авторитет фактов.
«Появление беллетризованных биографий, дискуссии вокруг натуральной школы, расцвет физиологического очерка, мемуарных и автобиографических жанров, а также цепь мелких скандалов, которые были связаны с изображением реальных лиц в художественных произведениях и завершились в 1864 году большой полемикой вокруг прототипического романа Н. С. Лескова "Некуда", названного рецензентом "плохо подслушанными сплетнями, перенесенными в литературу", - все это стало прологом новой волны документализма 70-х годов» [Яковлева, 2006: 372-373].
Отношение к факту, его художественному освоению становится предметом дискуссий. Французские идеи на русской почве вызывали как восторженное почитание, так и полемическое неприятие. Так, Глеб Успенский, не приемля золаизма, предлагал молодым писателям ориентироваться не на «омерзительные изображения» «нана-туралистов», а «знакомиться с обесцвеченной жизнью по достоверным документам» [Успенский, 1886: 2].
В последней трети и в самом конце XIX века в русской словесности заметна тенденция протоколирования, документирования действительности - не только в журналистике, но и в литературе («Сибирь и каторга» С. В. Максимова, романы П. Д. Боборыкина, А. Ф. Писемского, «Трущобные люди», «Москва и москвичи» В. А. Гиляровского, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, произведения В. Г. Короленко, В. М. Дорошевича и др.). И все же общее увлечение писателей «фактом» не выводило последний из прежних тесных рамок материи, подчиненной сугубой воле художника: творческий дар литераторов помогал читателю заново «открывать» для себя действительность. В то же время крупнейшие писатели того времени - Достоевский и Лев Толстой - первыми почувствовали, что документ способен заговорить «сам по себе».
Достоевский вошел в литературу автобиографическими «Записками из Мертвого дома», поразившими современников реализмом повествования, возводящего документальный факт до символа.
В письме Н. Н. Страхову (1869) писатель проговаривает важную для него мысль: «В каждом нумере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать, их разъяснять и записывать?» [Достоевский, 1986: 19]. Достоевскому также принадлежит знаменитое высказывание: «...проследите иной, даже и не такой яркий факт действительной жизни, - и если только Вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» Щостоевский, 1939: 200].
Многие «факты действительной жизни», первоначально зафиксированные в «Дневнике писателя», пронзительно зазвучали затем в романах Достоевского. Толстой по-своему реагировал на художественные потенции «невымышленного» факта. Он говорил, что ему «стыдно писать про какого-нибудь Ивана Ивановича, тогда как никакого такого Ивана Ивановича не было», и даже предполагал, что вскоре «писатели, если они будут, перестанут выдумывать и начнут просто рассказывать о том, что им встретилось интересного в жизни». Пушкин счел возможным в «Дубровском» привести подлинный документ -«определение суда» по делу «о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову...», Л. Н. Толстой, в свою очередь, в повести «Хаджи Мурат» внес письмо Воронцова целиком без изменений в текст.
Резкая перемена в отношении к факту и его ответная экспансия в литературу, по переиначенному выражению Ю. Н. Тынянова, произошли в пору первой мировой войны и революции, именно тогда, когда по-настоящему, а не по календарю, наступил XX век. Это было время не только резкого слома эпох, но и тотального кризиса искусства, болезненно переживавшегося и фиксировавшегося в сознании многих чутких художников и мыслителей. Так, В. Вейдле в книге с характерным названием «Умирание искусства», впервые вышедшей в Париже в 1937 году, писал: «...искусство - не больной, ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения, искусству нет пути назад, в человеческий мир, согреваемый незримо божественным огнем, светящим сквозь густое облако. Искусство умирает не на своей эстетической поверхности, а в своей сердцевине, которая у него общая со строем человеческой души. Симптомами умирания являются: иссякание фантазии, расчеловечивание героя, вытеснение высокого чувства прагматическим расчетом» [Вейдле, 1991: 165].
Достоверность / недостоверность факта как теоретико-литературная проблема
Пожалуй, наиболее специфический вопрос, возникающий всякий раз, когда читатель сталкивается с «документальным» повествованием, - вопрос о достоверности факта. И если одни исследователи по-кантовски («Мысль изреченная есть ложь») ставят под сомнение как бы саму возможность совпадения действительности и ее изображения в документе («не оборачивается ли самый достоверный факт самым вдохновенным вымыслом в ту же минуту, когда его выбирают глаз и слух художника?» [Атаров, 1966: 187]), то другие, не склонные к подобной драматизации и абсолютизации ситуации, полагают, что достоверность факта в литературном произведении не только возможна в принципе, но есть непременное условие жизнеспособности книги в качестве документального повествования.
В этой связи, наверное, стоит вернуться к Горькому и его роли в развитии «литературы факта». Как мы помним, именно Горькому в СССР официально была отведена роль пропагандиста документального начала в искусстве. Помимо создания знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» и написания ряда очерков соответствующего плана, писатель оставил нам в наследство ряд весьма важных теоретических установок.
В 30-е годы прошлого века господствующим методом в искусстве был объявлен социалистический реализм. Отцом его справедливо почитается Максим Горький.
Роман Горького «Мать», написанный в лучших традициях революционно-демократической эстетики Чернышевского, наглядно продемонстрировал возможность «идейного» освоения действительности, при котором правда жизни была как бы заслонена от писателя некой иной, «исповедуемой» правдой. Причем характерно, что такая, взятая из головы, по выражению Достоевского, «людьми из бумажки», «идейно подкованная» правда вызывала к жизни художественную реальность, которая, в свою очередь, формировала советскую действительность. И здесь прямая параллель с ролью в русской культуре романа Чернышевского «Что делать?».
Размышляя над собственным методом в искусстве, Горький писал в 1935 году: «Думаю, что исходной точкой социалистического реализма надобно взять Энгельсово утверждение: жизнь есть сплошное и непрерывное движение, изменение» [Горький, 1956: 381]: По сути, это был всего лишь «мягкий» вариант тезиса, который тогда же «узаконила» и «освятила» партия. В газете «Правда» от 08. 05. 1934 в статье секретарей Оргкомитета ССП П. Юдина и А. Фадеева «Социалистический реализм - основной метод советской литературы» утверждалось: «Основное требование социалистического реализма — требование "правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии"». Для того чтобы писатель мог с успехом изображать «исторически конкретную действительность», ему настоятельно рекомендовалось неуклонно овладевать философией Маркса — Энгельса - Ленина.
Разделяя идеи марксизма, Горький предупреждал литераторов, что вопреки субъективным намерениям автора пассивное следование фактам - «неверный прием», «к нашей действительности неприложимый, искажающий ее» [Горький, 1956: 261, 263]. Как можно прочесть в трудах советских литературоведов, «Горький призывал писателей обличать отвратительное, ужасное, поднимать человека на борьбу с ним. Только такое отображение ужасного будет иметь право на жизнь в искусстве. Простая констатация отдельных фактов проявления "животного ужаса" подавляет человека и потому антигуманна. "Внешний ужас" - факты озверения, убийства — оправдан, если за ним видна нравственная или социальная сила, пробуждающая озверение, "рука, направляющая убийцу". Писатель, непосредственно изображающей социально-общественные "факты ужаса", должен подвести читателя в своем произведении к пониманию общего - к пониманию исторической закономерности действительности, ее ве 79 дущих тенденции» [Балабанова, 1960: 293]. Прямая зависимость теоретических выкладок Горького от господствовавшей идеологии очевидна. «Правда», за которую ратовал писатель, - не что иное, как разрешенная и благословленная властью «правда», к действительности имеющая отношение весьма далекое, если имеющая его вообще. Впрочем, тот или иной способ обращения с фактом никогда не проходит для человека, для писателя бесследно.
Характерно, что Горький, человек противоречивой и драматичной судьбы, оказался духовно сломленным под тяжестью фактов, которым он не отважился дать заговорить «самим по себе». Замечателен его приезд на Соловки, описанный в воспоминаниях академика Д. С. Лихачева, тогда узника лагеря. Позволим себе привести довольно пространную цитату: «В один прекрасный день подошел к пристани "Глеб Бокий" с Горьким на борту. Из окон Кримкаба виден был только пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой. За Горьким приехала монастырская коляска с Бог знает откуда добытой лошадью. А особа была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Ею оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно, по его мнению, как заправская чекистка. Наряд был обдуман. На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени. Мы все обрадовались, все заключенные. Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, и про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых и про "несудимые сроки"... Про все-все! Мы стали ждать. Уже за день или два до приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколонии воткнули елки. Для декорации. Из Кремля каждую ночь во тьму соловецких лесов уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Выдали чистые халаты в лазарете.
Ездил Горький по острову со своей "кожаной" спутницей немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведшей на второй этаж, был выстроен "персонал" в чистых халатах. Горький не поднялся наверх. Сказал "не люблю парадов" и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонии. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед бараком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонии я имел прямое отношение. После того как Горький зашел, — через десять или пятнадцать минут из барака вышел начальник Трудколонии командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским (сын белого генерала). Затем вышла часть колонистов. Горький остался по его требованию один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому "всю правду" — про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня были уже тогда карманные серебряные часы, подаренные мне отцом перед самой первой мировой войной и тайно привезенные на остров при первом свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала: "Горький про все узнал. Мальчик ему все рассказал!" Затем Горький был на Секирке. Там карцер преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере заключенных (тех, что имели более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из читавших, перевернул газету (тот демонстративно держал ее вверх ногами). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад - очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). Там очень немногие специалисты жили сравнительно удобно. Больше Горький на Соловках, как я помню, нигде не был. Он со снохой взошел на "Глеба Бокого" и там его уже развлекал специально подпоенный монашек из тех, про которых было известно, что выпить они "могут". А мальчика не стало сразу. Возможно -пока даже Горький еще не отъехал. О мальчике было много разговоров. Ох, как много. "А был ли мальчик?" Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь дали бы его... Но другие последствия приезда Горького на Соловки были еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть» [Лихачев, 1991: 128-129].
«Образ автора»: основные концепции в отечественной литературной теории XX века
Категория «образ автора» активно разрабатывалась филологами на протяжении всего XX века. Причем, если на Западе долгое время доминировала концепция «смерти автора», то в России проблема «образа автора» всегда рассматривалась со знаком «плюс».
Само понятие «образ автора» восходит к Сент-Бёву: «Моя привычка и мой критический метод обязывает раствориться в созданиях другого, стать на его место, забыть целиком себя, перевоплотиться в образ автора» [Сеит-Бёв, 1970: 49]. В России в XX веке удачно найденная формулировка Сент-Бёва окончательно утвердится в трудах теоретиков литературы.
«В современном литературоведении внятно различаются: 1) автор биографический — творческая личность, существующая во внехудожественной, первично-эмпирической реальности, и 2) автор в его внутритекстовом, художественном воплощении. ... Отношения автора, находящегося вне текста, и автора, запечатленного в тексте, отражаются в трудно поддающихся исчерпывающему описанию представлениях о субъективной и всеведущей авторской роли, авторском замысле, авторской концепции (идее, воле), обнаруживаемых в каждой "клеточке" повествования, в каждой составляющей текста и в художественном целом произведения» [Прозоров, 1999: 11]. За этим определением стоит многолетняя история научного поиска не одного поколения исследователей.
В частности, над построением стройной теории «автора» работал В. В. Виноградов. Размышления над этой проблемой присутствуют уже в его работах 1920-х годов, в частности, в статье «К построению теории поэтического языка. Учение о системах речи литературных произведений» (1927).
Ученый стремился рассмотреть историю русской литературы под особым углом зрения - сквозь призму категории «образа автора». За основу В. В. Виноградов принял положение Карамзина о всепроникающей активности «автора» («Teopeif всегда изобраэюается в творении и часто - против воли своей») [Карамзин, 1964: 120]; «автор» организует текст, «стягивая» в единое целое разветвленную структуру произведения. В то же время ученый отмечает и такой важный момент, как относительная независимость «образа автора» от изначального авторского замысла, воли писателя.
В. В. Виноградов дает подробное, многоаспектное и многоуровневое описание интересующей его категории: «Образ автора - это образ, складывающийся или созданный из основных черт творчества поэта. Он воплощает в себе и отражает в себе также и элементы художественно преобразованной его биографии» [Виноградов, 1971: 113]; «образ автора- это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это -концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и ч ерез них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого» {Виноградов, 1971: 118]; «Образ автора - это в европейской художественной литературе с XVI-XVII вв. — центр, фокус, в котором скрещиваются и объединяются, синтезируются все стилистические приемы произведений словесного искусства. ... Образ автора - это индивидуальная словесно-речевая структура, пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимодействие его элементов. Самые типы и формы этих соотношений внутри произведения и в его целостном облике исторически изменчивы и многообразны в зависимости от стилей и систем словесно-художественного творчества, которые, в свою очередь, определяются образом автора» [Виноградов, 1971: 151-152]. Как писал Д. С. Лихачев, В. В. Виноградов не считал возможным ограничивать изучение образа автора только проблемами языка и стиля. Не менее важно и положение о том, что образ автора не равен образу рассказчика. «Образ автора - это высшее объеди 146 нение всех речевых структур произведения, это идейно-стилистическое средоточие, объединяющее и порожденных автором образов рассказчиков. Рассказчик - это посредник между автором и литературной действительностью» [Лихачев, 1971:226].
В. В. Виноградов также связывал проблему «образа автора» с выполнением функции «создания иллюзии» («живой импровизации»), когда автор вступает в особые отношения с читателем, «запросто» общается с ним, имитируя самые разные разговорно-стилевые маски. Одним из главных открытий В. В. Виноградова является выведение закона литературного обновления — посредством «авторских» перевоплощений, смены разных ментальных, стилевых масок.
«Категория "образ автора", центральная для разработанной Виноградовым "науки о языке художественной литературы", оказала значительное влияние на отечественную интерпретацию проблемы автора» [Божцкая, 1986: 242].
Несмотря на имевшиеся разногласия, было много общего в позициях В. В. Виноградова и М. М. Бахтина, о чем рке неоднократно писали современные исследователи.
Размышляя над проблемой «автора», Бахтин выдвигает идею градации «создающего» и «созданного» на двух «авторских» уровнях: «Первичный (не созданный) и вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором). Первичный автор - natura поп creata quae creat (природа несотворенная и творящая - лат.); вторичный автор - natura creata quae creat (природа сотворенная и творящая - лат.)», тогда как герой — «природа сотворенная и нетворящая» [Бахтин, 1986: 525.]. Определяя литературное произведение как «живое художественное событие», ученый указывает на необходимость участия в нем двух сторон: героя и «автора-зрителя». По мнению ученого, возможны три общих типических случая отношения автора к герою: 1) герой завладевает автором; 2) автор завладевает героем; 3) герой является сам своим автором, осмысливает свою собственную жизнь эстетически. «При одном, едином и единственном участнике не может быть эстетического события; абсолютное сознание, которое не имеет ничего трансгредиентного себе, ничего вненаходящегося и огра 147 ничивающего извне, не может быть эстетизовано, ему можно только приобщиться, но его нельзя видеть как завершимое целое. Эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания» [Бахтин, 1986: 24-25].
Чрезвычайно важны рассуждения М. М. Бахтина о том, что «автор не только видит и знает все то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально недоступно, и в этом всегда определенном и устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения целого - как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого произведения» [Бахтин, 1986:16].
«Образ автора» в «невымышленной» прозе
Необходимо сразу отметить, что проблема «образа автора» до сих пор рассматривались в науке на материале художественной литературы, точнее «литературы вымысла». А между тем еще В. В. Виноградов писал: «Законы изменений структур литературно-художественных произведений и законы развития художественных стилей национальных литератур и мировой литературы в целом, не могут быть объяснены и открыты без тщательного изучения истори-ко-семантических трансформаций "образа автора" в разных типах и системах словесного творчества» [Виноградов, 1971: 151. Курсив мой. — Е. М.]. Особенно актуальным сегодня представляется рассмотрение проблемы сопряжения категорий «биографической личности» и «образа автора» в литературе с главенствующим документальным началом.
В связи с творчеством А. И. Солженицына эта тема затрагивалась М. М. Голубковым. По мысли ученого, произведения писателя «должны были дополняться образом их Автора, обладающего безупречной биографией, полной трагических испытаний (арест, тюрьма, лагерь), искушений (попытки Твардовского и Хрущева сделать из Солженицына советского писателя, критикующего культ личности Сталина, но не советскую систему в целом), не сломленного призывами "не допускать Солженицына к перу" (М. Шолохов), исключением из Союза писателей, угрозами физического уничтожения, заключением в Лефортовскую тюрьму, депортацией на Запад, исполненного нежеланием потакать новой ела emu по возвращении в Россию, положение которой он определил в книге "Россия в обвале" (1998). Художественные произведения и публицистика могли обрести свой истинный вес лишь тогда, когда в общественном сознании будет создан образ их несгибаемого творца» [Голубков, 2001,1: 17]. При этом, говоря об «образе автора» в художественных произведениях Солженицына, М. М. Голубков, подобно Б. А. Успенскому, склонен отождествлять «образ автора» с авторской «точкой зрения», «авторской позицией», выраженной различными эстетическими средствами. Вместе с тем в случае с Солженицыным, как подчеркивает М. М. Голубков, «восприятие художественного творчества вне образа Автора, созданного в публицистике и автобиографических произведениях, будет неполным и неадекватным. Корпус текстов и образ их творца составляют некое нерасторжимое единство» [Голубков, 2001, Г. 21].
Авторы многих произведений с главенствующим документальным началом были «писателями с биографией», что, безусловно, накладывало отпечаток на их творчество. Тем не менее категория «образ автора» в такого рода литературе имеет и вполне самостоятельное значение. Если без знания о биографическом авторе читатель еще может обойтись, то без «образа автора» перестанет существовать произведение как таковое, ибо «образ автора» можно сравнить с осью, вокруг которой вращается и без которой неизбежно распадается созданный писателем художественный мир.
Обратимся к двум произведениям, написанным почти на одну тему, почти на одном жизненном материале, почти одновременно - и вместе с тем совершенно разным, и попытаемся путем сопоставительного анализа выявить суть и первопричину несовпадения художественных миров. Речь пойдет о двух прозаических шедеврах XX века - автобиографической повести «Это мы, Господи!..» (1943) Константина Воробьева и черной комедии «Лес богов» Балиса Сруоги (1945).
В послесловии к книге мужа вдова К. Д. Воробьева писала: «Автобиографическая повесть "Это мы, Господи!.." была написана в 1943 году, когда группа партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была временно уйти в подполье. Ровно тридцать дней в доме № 8 на улице Глуосню в литовском городе Шяуляй писал Константин Воробьев о том, что довелось ему пережить в фашистском плену. Писал неистово, торопясь, зная, что смертельная опасность рядом и надо успеть».
Выпускник Краснознаменного Кремлевского училища, лейтенант Константин Воробьев (1919-1975) ушел на фронт в 1941, участвовал в боях за Москву, был ранен, попал в плен, два года провел в фашистских лагерях и тюрьмах, имел на счету несколько побегов, последний увенчался успехом - он вышел к своим и в дальнейшем продолжил борьбу в партизанском отряде. Судьба героя. Но Константину Воробьеву свыше был ниспослан дар Слова. Кадровый офицер, он стал большим писателем, обладавшим «абсолютным литературным слухом» [Томашевскшї, 2005: 263]. И первым неоспоримым доказательством этого стала повесть «Это мы, Господи!..».
Автор «Леса богов», литовский писатель Балис Сруога (1896-1947) был на поколение старше Константина Воробьева. К тому моменту, когда в 1943 году немцы заключили его в лагерь смерти «Штутгоф», он вполне состоялся и как литератор (поэт, драматург, публицист, литературовед, театровед, литературный критик, переводчик) и как ученый и преподаватель (получил докторскую степень по философии в 1924 году). С Россией его связывали годы учебы в Лесном институте в Петрограде, а затем на историко-филологическом факультете Петроградского и Московского университетов. Он был знаком со многими выдающимися современниками, в частности, с Юргисом Балтрушайтисом, Константином Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Максимом Горьким. Курсы русской литературы и русского фольклора читал он в Литовском университете, переименованном в 1930 году в Университет Витаутаса Великого, в Каунасе и в Вильнюсском университете. Ему принадлежит первый перевод «Слова о Полку Игореве» на литовский язык.
В 1921-1924 годах Балис Сруога учился в Германии, в Мюнхенском университете. Он был разносторонне одаренной личностью, европейски образованным человеком, принадлежал к когорте «старой профессуры».
Отношение его к Советской России было в целом отрицательным, что касается его мировоззрения, то оно вбирало в себя сложный комплекс идей - от христианской этики до буржуазных ценностей и национализма в его культурном проявлении.
Так же, как и Константин Воробьев, Балис Сруога создавал автобиографическое повествование о пребывании в концлагере Штутгоф «по горячим следам». Ему тоже важно было успеть... Вскоре после написания «Леса богов» писатель умер.
Обе книги дошли до читателя спустя годы: книга Сруоги - через двенадцать лет (русский перевод — тогда же, в 1957), книга Воробьева - почти через сорок лет.